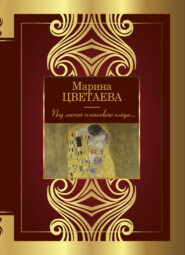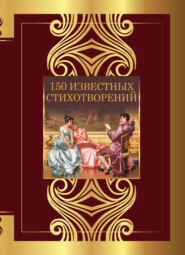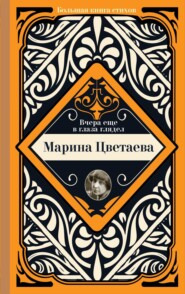По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Страховка жизни
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Страховка жизни
Марина Ивановна Цветаева
Автобиографическая проза
...Цветаевская проза с первых слов, с первых строк очаровывает, завораживает: перед читателем разворачивается музыкально-поэтическое полотно воспоминаний, критических замечаний, дневниковых записей. Это та Музыка, которая вылилась в Лирику, и та Лирика, которая породила Прозу, прозу лирическую, как определила ее сама Цветаева. Поэтому использование стихотворных приемов, поэтических образов в этой прозе закономерно. То, что не выплеснулось в стихи, высказалось в прозе, а так как в основе и того и другого лежат биографические факты, мы сталкиваемся с необычным явлением: Марина Цветаева рассказала о времени и о себе языком поэзии и прозы, и эти два жанра органично дополняют друг друга.
Марина Цветаева
Страховка жизни
Сидели, мирно ужинали, – а может, и обедали, дело слов, ибо салат все тот же, – итак, сливая русский ужин с французским обедом в римском салате, – ели: отец, мать и сын.
– Мама, а какие французы обильные, – вдруг сказал мальчик.
– Это не французы обильные, это русские обильные! – горячо сказала мать. – И вообще, так скорей принято говорить о странах.
– По-о-чему? – изумился мальчик. – Как страна может быть обильной? У нее же нет рук.
В эту секунду раздался стук в дверь, и мать, не успев распознать очередного сыновнего словесного метиса (habil’ный[1 - Habile (фр.) – ловкий, умелый.]), пошла открывать. На пороге, в полной тьме площадки, стоял кто-то очень высокий, с шляпой в руке.
– Извините, сударыня, – сказал он молодым голосом, – я – инспектор...
Мать, отступив, тем – впустила. Молодой человек по ее пятам шагнул в кухню, где и стал – между обеденным столом, посудным столом, газом, плитой, раковиной и стульями обедающих – вроде как бы на единственной сухой от прилива и твердой между пропастями пяди: одной ногой, перекинув через нее вторую, левую.
– Да? – не подымая глаз, спросила бровями мать, уже усевшись за салат.
– Простите, что я нарушаю ваш обед, но я инспектор и...
(“Налог! – мысленно произнесла она. – А ведь недавно вносили, или, может, опять вспомнили похищенного генерала и стали переписывать всех русских?”)
– Вот моя карточка, – продолжал молодой человек, поднося к ее глазам и тут же от них отымая (так детям на секунду показывают завтрашний “сюрприз” – распахнутую книжку с какой-то фотографией, может быть, действительно похожей, если бы она успела рассмотреть, во-первых, ее, во-вторых, подающего).
“Но почему же он не говорит Surete[2 - Полиция (фр.).] и не показывает знака? – подумала она, мысленно проделывая за него жест, открывающий знак. – И за что же нас арестовывать, наконец?”
– Assurance[3 - Страхование (фр.).], – точно в подтверждение прозвучал над ней его голос.
Услышав наконец роковое (ибо принятое за Sыretй) слово, она перестала есть и стала ждать.
– Я иду в Нюельмон, – продолжал сверху голос, – и осматриваю квартиры с точки зрения пожара.
(“Господи! – пронеслось у нее в голове. – А у меня плохой электрический шнур, весь в узлах и с постоянными взрывами! И что такое Нюельмон?”)
– Вы, кажется, не понимаете по-французски, – осведомился он, этим доводя до сознания присутствующих, что они с самой секунды его входа, в ответ на все его речи, не только не произнесли ни одного слова, но даже слога, так что он законно мог бы спросить: “Вы, кажется, лишены дара речи?”
– О нет! – воскликнула мать, задетая за живое, и от этого, действительно, оживая. – Мы отлично понимаем. Но, простите, что вам от нас нужно?
– Вы спрашиваете, что мне от вас нужно? – продолжал голос с усмешкой. – Я же вам сказал: я прохожу в Нюельмон.
“Безработный! – подумала она. – Очевидно, идет к себе в Нюельмон и по дороге осматривает печи. Нужно дать”. И, вскинув наконец глаза:
– Мы не очень богаты, – робко сказала она, – и печи у нас вычищены, но мы все-таки... – и тут же осеклась, потому что поняла, что видит над собой молодое, красивое, румяное, чисто выбритое и чисто вымытое, вовсе не безработное, а еще менее – печниково – лицо, под которым, по обратному пути глаз в тарелку, удостоверила и новый вишневый галстук, и чистый серый костюм.
– Так это именно для бедных! – оживился нюельмонец. – Богатым – что! Хоть вся их семья перемрет, – их жизнь от этого не нарушится. Это именно для неимущих, живущих трудом своих рук.
– Но что такое “это”? – приободрясь, спросила она.
– Страховка жизни, – разве я вам этого не сказал? – И, с новыми силами: – Я прохожу в Нюельмон (и вдруг она поняла, что никакого Нюельмона нет, что есть annuellement[4 - Вероятно, страховщик говорит: “Je passe annuellement” – “Я ежегодно делаю обход”], последний слог которого он произносит “мон”), – и больше всего стараюсь заинтересовать своим предложением именно малоимущих, живущих трудами рук своих.
(Переводя глаза на тонкие, с длинными пальцами, руки мужа:)
– Ваш муж – художник?
– Нет, – выдавил муж.
– Нет? – удостоверился он у жены.
– Нет, – подтвердила жена.
– Любопытно, – задумался он, – я был уверен, что он художник. Я, вообще, буду говорить с вами, потому что ваш супруг имеет вид не понимающего по-французски. Итак, это именно важно для живущих трудом своих рук. Представьте себе, Madame, что вы имеете несчастье потерять своего мужа, – развязно, точно говоря не о здесь присутствующем, явно живущем и жующем муже, а о каком-то аллегорическом лице, которого та никогда и в глаза не видала и потерять которого, посему, никак не может. – И останетесь одна, с тремя малолетними детьми, младшим – грудным.
– У меня нет грудных детей, – ответила она, – мальчику, которого вы видите, девять лет.
– Но у других есть, вы же не можете сказать, что у других их нет, – ласково (так урезонивают успешного, но завравшегося ученика на экзамене) поправил инспектор. – Я знал одну женщину, у нее было шестеро малолетних, и когда ее муж упал со стройки...
– Ох! – вскрикнула она, содрогаясь от этого ужасного видения. – Какой ужас! С высока упал?
– Да, с седьмого, – подтвердил инспектор, утверждаясь на второй ноге, – и я сам выдал ей премию. Вы думаете – она не была рада?
– Какой ужас! – вторично и совсем по-другому воскликнула слушательница. – Какой ужас – радость таким деньгам!
– Но у нее были дети, – наставительно продолжал инспектор, – шестеро малолетних детей, и она не смерти их отца радовалась, а их благополучию. И если бы вы, Madame, имели несчастье лишиться своего мужа...
– Слушайте! – воскликнула она. – Вы уже второй раз говорите мне о смерти моего мужа. Это противно. У нас так не делают, при живом. Мы – иностранцы, я даже вам скажу, что мы – русские, и (уже на ходу, переходя в другую комнату за папиросами) русские своими ушами таких вещей слышать не могут, русские могут слышать только про свою смерть. Да!
– Madame, – звучал уже из коридора голос молодого человека, – вы меня не так поняли, я вовсе не хотел сказать, что вы непременно потеряете своего мужа, я только хотел сказать, что это с вами, как со всякой, может случиться.
– Теперь вы это говорите в третий раз! – взорвалась молодая женщина, уже куря и идя прямо на него и этим водворяя его в кухню. – И я этого больше слышать не хочу. Если это – страховка жизни, объявляю вам, что я чужих жизней не страхую.
– Но если Monsieur сам бы застраховал свою?
– Ни чужих, ни своих, это у нас не в крови, а кроме того, у нас нет денег, мы должны переезжать на другую квартиру, и...
– Но мое предложение как раз и рассчитано на лиц, переезжающих на другую квартиру. Во время квартирного переезда тоже могут быть несчастные случаи: стоявший шкаф, например, – шкаф, стоявший двадцать лет, – зеркальный шкаф, вы меня понимаете? – внезапно падает, и...
(“Какой ужас! – и она даже закрыла глаза. – Именно наш шкаф, данный нам именно за нестойкость...”)
– Мы не боимся падающих шкафов, – твердо сказала она, – мы, конечно, все делаем, чтобы шкаф не упал, но когда шкаф – падает, это – судьба, понимаете? Так вам ответит каждый русский.
– Русские всегда говорят “нет”, – задумчиво сказал молодой человек, покачиваясь в коленях, – в Медоне (я живу в Медоне) есть целый русский дом, который не говорит по-французски. Стучишь в дверь, выходит господин или дама и говорит: “Niet”. Тогда я сразу ухожу, потому что знаю, что меня не поймут. Да, не часто меня понимают так, как вы, Madame. И, чтобы возвратиться к страховке...
Марина Ивановна Цветаева
Автобиографическая проза
...Цветаевская проза с первых слов, с первых строк очаровывает, завораживает: перед читателем разворачивается музыкально-поэтическое полотно воспоминаний, критических замечаний, дневниковых записей. Это та Музыка, которая вылилась в Лирику, и та Лирика, которая породила Прозу, прозу лирическую, как определила ее сама Цветаева. Поэтому использование стихотворных приемов, поэтических образов в этой прозе закономерно. То, что не выплеснулось в стихи, высказалось в прозе, а так как в основе и того и другого лежат биографические факты, мы сталкиваемся с необычным явлением: Марина Цветаева рассказала о времени и о себе языком поэзии и прозы, и эти два жанра органично дополняют друг друга.
Марина Цветаева
Страховка жизни
Сидели, мирно ужинали, – а может, и обедали, дело слов, ибо салат все тот же, – итак, сливая русский ужин с французским обедом в римском салате, – ели: отец, мать и сын.
– Мама, а какие французы обильные, – вдруг сказал мальчик.
– Это не французы обильные, это русские обильные! – горячо сказала мать. – И вообще, так скорей принято говорить о странах.
– По-о-чему? – изумился мальчик. – Как страна может быть обильной? У нее же нет рук.
В эту секунду раздался стук в дверь, и мать, не успев распознать очередного сыновнего словесного метиса (habil’ный[1 - Habile (фр.) – ловкий, умелый.]), пошла открывать. На пороге, в полной тьме площадки, стоял кто-то очень высокий, с шляпой в руке.
– Извините, сударыня, – сказал он молодым голосом, – я – инспектор...
Мать, отступив, тем – впустила. Молодой человек по ее пятам шагнул в кухню, где и стал – между обеденным столом, посудным столом, газом, плитой, раковиной и стульями обедающих – вроде как бы на единственной сухой от прилива и твердой между пропастями пяди: одной ногой, перекинув через нее вторую, левую.
– Да? – не подымая глаз, спросила бровями мать, уже усевшись за салат.
– Простите, что я нарушаю ваш обед, но я инспектор и...
(“Налог! – мысленно произнесла она. – А ведь недавно вносили, или, может, опять вспомнили похищенного генерала и стали переписывать всех русских?”)
– Вот моя карточка, – продолжал молодой человек, поднося к ее глазам и тут же от них отымая (так детям на секунду показывают завтрашний “сюрприз” – распахнутую книжку с какой-то фотографией, может быть, действительно похожей, если бы она успела рассмотреть, во-первых, ее, во-вторых, подающего).
“Но почему же он не говорит Surete[2 - Полиция (фр.).] и не показывает знака? – подумала она, мысленно проделывая за него жест, открывающий знак. – И за что же нас арестовывать, наконец?”
– Assurance[3 - Страхование (фр.).], – точно в подтверждение прозвучал над ней его голос.
Услышав наконец роковое (ибо принятое за Sыretй) слово, она перестала есть и стала ждать.
– Я иду в Нюельмон, – продолжал сверху голос, – и осматриваю квартиры с точки зрения пожара.
(“Господи! – пронеслось у нее в голове. – А у меня плохой электрический шнур, весь в узлах и с постоянными взрывами! И что такое Нюельмон?”)
– Вы, кажется, не понимаете по-французски, – осведомился он, этим доводя до сознания присутствующих, что они с самой секунды его входа, в ответ на все его речи, не только не произнесли ни одного слова, но даже слога, так что он законно мог бы спросить: “Вы, кажется, лишены дара речи?”
– О нет! – воскликнула мать, задетая за живое, и от этого, действительно, оживая. – Мы отлично понимаем. Но, простите, что вам от нас нужно?
– Вы спрашиваете, что мне от вас нужно? – продолжал голос с усмешкой. – Я же вам сказал: я прохожу в Нюельмон.
“Безработный! – подумала она. – Очевидно, идет к себе в Нюельмон и по дороге осматривает печи. Нужно дать”. И, вскинув наконец глаза:
– Мы не очень богаты, – робко сказала она, – и печи у нас вычищены, но мы все-таки... – и тут же осеклась, потому что поняла, что видит над собой молодое, красивое, румяное, чисто выбритое и чисто вымытое, вовсе не безработное, а еще менее – печниково – лицо, под которым, по обратному пути глаз в тарелку, удостоверила и новый вишневый галстук, и чистый серый костюм.
– Так это именно для бедных! – оживился нюельмонец. – Богатым – что! Хоть вся их семья перемрет, – их жизнь от этого не нарушится. Это именно для неимущих, живущих трудом своих рук.
– Но что такое “это”? – приободрясь, спросила она.
– Страховка жизни, – разве я вам этого не сказал? – И, с новыми силами: – Я прохожу в Нюельмон (и вдруг она поняла, что никакого Нюельмона нет, что есть annuellement[4 - Вероятно, страховщик говорит: “Je passe annuellement” – “Я ежегодно делаю обход”], последний слог которого он произносит “мон”), – и больше всего стараюсь заинтересовать своим предложением именно малоимущих, живущих трудами рук своих.
(Переводя глаза на тонкие, с длинными пальцами, руки мужа:)
– Ваш муж – художник?
– Нет, – выдавил муж.
– Нет? – удостоверился он у жены.
– Нет, – подтвердила жена.
– Любопытно, – задумался он, – я был уверен, что он художник. Я, вообще, буду говорить с вами, потому что ваш супруг имеет вид не понимающего по-французски. Итак, это именно важно для живущих трудом своих рук. Представьте себе, Madame, что вы имеете несчастье потерять своего мужа, – развязно, точно говоря не о здесь присутствующем, явно живущем и жующем муже, а о каком-то аллегорическом лице, которого та никогда и в глаза не видала и потерять которого, посему, никак не может. – И останетесь одна, с тремя малолетними детьми, младшим – грудным.
– У меня нет грудных детей, – ответила она, – мальчику, которого вы видите, девять лет.
– Но у других есть, вы же не можете сказать, что у других их нет, – ласково (так урезонивают успешного, но завравшегося ученика на экзамене) поправил инспектор. – Я знал одну женщину, у нее было шестеро малолетних, и когда ее муж упал со стройки...
– Ох! – вскрикнула она, содрогаясь от этого ужасного видения. – Какой ужас! С высока упал?
– Да, с седьмого, – подтвердил инспектор, утверждаясь на второй ноге, – и я сам выдал ей премию. Вы думаете – она не была рада?
– Какой ужас! – вторично и совсем по-другому воскликнула слушательница. – Какой ужас – радость таким деньгам!
– Но у нее были дети, – наставительно продолжал инспектор, – шестеро малолетних детей, и она не смерти их отца радовалась, а их благополучию. И если бы вы, Madame, имели несчастье лишиться своего мужа...
– Слушайте! – воскликнула она. – Вы уже второй раз говорите мне о смерти моего мужа. Это противно. У нас так не делают, при живом. Мы – иностранцы, я даже вам скажу, что мы – русские, и (уже на ходу, переходя в другую комнату за папиросами) русские своими ушами таких вещей слышать не могут, русские могут слышать только про свою смерть. Да!
– Madame, – звучал уже из коридора голос молодого человека, – вы меня не так поняли, я вовсе не хотел сказать, что вы непременно потеряете своего мужа, я только хотел сказать, что это с вами, как со всякой, может случиться.
– Теперь вы это говорите в третий раз! – взорвалась молодая женщина, уже куря и идя прямо на него и этим водворяя его в кухню. – И я этого больше слышать не хочу. Если это – страховка жизни, объявляю вам, что я чужих жизней не страхую.
– Но если Monsieur сам бы застраховал свою?
– Ни чужих, ни своих, это у нас не в крови, а кроме того, у нас нет денег, мы должны переезжать на другую квартиру, и...
– Но мое предложение как раз и рассчитано на лиц, переезжающих на другую квартиру. Во время квартирного переезда тоже могут быть несчастные случаи: стоявший шкаф, например, – шкаф, стоявший двадцать лет, – зеркальный шкаф, вы меня понимаете? – внезапно падает, и...
(“Какой ужас! – и она даже закрыла глаза. – Именно наш шкаф, данный нам именно за нестойкость...”)
– Мы не боимся падающих шкафов, – твердо сказала она, – мы, конечно, все делаем, чтобы шкаф не упал, но когда шкаф – падает, это – судьба, понимаете? Так вам ответит каждый русский.
– Русские всегда говорят “нет”, – задумчиво сказал молодой человек, покачиваясь в коленях, – в Медоне (я живу в Медоне) есть целый русский дом, который не говорит по-французски. Стучишь в дверь, выходит господин или дама и говорит: “Niet”. Тогда я сразу ухожу, потому что знаю, что меня не поймут. Да, не часто меня понимают так, как вы, Madame. И, чтобы возвратиться к страховке...