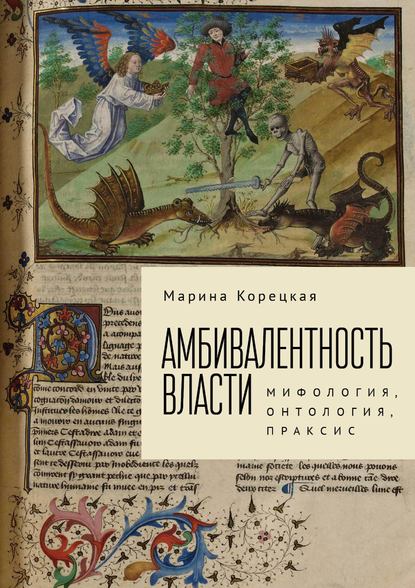По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Амбивалентность власти. Мифология, онтология, праксис
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
suer ?/-nes’), нечто желанное, достигнутое, откуда – «хорошая (благая) вещь», «желанная вещь», «благо», «имущество». Авест. х?а?nаh, «слава», «величие», «блеск», «сияние», «харизма» и т. п., согд. ргn, «слава», «знамение» и т. п., осет. farn, «обилие», «счастье», «мир», др.-перс. farna, ср.-перс. xvarrah, «царская слава», «царское величество», перс. farr, «блеск», «великолепие», «пышность» и т. п., согд. prn, frn, сакск. ph?rra, «положение», «ранг», «достоинство», «звание» и т. д. См.: Фарн // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. – М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия». – С. 557.], так что и то и другое исходно обозначает крайне важную для индоевропейцев мифологему золотого сияющего благодатного солнечного огня. Фарн в качестве божественного огня типичным для солнце- и огнепоклонников (каковыми и были иранцы) образом понимался как сила, приносящая богатство, власть и могущество, то есть как державная сила[57 - «Фарн – объект восхвалений («Яшт» XIX), он непобедим и могуществен: он спутник победы, являющийся в виде сияющего огня («Перед Митрой летит пылающий огонь, могущественный фарн кави», «Яшт» Х 127). Образ сияющего фарна, высшей божественной доли, находящейся в обладании верховной власти (царя), получил воплощение в царском нимбе. Более поздняя традиция усвоила образ фар-на как символ незыблемости шахской власти в Иране». Там же.]. Кроме того, это также счастье, хорошая доля, удача («фарт») и более конкретно, богатство. Поэтому он воплощается в членах рода, доме, еде, золоте, баранах и овечьих шкурах и шерсти. Золото и бараны понимались как магический субститут фарна по причине понятных аналогий – солнечный немеркнущий блеск золота и спиральные рога баранов, также читающиеся как солярный символ. Наиболее подробная концептуализация фарна принадлежит В. Ю. Михайлину, который не только показывает связь различных аспектов этой мифологемы, но также эксплицирует ее социальный смысл[58 - Концепт фарна используется в качестве одного из ключевых в различных главах книги В. Ю. Михайлина «Тропа звериных слов». См.: Михайлин В. Ю. Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные культурные коды в индоевропейской традиции. – М.: Новое литературное обозрение, 2005.]. Фарн в значительной степени является понятием, относящимся к престижу рода в целом[59 - «В контексте архаических индоевропейских культур, одной из базисных категорий, приобретающих принципиально разный смысл в зависимости от территориальной означенности, является категория коллективного (и в первую очередь семейно-родового) «блага», «счастья» или «удачи», для которой в дальнейшем будет использоваться иранский по происхождению термин «фарн» – расширительно и условно, как термин функционально-типологический и применимый отнюдь не только к иранским и даже не только к индоевропейским культурным реалиям. Фарн является достоянием всей совокупности людей, принадлежащих к данной группе – как живых, так и мертвых. И одним из условий его «правильного» распространения и распределения является налаживание «подобающих» отношений между всеми составляющими группы» См.: Михайлин В. Ю. Неопределенность мужского статуса как основа эпического конфликта: дилемма Ахилла. – URL: http:// www.sociology.vuzllib.su/book_o046_page_47.html (дата обращения 21.19.2014).], каждый представитель которого наделяется своей долей фарна и несет перед родом ответственность за то, как он ею распорядится. Долг каждого члена группы – преумножение родового фарна, но эта цель может достигаться разными способами в зависимости от того, каков статус того или иного индивида и, соответственно, каковы его возможности, а потому возможны разные модели поведения и разные сценарии судьбы.
Можно сказать, что за харизмой и фарном стоит одна и та же культурно-антропологическая реалия, поэтому данные концепты можно считать в значительной степени совпадающими. И их различие связано с теми нюансами, которые важны в зависимости от цели исследования. В данном исследовании в качестве ключевого концепта используется именно «харизма», поскольку она, как представляется, в несколько большей степени характеризует индивида в его персональных действиях и взаимоотношениях с богами, в то время как фарн ориентирует прежде всего на анализ отношений индивида с его семейным кланом. Хотя, конечно, это различие нельзя считать радикальным, поскольку и в персидской, и в греческой культуре достойные или недостойные действия персонажа всегда сказываются на судьбе его рода в целом, и наоборот, индивидуальные амбиции оказываются в значительной степени производными от амбиций рода. Кроме того, поскольку задача заключается в том, чтобы проблематизировать взаимосвязь актов трансгрессии и сакрализации власти, удобнее концептуальная пара «хюбрис» и «харизма» (концептуальная связка «хюбриса» и «фарна» выглядела бы несколько странно). К тому же представляется важным удержать в перспективе тот шлейф коннотаций, которым харизма уже «обросла» в гуманитарных исследованиях и даже просто в повседневном словоупотреблении.
Параллель харизмы и фарна подводит нас к постановке проблемы престижа в терминах, как выразился бы Ж. Бодрийяр, «символического обмена и смерти». Харизма, будучи не субстанцией, а энергией, неустойчива и подвижна: ее можно ситуативным образом получить в дар от богов, но ее необычайно легко утратить. Поскольку речь идет о даре, а в случае с фарном также буквально и о богатстве, соответственно, имеет смысл вслед за М. Моссом и Ж. Батаем поговорить об экономике престижных трат. Подлежат ли престиж и слава присвоению, накоплению, запасанию, складированию впрок? Стратегии обращения с этими символическими богатствами далеко не однозначны. Задача рода – увеличивать фарн, накапливать его. И вроде бы золото (как субститут фарна) неплохо складируется и хранится, так же как подлежат увеличению стада. В то же время совершенно непонятно, каким образом можно запасать суггестивный заряд харизмы. Если количество присвоенных богатств просто и напрямую свидетельствует о величине удачи и, соответственно, харизматичности, это на первый взгляд означает элементарную и прямую стратегию присвоения и накопления. Однако харизма – дар богов, а дар следует возмещать: соответственно, вопрос в том, каким образом можно отдариться за харизму?
Если верить М. Моссу, анализирующему систему обменов в архаических обществах[60 - Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / Пер. с фр., послесл. и коммент. А. Б. Гофмана; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М.: Восточная литература, 1996.] (он, конечно, делает это на материале практик, описанных в обществах полинезийцев и североамериканских индейцев, а не греков, но формулирует выводы общеантропологического характера), богатства нужны прежде всего для того, чтобы осуществлять обмен. Этот обмен каждый индивид внутри коллектива одновременно ведет, во-первых, с другими индивидами, во-вторых, с другими фратриями (и шире, кланами, племенами), в-третьих, с собственными предками и, в-четвертых, с богами. Грамматика обменов, которая предполагает, что каждый обязан давать дары, принимать дары и возмещать их, и будет удерживать общества в их целостном, упорядоченном и одновременно подвижном состоянии. В процессе обменов движущим мотивом оказывается отнюдь не выживание и экономическое благополучие, а борьба за престиж. И престижем будет обладать не тот, у кого больше состояние, а тот, кто способен сделать наиболее щедрый дар – в пределе дар, который не подлежит возмещению. Поэтому потлач как практика возгонки престижных трат и упирается в прямое уничтожение богатств, производимое публичным образом. Причем уничтожались не излишки, а самое что ни на есть необходимое, так что племя могло целый год после этого буквально голодать. Экономический смысл этого мероприятия был не в том, чтобы по непонятным причинам уничтожить экономику на корню, а в том, чтобы таким экстремальным способом заклинать удачу. Уничтожая богатства, фактически их приносили в дар предкам и богам, а не отправляли просто в небытие[61 - «Точный смысл и цель жертвенного уничтожения – служить даром, который обязательно будет возмещен. Все формы потлача северо-запада Америки и северо-востока Азии знакомы с этой темой уничтожения. Предают смерти рабов, жгут драгоценный жир, выбрасывают в море медные изделия и даже сжигают дома вождей не только для того, чтобы продемонстрировать власть, богатство, бескорыстие, но и для того, чтобы принести в жертву духам и богам, в действительности смешиваемым с их живыми воплощениями, носителей их титулов, их признанных союзников». Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / Пер. с фр., послесл. и коммент. А. Б. Гофмана; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. М.: Восточная литература, 1996. – С. 107. «Потребление и разрушение при этом не знают границ. В некоторых видах потлача от человека требуют истратить все, что у него есть, и ничего не оставить себе. Тот, кому предстоит быть самым богатым, должен быть самым безумным расточителем. Принцип антагонизма и соперничества составляет основу всего». – Там же. – С. 140.] (как это показалось Ж. Батаю). И, соответственно, поскольку ключевая характеристика обмена дарами – реципрокальность, предки и боги были обязаны возместить затраты (так же как одаренные соседи считали делом чести отдариться с повышением ставок). Соответственно, для взращивания удачи, богатства, престижа, власти следовало постоянно повышать ставки в игре, не затормаживая процессы обмена сакральной энергией. При этом, поскольку речь идет об эскалации щедрости, наиболее щедрым даром будет все-таки не имущество, а жизнь. А циркуляция маны оказывается не чем иным, как буквальной и символической циркуляцией смерти: она предполагает обмен между живыми и мертвыми, или обратимость жизни и смерти как характеристик социальных статусов. Логика обратимости и циркуляции такова: предки – это те поколения, которые жили и умерли, живые живут сейчас, чтобы после присоединиться к мертвым. В праздничной атмосфере живые и мертвые встречаются, чтобы произвести обмен и поддержать отношения. Предметом обмена может быть юноша, проходящий инициацию, – он попадает в руки предков, чтобы потом вернуться к живым, чтобы потом когда-нибудь самому стать предком. Уничтожая богатства в ритуале, живые отдают их мертвым, чтобы те, в свою очередь, самым щедрым образом помогли увеличивать богатства живых. [62 - См. главу «Обмен смерти при первобытном строе». (Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000. – С. 242–259.)]
В гораздо более радикальном виде эту мысль мы обнаруживаем у Ж. Батая[63 - Батай Ж. Суверенность // Батай Ж. «Проклятая часть»: сакральная социология / Пер. с фр. – М.: Ладомир, 2006.], утверждавшего, что жертвоприношение и война – вот самые эффективные способы поднятия престижа. В его терминологии аристократическая суверенность начинается с готовности убивать и быть убитым – в этом пункте Батай продолжает знаменитый гегелевский сюжет о диалектике господина и раба[64 - См. подробнее параграф «Признание и негативность: полемика вокруг диалектики господина и раба» Второй главы и параграф «Виртуальная война в терминах господства: в поисках утраченной суверенности» Третьей главы данной монографии.].
В применении к харизме все эти идеи будут выглядеть следующим образом: харизмой располагают боги, поскольку они бессмертны, герои ее получают постольку, поскольку презирают собственную смерть. Причем избыточность как характеристика престижа здесь играет отнюдь не последнюю роль. Харизматичность светит воину прежде всего не тогда, когда он демонстрирует готовность умереть в ситуации неизбежности, а тогда, когда в этом даже нет очевидной необходимости. Поэтому Гектор, самоотверженно и безнадежно сражающийся за Родину и семью, почитаем и авторитетен, но Ахилл, добровольно выбирающий смерть и славу, а не долгую жизнь в благополучии, божественен. Чрезмерность в повышении ставок уравнивает аскезу и шантаж, а самопожертвование без особой необходимости по своей природе оказывается трансгрессивным и потому потенциально хюбристичным деянием. Однако именно такой тип хюбриса героям часто сходит с рук и даже ведет к росту харизматичности. Хороший пример в данном случае мы обнаруживаем в пятой песне Илиады, посвященной почти полностью подвигам Диомеда.
Краткая последовательность событий выглядит следующим образом. Афина перед битвой одевает Диомеда золотым сияющим пламенем[65 - В оное время Афина Тидея великого сынуКрепость и смелость дала, да отличнейшим он между всемиАргоса воями будет и громкую славу (????? ) стяжает.Пламень (???) ему от щита и шелома зажгла неугасный,Блеском подобный звезде той осенней, которая в небеВсех светозарнее блещет, омывшись в волнах Океана, —Пламень подобный зажгла вкруг главы и рамен ДиомедаИ устремила в средину, в ужасное брани волненье.(V, 1–9)???? ?? ??????? ???????? ?????? ????????? ????? ??? ??????, ??? ??????? ???? ?????????????? ??????? ??? ????? ?????? ??????:???? ?? ?? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ????????? ??????? ??????????, ?? ?? ?????????????? ?????????? ?????????? ????????:????? ?? ??? ????? ??? ?????? ?? ???????, ???? ?? ??? ???? ?????? ??? ???????? ?????????.Полный текст «Илиады» на греческом и перевод Н. Гнедича см.: – URL: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1344000005 (дата обращения 10.10.2014)]. Он совершает многочисленные подвиги, но Пандар его ранит стрелой в плечо, похваляясь, что отправил могучего противника на тот свет. Диомед вытаскивает стрелу и просит Афину дозволить ему убить Пандара, чтобы впредь не хвастался раньше времени. Та в него вдыхает дополнительную силу и ярость его отца Тидея и дает еще один эксклюзивный дар – способность видеть богов:
«Мрак у тебя от очей отвела, окружавший их прежде;
Ныне ты ясно познаешь и бога и смертного мужа».
(V, 127–128)
Но он не должен трогать никого из бессмертных, кроме Афродиты, которую Афина дозволяет при случае «разить острой медью». Поскольку Диомед разбушевался в боевом энтузиазме больше прежнего, Эней уговаривает Пандара совершить еще одну попытку его убийства, но Диомед пробивает Пандару голову копьем и тяжело ранит Энея, разбив ему бедро булыжником. На поле боя приходит Афродита, чтобы спасти Энея, который является ее сыном. Диомед, возмущенный тем, что у него из-под носа уводят законную добычу, ранит Афродиту в руку, и та удаляется жаловаться Аресу и своей матери на беспрецедентную дерзость Тидеева сына[66 - «Ранил меня Диомед, предводитель аргосцев надменный (?????????),Ранил за то, что Энея хотела я вынесть из боя,Милого сына, который всего мне любезнее в мире.Ныне уже не троян и ахеян свирепствует битва;Ныне с богами сражаются гордые мужи Данаи!(V, 376–380)]. Энея из сражения уносит Аполлон, безуспешно атакуемый Диомедом. Аполлон несколько укорачивает пыл героя, указав ему его онтологическое место:
«Вспомни себя, отступи и не мысли равняться с богами,
Гордый Тидид! Никогда меж собою не будет подобно
Племя бессмертных богов и по праху влачащихся смертных!»
(V, 440–443)
«?????? ??????? ??? ?????, ???? ???????
??? ????? ????????, ???? ?? ???? ?????
?????? ???????? ?? ???? ????? ????????? ?? ????????.»
Диомед, опасаясь божественного гнева, отступает. Далее он видит на поле боя Ареса, который в обличии человека помогает троянцам, поскольку его об этом попросили Афродита и Аполлон, разозленные наглостью Диомеда. Диомед, узнав Ареса, несмотря на его смертный облик, не только выходит из битвы сам, но и призывает к этому ахейцев. Афина, испросив разрешения у Зевса окоротить пыл Ареса, который наносит рядам греков серьезный урон, сама в качестве возницы ведет Диомеда в бой и помогает ему поразить Ареса ни больше ни меньше копьем в пах. Арес падает, взметая тучи пыли и с воплями уносится на Олимп, где жалуется Зевсу на Афину с Диомедом, однако сам получает отповедь от отца богов. Боги покидают поле боя, а Диомед остается, продолжая как ни в чем не бывало ратные подвиги[67 - В следующей песне, столкнувшись с воюющим на стороне троянцев Главком, Диомед выясняет, что их семьи связаны отношениями гостеприимства. Главк и Диомед, мирно поболтав, решают не вступать в поединки друг с другом и разойтись, обменявшись доспехами. Диомед получает золотой доспех и отдает свой медный, который, однако, покрыт немеркнущей славой его сегодняшних подвигов. Также Диомед вместе с Одиссеем участвует в целой череде сомнительных операций: ночной хулиганской вылазке («Долония»), а также (уже за пределами «Илиады») в похищении Палладия из троянского храма Афины, поездке на Лемнос за Филоктетом.].
Почему Диомед не только не наказан за прямое покушение на олимпийскую нетленность, но и один из немногих, кто получает свой славный «ностос» – возвращение домой? Более того, он благодаря протекции Афины то ли после смерти присоединяется на островах блаженных к Ахиллу, то ли подобно Гераклу был вознесен богами на Олимп (эту версию мы встречаем у Пиндара в десятой Немейской оде).
Оснований для столь странного снисхождения со стороны не слишком-то стремящихся делиться своим бессмертием Олимпийцев может быть несколько. Во-первых, боевая ярость Диомеда вовсе не слепа, он действует строго по инструкциям Афины: видит знаки божественной воли и чутко реагирует на них: нападает только на тех, на кого дозволяет напасть Паллада, и только тогда, когда она это дозволяет. Однако это не означает, конечно, что он не переходит пределов, положенных смертным. Впрочем (и это во-вторых), он переходит их будучи «как бы уже мертвым». Вспомним, что он уже долгое время как ранен и в этом смысле полумертв, а дарованная ему в этой битве способность видеть богов напрямую также характеризует его как «уже не от мира сего». Конечно, в некотором смысле все воины во время военного похода символически считаются «мертвыми», однако, так сказать, хотя все воины мертвы, некоторые более мертвы, чем другие. Здесь уместно вспомнить послание к спартанскому царю Леониду, как его упоминает в своем письме брату Синезий Киренский: «Сражайтесь так, как будто вы уже погибли, и вы не погибнете!»[68 - Синезий Киренский. Избранные письма // Вестник ПСТГУ III: Филология 2012. Вып. 4 (30). (Письмо 113. К Евоптию.) – С. 112.] Разумеется, по крайней мере, в случае Леонида, «не погибнете» тоже символически. Более того, на протяжении всей пятой песни Диомед ведет с Афиной символический обмен с демонстративным повышением ставок: Афина дарует харизму, Диомед предлагает Афине то, на что она не может ответить тем же самым: свою готовность к смерти, свою смерть. В ответ Афина дает Диомеду исключительный дар видеть богов с возможностью оспорить их неуязвимость. За это он выполняет то, что она от него требует, – ранит двух бессмертных в ситуации лицом к лицу, прекрасно понимая, что убить он их, конечно же, не убьет (и вообще-то, он не пытается это сделать), а вот оскорбит наверняка. Поэтому, соглашаясь выполнить задание Афины, которая руками своего любимца просто пытается досадить своим олимпийским родственникам, он не только становится ближайшим кандидатом в покойники[69 - Как говорит Афродите Диона:«На тебя Диомеда воздвигла Паллада Афина.Муж безрассудный! не ведает сын дерзновенный Тидеев:Кто на богов ополчается, тот не живет долголетен;Дети отцом его, на колени садяся, не кличутВ дом свой пришедшего с подвигов мужеубийственной брани.(V, 405–410) ??? ?? ??? ?????? ????? ??? ????????? ?????:??????, ???? ?? ???? ???? ????? ?????? ???????? ???? ?? ??????? ???????????? ???????,???? ?? ??? ?????? ???? ??????? ?????????????????? ?? ???????? ??? ????? ?????????.], но и, что еще хуже, рискует быть проклятым обиженными богами как нечестивец и тем самым лишиться перспективы перейти в разряд благих предков. Однако Зевс, конечно же, видит, что в поединке Диомеда и Ареса основательно рискует только Диомед. И что немаловажно, в отличие от трусоватого и глуповатого Пандара, дважды вхолостую хваставшего, что он отправил сына Тидея к праотцам, Диомед, даже победив самого Ареса в поединке, не спешит заявлять о своей сверхчеловеческой удачливости во всеуслышание. Что, конечно же, с точки зрения Зевса характеризует его положительно. Для сравнения – поединки, соперничества с богами обычно заканчивались одинаково, а именно наказанным хвастовством. Не потому, что боги завистливы, а потому, что хвастовство неуместно: Арахна не может быть более искусной ткачихой, чем Афина просто потому, что свою искусность она получает от Афины. Равно как и Ниоба, гордящаяся своими детьми, своей небывалой фертильностью была обязана богиням вроде Лато. В итоге Диомед безусловно является хюбристом, но его вариант трансгрессии, разыгранной честно и открыто под воздействием посетившего его свыше энтузиазма приводит лишь к увеличению его харизматичности, поскольку сам протагонист согласен в качестве оплаты за подвиг и славу предоставить собственную жизнь.
Рассмотрим для сравнения другой эпизод троянского цикла, далеко не столь блестящий с точки зрения деяния и закончившийся не столь удачным образом. Поскольку нам известно об этих событиях не из эпоса, а из кратких сообщений мифографов, подробными деталями мы не располагаем, однако даже общей канвы мифологического рассказа вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Речь об Аяксе Оилиде, – известном своим буйным нравом предводителе локров, – который, согласно Аполлодору и Вергилию во время взятия Трои отличился не самым лучшим образом, изнасиловав вещую Кассандру, искавшую защиты в храме Афины. Кассандра так уцепилась за статую богини, что либо Аякс совершил свое черное дело непосредственно в храме, либо выволок девицу из святилища прямо вместе со статуей (трудно сказать, какой вариант с точки зрения Афины мог бы считаться более оскорбительным). За такое святотатство Одиссей предложил закидать Аякса камнями (типичный вид казни за нечестие), но пронырливый Аякс укрылся все в том же троянском храме Афины, и греки оставили его в покое. Однако во время пути домой разгневанная Паллада подняла бурю, разбив у Киклад ахейский флот, и метнула перун в корабль Аякса. Аякс было спасся, уцепившись за скалу, но не придумал ничего лучше, чем похваляться, что жив даже вопреки воле богов. Тогда Посейдон расколол трезубцем скалу и отправил нечестивца на дно[70 - О чем и сообщается в Одиссее (IV, 499–510).]. Впрочем, ему в каком-то смысле повезло, поскольку его тело все-таки было «выловлено» и удостоено погребения Фетидой (возможно, в память о том, что Аякс самоотверженно защищал от троянцев тело Ахилла). Однако жители Локриды по решению оракула вынуждены были в течение целой тысячи лет каждый год посылать в Трою двух девушек в качестве жриц в храм Афины, чтобы искупить аяксово святотатство.
Разумеется, эта история никак не тянет на подвиг, однако преизрядные зверства на войне, особенно во время взятия города после изнуряющей осады, – это печальная классика жанра, которая имела место всегда и везде, а потому на такие скверные вещи во многих культурах смотрели сквозь пальцы, и греки в данном случае не были исключением. К примеру, глядя на то, как Ахилл тащит по пыли за своей колесницей тело благородного Гектора, методично наматывая круги вокруг Трои, все – и ахейцы, и троянцы, и боги морщатся, но никто не пытается Ахилла даже упрекнуть, не то что наказать. Мародерство, сексуальное насилие, бессмысленное убийство младенцев, разного рода надругательства над трупами[71 - Греки были в этом отношении еще не самыми радикальными. Ацтеки снимали с убитых воинов кожу и надевали ее на себя. Кельты снимали головы и расставляли их в домах и храмах, египтяне отрубали кисти рук. И очень многие, включая кельтов и египтян, оскопляли и даже насиловали трупы.] – все это безобразие проще всего было бы проинтерпретировать в терминах садизма, но садизм ничего не объясняет. Эти действия воспроизводятся столь устойчиво (увы, до сих пор, несмотря ни на какие гуманистические и рациональные установки) в силу того, что имеют знаковый, ритуальный смысл, а стало быть, они проходят по части сакрального. Разумеется, здесь идет речь об оскверняющем сакральном, но сила скверны в своей области действенна не меньше, чем сила святости. Нарушение на вражеской территории всех табу, старательно соблюдающихся дома, является одним из способов приращения магической эффективности воинов, которые, поскольку заняты пролитием крови, и так уже ритуально нечисты. При политеизме все эти практики происходят под прямым надзором богов войны, которые тоже благодушием не отличаются. Соответственно, при возвращении домой воины проходят обряд очищения, переходят из-под опеки маргинальных божеств под опеку родных пенатов и ничтоже сумняшеся радуют домашних принесенными трофеями, почитают старцев, умиляются младенцам и девам и предаются изысканному мифопоэзису на тему своих боевых достижений. Но чтобы этот благой сценарий работал, важно уметь переключаться, поэтому та часть воинов, которая планировала вернуться к нормальной жизни дома, даже на территории войны не слишком злоупотребляла боевым амоком и сопутствующими эксцессами. Аякс Оилид как раз демонстрирует неспособность вовремя остановиться, поскольку он учинил нечестие над вещей девой, практически жрицей, не где-нибудь, но в храме Афины, одной из главных покровительниц ахейцев, то есть фактически в пространстве почти домашнем. Не от всякой скверны можно с легкостью очиститься, соответственно, трансгрессия по-крупному остается уделом чрезвычайно эффективных с точки зрения военного террора, но вечно маргинальных персонажей вроде скандинавских берсеркеров, которые уже не боятся ни людей, ни богов, но не располагают и честью, поскольку являются отверженными. Их ставки в битве за престиж не могут быть учтены просто потому, что им уже толком нечего поставить на кон: даже их смерть была, по сути, уже давно заранее обменяна на делающее их до поры до времени неуязвимыми боевое бешенство.
Если бегло пройтись по списку однозначно проклятых хюбристов греческой мифологии и взглянуть на их деяния сквозь призму экономики престижных трат, то мы увидим совершенно прозрачную закономерность. Деятелям вроде Тантала и Сизифа, исходно в той или иной мере была богами дарована харизма, но вместо того, чтобы отдариваться с повышением ставок, они не только закупорили реципрокальность символического обмена в свою пользу, но и попытались присвоить то, что не принадлежит им по праву: богинь, бессмертие, власть. Тантал, например, будучи сыном Зевса, был одарен невероятным богатством, допускался на пиры богов, где разделял с ними нектар и амброзию и, соответственно, приобщался к бессмертию. Его же собственные деяния заключались в том, что он раз за разом испытывал богов на прочность – кормил крадеными нектаром и амброзией не то своих близких, не то и вовсе своих коней. А богов попытался потчевать блюдом, приготовленным из своего собственного сына, чтобы проверить, достаточно ли боги всеведущи, чтобы невзначай не оскверниться поеданием мертвечины. Чем закончилась эта попытка поменять местами смертных и бессмертных, ритуально чистое и нечистое, в античном мире знал, пожалуй, каждый. Выходка Тидея, отца Диомеда, тоже весьма выразительна. По причине своей отчаянной смелости он также, как позже и его сын, был под особым покровительством Афины, которая планировала наделить его бессмертием, но передумала, когда застала своего любимца высасывающим мозг из расколотого черепа только что убитого противника. Понятное дело, мерзость, но это не отменяет необходимости пояснений. В конце концов, где-нибудь в Папуа Новой Гвинее к поступку Тидея отнеслись бы с большим пониманием. Но для греков запрет на каннибализм, судя по всему, был одним из самых серьезных. Более того, учитывая, что мозг греки считали, как ни странно, средоточием жизненной субстанции в теле[72 - Р. Онианс пишет о том, что в гомеровский период мозговую жидкость называли ???? и считали буквально веществом жизни. Этот «айон» позже превратился в эон, век, тот самый, который фигурирует у Гераклита и Эмпедокла. См.: Онианс Р. На коленях богов. – М.: Прогресс-Традиция, 1999. – С. 208–209.], а Тидей на момент пития своего жуткого коктейля был смертельно ранен бывшим, так сказать, владельцем этой мертвой головы, получается, что таким способом Тидей пытался отменить собственную смерть. Так что богиню впечатлила не только жестокость и омерзительность, но и нечестивость происходящего.
Есть отдельная категория героев, которым за их заслуги боги дозволили просить что-либо в дар, и эти нахалы явным образом свои заслуги переоценили, запросив нечто за пределами компетенции смертных, и таким образом опять же нарушив правила обмена. К таковым персонажам относится пресловутый Мидас, заполучивший способность превращать все в золото, а также Кенея, возлюбленная Посейдона, затребовавшая превратить ее в неуязвимого мужчину и обнаглевшая(ий) до того, что отменив поклонение другим богам учредил(а) культ имени неуязвимой(ого) себя. Однако смерть пришла к Кенею в облике кентавров, которые, утомившись бесплодными попытками традиционных способов убийства, заколотили палицами бедолагу в землю, так что он/ она умер(ла) от удушья[73 - Интерпретацию мифа о Кенее см.: Михайлин В. Ю. Копье само находит цель: ???? и ?????? в ряде греческих сюжетов // Агрессия. Интерпретация культурных кодов: 2010 / Соcт. и общ. ред. В. Ю. Михайлина и Е. С. Решетниковой. – Саратов; СПб.: ЛИСКА, 2010. – С. 62.].
Таким образом, принцип престижных трат как ключевой момент символических обменов между богами и смертными предполагает, что ценой харизматичности для человека так или иначе оказывается смерть, а худший способ распоряжения дарованной свыше харизмой для героя заключается в том, чтобы пойти на поводу соблазна и просто присвоить харизму себе (это и есть наказуемый хюбрис). Так что хвастливая наглость, жадность, трусость и претензия на неуязвимость оказываются частными случаями бесчестных попыток присвоения божественной по природе харизматической благодати. Это условное правило выглядит так элементарно, что становится непонятно, почему столь значительное количество персонажей с завидным постоянством выбирают в качестве жизненной стратегии нечестие, особенно если учесть, что в виде наказания за свой хюбрис, как ни крути, они получат смерть. Если уж выбирать между смертью престижной и смертью нечестивой, гораздо логичнее выбрать добровольное самопожертвование за престиж. Конечно, нет смысла кивать на прискорбную склонность к жадности человеческой природы как таковой, она здесь не многое может объяснить. Скорее, можно заподозрить некоторый системный сбой в правилах обмена, объясняющийся либо изменениями социального порядка, либо соседством двух логик в одном социальном пространстве.
В. Ю. Михайлин, например, предлагает, говоря о системе распределения статусов, различать «долю старшего» и «долю младшего» сына[74 - См.: Михайлин В. Ю. Выбор Ахилла // Михайлин В. Ю. Тропа звериных слов. Пространственно ориентированные культурные коды в индоевропейской традиции. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – С. 179–220.], связывая с ними разные поведенческие стратегии. Майорат как принцип распределения наследования оказывается также и принципом распределения родового фарна: старший сын получает землю и дом, и большую часть фарна вместе с ответственностью за процветание рода в целом. Младший вместе с малой долей наследства (вроде кота в сапогах) отправляется искать боевой удачи. И поэтому в собственном смысле слова безоглядная борьба за престиж методом смертельного повышения ставок, героики и обретения славы – это удел младших, которые живут интересно, умирают рано и привносят в семью в качестве основного вклада добытые трофеи и героическую харизму-фарн. Старшие живут долго, пекутся о своем реноме, продолжении рода и рачительном накоплении богатства. А потому рисковые ставки и спонтанные прыжки на амбразуру не по их части. Положение осложняется также и тем, что почтенные главы родов и тем более цари время от времени вынуждены также и воевать, а на маргинальных территориях им приходится ситуативно переключаться со «старшей» стратегии на «младшую», из-за чего они нередко испытывают своеобразный кризис власти: их авторитет оспаривают герои-воины. Конфликт Агамемнона и Ахилла в этом отношении хрестоматиен.
С другой стороны, Ж. Бодрийяр подмечает, что экономика славных трат может иметь место в обществе, в котором отсутствует жесткая стабильная иерархия, поскольку ее смысл – в периодическом перераспределении статусов и благ, в их обратимости, что не дает односторонне накапливать и сосредотачивать богатства в одних и тех же руках. Иными словами, символический обмен – это средство от «закупоривания» власти, но в качестве такового он будет удачным регулятивным принципом только в довольно компактных и сравнительно просто устроенных социальных организмах. Когда царь в силу превращения конгломерата племен в тело «народа» перестает быть просто вождем и жрецом и становится собственно правителем, дающим законы, собирающим налоги и стоящим во главе не только войска, но и бюрократии, «закупорка» власти оказывается неминуемой и престижность трат как принцип начинает соседствовать с престижностью накопления. Впрочем, реципрокальность, взаимность обмена в каком-то отношении сохраняется и при наличии жесткой стабильной иерархии, просто теперь субъектами обмена оказываются правитель и народ как целое, то есть сохранение между ними равновесия обязательств, подкрепляемого циркуляцией благ, гарантирует правильную циркуляцию социальной маны. Теперь царь снисходительно принимает дары от подданных и благосклонно этих подданных время от времени одаривает, всегда следя за тем, чтобы дворцовые кладовые и сокровищницы были полны. Однако эксклюзивное право царя считаться сакральным репрезентантом тела народа дается, разумеется, не просто так. И здесь вновь на горизонте появляется смерть как предельная цена престижа. Тело царя мало того, что посредством разнообразных табу как бы полностью изымается из профанного оборота, но также часто начинает восприниматься как своего рода отсроченная жертва. То есть, как говорилось в предыдущем параграфе, право на царскую харизму дается как бы авансом в обмен на будущую жертвенную смерть правителя. В некоторых обществах действительно имели место ритуалы буквального жертвенного умерщвления царей через определенный промежуток времени от 3 до 12 лет (наиболее типичны в этом отношении африканские монархии[75 - Дозон Ж.-П. Африканские пути смерти и потусторонья. Смерть в сердцевине отношений власти и господства // Антропология власти Т. 1. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – С. 239–249. Массу материала на этот счет приводит Р. Жирар. См.: Жирар Р. Насилие и священное / Пер. с фр. Г. Дашевского. – М.: Новое литературное обозрение, 2010.]). В других жертвоприношению подвергается замещающая царя фигура (у ацтеков юноша, воплощавший одновременно царя и бога Тескатлипока). Возможен и еще один сценарий, который имел место в Ирландии и не исключено, что применялся и в других кельтских странах. Речь о так называемой «правде короля» (fir flathemon)[76 - См.: Шкунаев С. В. Примечания // «Похищение быка из Куальнге» и предания об ирландских героях. – М.: Наука, 1985. – С. 452. См. также: Росс А. Повседневная жизнь кельтов в языческую эпоху. – СПб.: Евразия, 2004.]. Король при вступлении в должность сочетался священным браком с землей[77 - Майлз Диллон и Нора Кершоу Чедвик цитируют фрагмент из «Старины мест», поясняющий этот брак. Конн, Лугайд Лайгде или Ниал Девяти Заложников (короли и вожди Ирландии) оказываются в сиде и видят девушку на троне, которая наливает чашу эля каждому названному королю и говорит:Я скажу тебе, благородный юноша,Со мной спят верховные короли;Я прекрасная стройная девушка,Власть над Шотландией и Ирландией.Диллон М., Чедвик Н. К. Кельтские королевства / Пер. с англ. С. В. Иванов. – СПб.: Издательская группа «Евразия», 2002. Глава 5. Общественный строй: раннеирландское общество. – С. 120.], которой он должен управлять, и эта процедура делала его власть легитимной. И правил он до тех пор, пока не нарушал «правды»: соблюдал возложенные на него гейсы[78 - У ирландцев гейсами назывались индивидуальные запреты-табу, которые назначались в качестве противовеса при вручении определенных даров или же в случае прегрешения как вид наказания. Даром, среди прочего, считалось дарование имени человеку, изменение социального статуса (женитьба, вступление на царство) и др. Таким образом, гейсы тоже могут быть объяснены в контексте символического обмена. Чем выше у человека был статус, тем большее количество гейсов на него было наложено. Часто гейсы нарушались непреднамеренно, тем самым показывая, что время героя или короля истекло. На Кухулина в числе прочих были наложены гейсы не есть собачье мясо и не отказываться от угощения, будучи гостем. Разумеется, в итоге злокозненная сида пригласив его в гости, угостила его собачьим мясом. Считалось, что нарушивший гейс человек умирал на Самайн. См.: «Похищение быка из Куальнге» и предания об ирландских героях. – М.: Наука, 1985. – С. 452. См. также: Росс А. Повседневная жизнь кельтов в языческую эпоху. – СПб.: Евразия, 2004.], не преступал справедливости, оставался физически и сексуально полноценным и ничем не пятнал своей чести. Однако стоило ему получить увечье (даже функционально не слишком серьезное), или произвести неправедный суд, или лишиться удачи в бою, или сподобиться бранной песни филида, и в лучшем случае он отстранялся[79 - По этой причине перестал быть королем лишившийся руки Нуаду, а также бесчестный Брес. Во время правления захватившего власть силой Кайбре Катхенна на колосьях было лишь по одному зерну, а на дубах – лишь по одному желудю, не было рыбы в реках и молока у скота. См.: Широкова Н. Мифы кельтских народов. – М.: Астрель, Аст, Транзиткнига, 2005. – С. 251–255.], в худшем – подлежал ритуальному убийству. То есть, будучи в ходе священного брака посвящен земле, он в нее отправлялся буквально, компенсируя своей смертью причиненный вольно или невольно ущерб процветанию страны.
В принципе, первый вариант (жертвоприношение монарха на «регулярной основе») почти полностью исключал магически-сакральное злоупотребление властной харизмой, а сама харизма при этом не носила индивидуального характера. В случае с замещающей жертвой регулярно накапливавшаяся скверна власти подвергалась очищению, но когда за хюбрис одних всегда расплачиваются другие, это создает двусмысленную ситуацию. Третий вариант оказывается, пожалуй, самым любопытным, поскольку именно он позволяет говорить об индивидуальной харизме того или иного правителя и дает основания различать их судьбы.
Что в этом контексте нам сообщает о царском уделе античная мифология? Вряд ли можно найти однозначные свидетельства того, что в греческом мире имел место обряд буквального жертвоприношения царя в конце какого-либо четко установленного временного цикла. Греческие мифы нам сообщают о самых разных жертвоприношениях, кроме собственно царских. Может быть, единственное подозрение на сей счет вызывает сообщение о том, что критский царь Минос каждые девять лет проводил какое-то время в священной пещере на горе Ида, беседуя с Зевсом, и благодаря сим консультациям он считался самым справедливым судьей и самым лучшим законодателем. Однако нет никакой уверенности в том, что это намек на регулярное умерщвление царей, в результате которого один Минос сменял на посту другого. Впрочем, мифы сообщают о принесении царями в жертву собственных детей, чаще всего в экстраординарных случаях, и это может быть расценено как замещающая жертва в контексте престижной траты. Агамемнон подтверждает свое право вести ахейцев под Трою, когда приносит в жертву свою дочь Ифигению, чтобы Артемида дала попутный ветер. Менекей, сын царя Фив Креонта, во время осады приносит себя в жертву Аресу, то ли заколовшись кинжалом у городских ворот, то ли бросившись вниз со стены. Возможно, таков же смысл многочисленных примеров случайного или намеренного убийства царями своих сыновей[80 - Геракл убивает своих детей в припадке сакрального безумия; Тантал кормит богов телом своего сына; Тесей проклинает своего сына Ипполита, и того убивают кони (бык) Посейдона; по одной из версий, Одиссей убивает Телемаха, не узнав его.]. В любом случае царь проливает в магическом смысле «свою» кровь, возможно, потому, что положение его обязывает к таким кровопусканиям.
Если посмотреть на то, как миф показывает судьбы тех царей, которые не сподобились короткой героической карьеры, быстро умерев на поле боя, то впечатление такое, что большинство из них, начав с разного рода подобающих деяний, «проморгали» свое акме, погрязнув в хюбристических порывах, злоупотреблениях, ошибках, чтобы в итоге, дав ход родовому проклятью, скончаться каким-нибудь экзотическим способом. Пелия сварили в котле, Акрисия зашибли метательным диском, Эдип провалился под землю, Тесея сбросили в море со скалы, Агамемнона жена зарезала в ванной, Миноса дочери царя Кокала облили в бане кипятком. Одиссей умер, когда чайка уронила на его голову жало морской горлицы, либо был убит своим сыном от Кирки Телегоном, оживлен и превращен Киркой в коня[81 - Эти варианты мифа сообщает Секст Эмпирик в книге «Против ученых» (I, 267). См.: Секст Эмпирик. Сочинения. В 2 тт. Т. 2. – М., 1976. – С. 389.]. Разве что Нестору и Менелаю удалось благообразно скончаться в домашних тапках. Либо все эти нелепые смерти были изобретены мифографами, чтобы дискредитировать сам институт царской власти (ведь записывались мифы во времена полисной республиканской системы управления), либо кажущаяся нелепость, по сути, представляет собой указание на ритуальное убийство, и в таком случае это рассказ о практике, типологически близкой к «тройной смерти» ирландских королей[82 - Т. А. Михайлова дает подробный анализ ритуальных смертей королей Муйрхертаха, сына Эрк и Диармайда, сына Кербала. Оба являются историческими личностями. Оба по разным причинам нарушают свои гейсы. Согласно «Старине мест» Муйрхертах «получил рану, сожжение, полное утопление». Диармайд получил проклятье надеть рубаху из одного семечка льна, плащ из шерсти одной овцы, пить пиво, сваренное из семечка одного ячменя и есть мясо нерожденных поросят. После того как все эти проклятья исполнились, Диармайд принял смерть в доме своего друга. Ему на голову упала потолочная балка, враг пронзил его копьем, поджег дом, и умирающий Диармайд окончательно испустил дух в бочке с пивом. Т. А. Михайлова считает, что посредством тройной смерти тело короля дарится трем стихиям и таким образом восстанавливается мировой порядок. См.: Михайлова Т. А. Знамения смерти в кельтской эпической и фольклорной традиции // Представления о смерти и локализации Иного мира у древних кельтов и германцев / Отв. ред. Т. А. Михайлова. – М.: Языки словянской культуры, 2002. – С. 267–279.], следовавшей за нарушением гейсов. Таким образом, эта смерть компенсирует одновременно и задолженность по харизме, и хюбристические злоупотребления.
Пожалуй, наиболее показательна история Тесея, в которой харизма и хюбрис циклически конвертируются посредством ритуальной смерти[83 - Тесея его мать Эфра (дочь трезенского царя Питфея) родила сразу от двух отцов: Эгея и Посейдона. Когда Тесей вырос, он из Трезены отправился в Афины к Эгею и по пути через Коринфский перешеек перебил множество так называемых разбойников, полухтонических существ, половина которых считалась, так же как и сам Тесей, сыновьями Посейдона. Разбойники практиковали изощренные убийства прохожих, и, соответственно, Тесей предал их всех смерти тем же способом. Среди них был Скирон, сбрасывавший путников в море со скалы и отправленный Тезеем следом за его жертвами. Эгей, не узнав Тесея, попытался его отравить, но увидел свой меч и сандалии и вовремя остановился. Далее Тесей победил марафонского быка, который приплыл с Крита и опустошал окрестности. А позже сам вызвался в качестве жертвы Минотавру ехать на Крит в числе выбранных жребием юношей и девушек. Доказывая Миносу, что он сын Посейдона, достал со дна моря брошенное царем кольцо. Далее, как известно, убил Минотавра, всех афинян спас, увез Ариадну и затем бросил ее на Наксосе по требованию Диониса. Занял место Эгея, бросившегося в море со скалы при виде черного паруса корабля, возвращавшегося с Крита. Украл царицу амазонок Антиопу (Ипполиту), которая родила ему сына и была убита в битве своими бывшими соплеменницами. Далее последовала женитьба на сестре Ариадны Федре и последующая история с Ипполитом, которого Тесей, считая виновным в изнасиловании Федры, проклял именем Посейдона. Тесей прославился как объединитель Аттики, законодатель, реформатор, введший демократическую форму правления и оставивший за собой лишь судебные и военные функции. За все это он был почитаем народом. Однако в компании с царем лапифов Пирифоем Тезей начал влипать в разные сомнительные предприятия. Первым из них было похищение Елены (той самой), которую Тесей был намерен взять в жены. Затем Пирифой потребовал, чтобы Тесей помог ему похитить Персефону. Проникнув в Аид живыми, оба там и остались, прилипнув к скале. Тесея спас Геракл, и он вернулся в Афины, но обнаружил трон занятым, а афиняне от него отвернулись. Прокляв афинян, он бежал на Скирос, где у его отца были земли. Но царь Скироса Ликомед, не желая делиться землей, сбросил Тесея со скалы в море. См: Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х тт. Т. 2. – М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1996. – С. 450.]. В первой части истории Тесей, сын Посейдона то и дело вступает в ритуальное противоборство с разнообразными другими воплощениями Посейдона, показывая себя не только как самоотверженный герой, но и как своего рода жрец, заодно походя, невзначай демонстрируя потенциальную обратимость жреца и жертвы. В его истории хороводы водят не только разнообразные быки, но и странные дамы с маргинальных территорий. Причем если воровство жриц и цариц еще сходит ему с рук (хотя, конечно, афиняне классического периода не одобрили бы таких браков с иноземками), то попытка выкрасть сначала смертную дочь Зевса, потом его бессмертную дочь однозначно проходила по категории злостного хюбризма, и карьера Тесея резко пошла на спад, зато в этот период его харизма прекрасно реализовалась по части метких проклятий – он проклял сына Ипполита, а позже афинян, причем и сына, и соотечественников – за измену. Финальный полет со скалы повторяет смерть убитых Скироном жертв, смерть самого Скирона и, наконец, самоубийство Эгея. Назвать это простой чередой совпадений невозможно даже при полном недостатке фантазии, – это, конечно же, смерть ритуальная. Правда, точный смысл этой практики реконструировать довольно сложно, но можно предположить, что прежде всего таким способом производилось очищение от скверны. Вспомним, со скалы прыгает Сфинкса, дочери Кекропа (те самые, которые вопреки прямому запрету решили посмотреть, как выглядит хтонический основатель Афин Эрехтоний). В исторический период сбрасывание со скалы применялось в качестве казни по отношению к свободным преступникам и, что особенно интересно, было одним из вариантов ритуального убийства фармака[84 - Фармак был своеобразным «козлом отпущения» – человеком из самых низших слоев, которого город полностью брал на содержание, но в случае бедствий в ходе сложного ритуала, смысл которого заключался в том, что фармак вбирал в себя всю скверну, его проводили по всему городу и затем убивали, после чего город считался очищенным. См. подробнее: Жирар Р. Насилие и священное / Пер. с фр. Г. Дашевского. – М.: Новое литературное обозрение, 2010.] (другой вариант – забрасывание камнями). Как считают некоторые исследователи, фармак изначально представлял собой фигуру, ритуально замещающую царя и таким образом принимающую на себя прежде всего скверну власти (даже когда «должность» царя была отменена в пользу народного самоуправления, скверна власти никуда не делась). Соответственно, Тесей, прыгая со скалы, очистился сам от последствий своего нечестия и, возможно, очистил Афины от своего проклятия. Во всяком случае, он превратился для афинян в благого отца-основателя, и мало кому из древних героев довелось быть настолько втянутым в политику в качестве идеологического фундамента. Афиняне утверждали, что в битве при Марафоне они видели Тесея в полном вооружении, и его харизма, таким образом, принесла победу. После чего по рекомендации пифии Кимон привез некие останки со Скироса, и царственный отец-основатель демократии (хорош оксюморон!) упокоился в Афинах, благословляя собой все и вся.
В заключение рассмотрим один показательный пример того, как мифологический сценарий обретения харизмы был применен на практике неким историческим лицом. Речь о легендарном Леониде Спартанском, который на своем примере показал, что символически «уже мертвые» символически «не погибнут», а реальная смерть тем самым будет обменяна на вполне реальную славу. Несколько показательных деталей, о которых мы знаем от Геродота[85 - См.: Геродот. История (в девяти книгах). Книга VII / Пер. и примеч. Г. А. Стратановского, под общ. ред. С. Л. Утченко; ред. пер. Н. А. Мещерский. – Л.: Наука, Серия: Памятники исторической мысли, 1972.]. Во-первых, Леониду необычайно посчастливилось уже в том смысле, что, будучи аж третьим (!) сыном царя Анаксандрида, он таки сподобился царства, поскольку двое старших сыновей умерли бездетными (!), открыв Леониду путь к власти. До своего нетленного подвига Леонид исполнял царские обязанности целых десять лет, вообще ничем особым не выделяясь. И вот этот «сэр младший брат» слышит дельфийский оракул и принимает его на свой счет. Оракул гласил в своей извечно неоднозначной манере следующее:
Ныне же вам изреку, о жители Спарты обширной:
Либо великий и славный ваш град чрез мужей-персеидов
Будет повергнут во прах, а не то – из Гераклова рода
Слезы о смерти царя пролиет Лакедемона область.
Леонид – царь и он из рода гераклидов, а стало быть, попадает в ситуацию выбора, похожую на выбор Ахилла. Правда, с одним немаловажным уточнением: оракул не называет прямо его, он не единственный живой потомок Геракла из царского рода (как сообщает Геродот, было еще как минимум два вероятных кандидата-родственника, один из которых на тот момент находился в персидском плену и в этом смысле стоял гораздо раньше в очереди на оплакивание). Однако, как говорится, кто первый встал, того и тапки, тем более что не каждый день спартанские цари получали возможность столь громким образом обменять свою смерть на процветание Спарты. Дальше Леонид целенаправленно идет умирать и всем демонстрирует это намерение. Поэтому и отряд он берет из 300 человек (не считая илотов – но кто их считает?), причем только тех, у кого уже есть дети (чтобы род не пресекся). Эфоры уговаривали взять тысячу человек, но он отказался, заявив, что «Чтобы победить – и тысячи мало, чтобы умереть – довольно и трехсот». Дальше происходит известная всем оборона Фермопил, предательство, роспуск основного войска по причине бессмысленности дальнейшей обороны (остаются только спартанцы, феспийцы и фиванцы) и героическая смерть, – тем более возвышенная, чем менее в ней было стратегического и тактического смысла. Персы прошли Фермопилы и двинулись дальше, потеряв, конечно, людей, но на фоне общей численности армии Ксеркса эти потери вряд ли были существенны. Ну, единственное, вероятно, они были морально фрустрированы произошедшим. Однако для Леонида и его отряда это был ?????? – стопроцентное попадание в героический ????? по-спартански, причем при неослабевающем внимании со стороны всех соседей, так что символический капитал Спарты многократно возрос. В этом смысле хюбрис Леонида явно представлял собой позитивный пример в отличие от хюбриса его оппонента по Фермопилам. Итоговую неудачу Ксеркса в этой кампании сами греки объясняли не в последнюю очередь его хюбристичностью. Во-первых, потому что априори все персидские цари есть варварские «сатрапы», ну и, во-вторых, конечно, благодаря столь выдающемуся жесту, как пресловутая порка моря[86 - Вообще говоря, Ксеркс, будучи зороастрийцем, и не должен был как-то особо почитать Посейдона. Но, очевидно, греки полагали, что для Посейдона это не аргумент. В любом случае Ксеркс, согласно этой легенде, должен был считать, что ему покоряются стихии. А это уже явное превышение человеческих компетенций.].
Итак, харизматик уверен, что именно он есть священная добровольная и героическая жертва и всеми своими действиями он подтверждает этот тезис. Однако неотразимо-смертельное обаяние принципа престижных трат в его радикальном варианте подводит нас к вопросу о манипулятивном потенциале героического энтузиазма. В конце концов, именно эта мифологическая схема извлечения престижа из избыточности позволяла «запасным» сыновьям бодро и весело умирать с чувством выполненного долга и собственного достоинства. Более того, она делала возможным случайные и бессмысленные смерти постфактум подвести под статус священной жертвы и даже жертвы добровольной, сделав произошедшее не просто социально приемлемым, но и извлекая из него потенциал сакральной легитимации власти, о чем подробнее речь пойдет в четвертом параграфе этой главы.
3. Парадоксы христианской теологии власти: монотеизм и амбивалентность сакрального
Как говорилось в предыдущих параграфах, самый древний и, пожалуй, до сих пор самый действенный способ легитимации власти[87 - Под легитимностью, как правило, имеется в виду признание власти как правомерной и справедливой со стороны подвластных, принятие господства со стороны тех, над кем это господство осуществляется. Соответственно, легитимация представляет собой способы обоснования и оправдания властных отношений. При этом, как утверждал К. Шмитт, легитимность может существенно не совпадать с легальностью, под которой понимается соответствие действий власти принятым законам. Легальная власть может утратить легитимность, легитимная – суверенным решением установить ситуацию «чрезвычайного положения», выходящего за пределы нормального права и установленных законов. В этом смысле проблематизация «теологического» способа обретения властью легитимности позволяет пролить свет на феномен суверенного решения. См.: Шмитт К. Легальность и легитимность // Шмитт К. Государство: право и политика / Пер. с нем. и вступ. ст. О. В. Кильдюшова; сост. В. В. Анашвили, О. В. Кильдюшов. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2013 – С. 221–306.] заключается в ее сакрализации, обосновывающей иерархию профанного мира иерархией мира сакрального[88 - Как показывает Дж. Агамбен в «Царстве и славе», само понятие иерархии появляется у Дионисия Ареопагита в рамках попытки структурно увязать ангелологию и бюрократию, уподобив церковь как организацию империи Царя Небесного и взяв за основу бюрократический аппарат поздней Римской империи. При этом, безусловно, сакрализованное чинопочитание не замедлило сказаться на возросшем авторитете светского начальства. См. Агамбен Дж. Царство и слава. К теологической генеалогии экономики и управления. М.; СПб.: Изд-во Института Гайдара, Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2018. – С. 241–278.]. В этой логике если некто обладает властными полномочиями, то это потому, что он свыше наделен сакральным избытком (маной, харизмой, фарном[89 - Пояснение этих понятий см. в предыдущем параграфе.]). Однако приоритетный доступ к космогоническим силам на деле был привилегией во многих отношениях весьма двусмысленной, поскольку исходный амбивалентный характер сакрального проецировался на феномен власти, находя прямое выражение в мифологии и ритуальных практиках, «обволакивающих» фигуру правителя. Как речь шла выше в опоре на концепцию Р. Кайуа, сакральное амбивалентно, поскольку в силу своей чрезвычайной действенности, могущественности, оно также и чрезвычайно опасно: «сакральное – это то, к чему нельзя прикоснуться, не осквернившись или не осквернив»[90 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003 – С. 164.]. Поэтому тотально табуированная фигура священного царя в архаических обществах имела тенденцию к тому, чтобы фактически изыматься из «профанного оборота» и одновременно наделяться чертами как святости, так и скверны[91 - «Всякий царь есть бог, потомок бога или царствует по божьей благодати. Это сакральный персонаж. Следовательно, его нужно изолировать, оборудовать между ним и профанным миром непроницаемые перегородки. В его особе кроется святая сила, образующая благополучие и поддерживающая мировой порядок. Он гарантирует регулярную смену времен года, плодоносность земли и женщин. Чудесной силой проливаемой им крови обеспечивается ежегодное воспроизводство съедобных животных и растений. Его поведение регламентируется в мельчайших подробностях: нельзя, чтобы он тратил попусту или некстати свою божественную мощь. На него возлагают ответственность за голод и засуху, за эпидемии и стихийные бедствия. Он единственный обладает достаточной святостью, чтобы совершать необходимое кощунство – десакрализовать урожай, дабы им могли свободно пользоваться подданные. Такая святость делает его опасным. <…> Держателя власти самого держат в великолепно-строгой изоляции. Того, кто неосторожно дотронется до него, это соприкосновение может мгновенно поразить смертью. Тот, кто по неведению или по неловкости протянет руку к собственности вождя, должен немедленно пройти очищение, освободиться от слишком мощного для него флюида; а до тех пор ему нельзя ничего делать руками. Если он голоден, то кормить его должен кто-то другой, или же пусть ест по-звериному, подбирая еду зубами, – иначе с его руки, пропитанной святостью вождя, эта святость перейдет на пищу, а через пищу будет введена в его слабый организм, который не вынесет ее и умрет». См.: Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003 – С. 212.]. Этнография дает массу примеров того, что считалось «оскорблением величества». Несанкционированное ритуалом прикосновение подданного к царственной особе (не важно, случайное или намеренное), с одной стороны, оскверняет профанацией носителя власти, с другой стороны, «заражает» и самого святотатца, поскольку последний соприкасается с силами, которые для него «онтологически непереносимы» и потому смертельны. При этом священным авторитетом держатель власти облекается не просто так: в архаических обществах принцип символического обмена, требующего возмещения даров, распространяется и на особу правителя, можно сказать, на него даже в первую очередь. Он почитаем своими подданными, поскольку обязан магически гарантировать благополучие общины, и если он не в состоянии выполнить данной миссии, то подлежит посрамлению и убийству. С другой стороны способность отвечать своей «космической» задаче он также нередко получал в обмен на свою будущую жертвенную смерть. В любом случае, ритуальная смерть оказывалась прямой ценой властной харизмы и позволяла совмещать в одной фигуре функции царя, жреца и жертвы, обменивая тело правителя на благополучие общественного тела в реципрокальной циркуляции даров между племенем и предками-богами[92 - Дж. Фрэзер приводит очень впечатляющий пример ритуального самоубийства правителя одной из индийских провинций: «Когда этот период (12 лет правления) подходит к концу, на праздник собираются несметные толпы людей, и большие деньги тратятся на угощение брахманов. Для царька воздвигается деревянный помост, задрапированный шелковой тканью. В день торжества под звуки музыки он в сопровождении пышной церемонии отправляется к водоему, чтобы совершить омовение, после чего молится в храме местному божку. Затем царек на глазах собравшихся поднимается на помост, берет очень острый нож и начинает отрезать себе нос, губы, уши и остальные мягкие части тела. Отрезанные куски он поспешно отбрасывает, пока не начинает терять сознание от потери крови. В заключение он перерезает себе горло. Таков обряд принесения жертвы местному божку. Будущий преемник правителя должен находиться в толпе зрителей и оттуда взойти на трон». Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М.: Издательство политической литературы, 1980. – С. 311.].
Еще один немаловажный момент, связанный с амбивалентностью сакрального в применении к фигуре священного царя заключался в следующем: помимо того что он был обязан проливать свою кровь, он также был обязан проливать и кровь соплеменников, и, надо полагать, именно эта обязанность наделяла отправителя власти скверной. Две ключевые функции правителя – судить и воевать, – приводят к тому, что именно на его голову падала кровь осужденных на казнь преступников, а также кровь, пролитая в войнах. Поэтому в тех культурах, где практиковалось в той или иной форме ритуальное убийство царя, его жертвенная смерть выполняла сразу несколько функций: отдавала богам долг по благодати-харизме, которой они снабжали правителя при его жизни; «удобряла» тело земли, способствуя его будущей фертильности; а также очищала от скверны пролитой крови соплеменников и вольных или невольных злоупотреблений властью.
Этот краткий абрис практик сакрализации власти в архаических обществах (подробнее эта тема раскрыта в предыдущих параграфах) был нам необходим в качестве фона, на котором возможна проблематизация сакрального характера власти в контексте монотеизма (точнее – христианства). Понятно, что христианская теология власти во многом вырастает из архаических мифологий и ритуалов, и цель ее в значительной степени та же самая – снабдить власть сакральной легитимацией и тем самым обосновать ее, но монотеизм вносит существенные коррективы и создает некие новые проблемы, с которыми политеизм не сталкивался.
Метаморфозы сакрального: от политеизма к монотеизму
Обрисуем в общих чертах контекст, в котором произошел выбор Рима в пользу христианства. Утверждение христианства в качестве государственной религии в Римской империи было, как известно, политическим решением. Оставив в стороне вопрос о том, двигал при этом самим Константином Великим религиозный энтузиазм или цинический расчет (а может быть, в известных пропорциях и то и другое), все-таки перечислим вслед за исследователями некоторые причины, которые могли сподвигнуть Константина на этот столь знаменательный шаг[93 - Исторический, политический и религиозный контекст этого события подробно анализируется в статье: Бибиков М. В. «Великие василевсы» Византийской империи: к изучению идеологии и эмблематики сакрализации власти // Священное тело короля. Ритуалы и мифология власти / Сб. статей под ред. Н. А. Хачатурян. – М.: Наука, 2006.]. Понятно, что империя на тот момент трещала по швам, не имея возможности не только расширяться далее, но даже и удерживать свои границы. Лишь бесконечные войны с присоединением территорий и притоком богатств и рабов в Рим позволяли удерживать шаткое равновесие сената, армии и народа – тех трех сил, заложником которых чаще всего и оказывался император. Покоренные территории контролировались по концепции pax romana, «римского мира», который держался на военной силе (любая попытка отвоевать независимость каралась жестко, вплоть до геноцида), единстве римского образа жизни, который всячески насаждался в колониях, и желании всех и каждого обрести римское гражданство с его привилегиями, а лучше и вовсе попасть в тот самый центр, куда «ведут все дороги». И все-таки эта постоянно пухнущая и экстенсивно развивающаяся система стала давать сбои. Варварский элемент даже в самом Риме начал превалировать над римским. Соответственно, понадобилась некая новая модель, поясняющая подданным империи их идентичность, нечто более весомое, чем римский комфорт и римское право. В силу неумеренной пространственной протяженности империи и кризиса эффективности управления сложившаяся система тетрархии (четырех соправителей: двух на востоке и двух на западе) провоцировала постоянные конфликты (в том числе и военные) за зоны влияния и грозила окончательно лишить институт императорской власти авторитетности. Соответственно, Константин Великий и привел все это многообразие к единству самым радикальным образом. Он устранил тетрархию, будучи сыном одного из тетрархов. После битвы у Мульвийского моста с основным своим соперником Максенцием в 312 году, он фактически по праву силы узурпирует полномочия автократии, но для обоснования легитимности постепенного перехода от режима тетрархии к тому, что впредь будет называться монархией, делает ставку на монотеизм[94 - После 313 года Константин не порвал с язычеством – имело место и поклонение его конной статуе, и организация святилища в честь Флавиев, также он чеканил монеты с изображением римских богов. Только после 326 года, незадолго до того, как перенести столицу в Византий (Константинополь), он принимает христианство сам, крестившись у арианского священника в Никомедии.]. В частности, в Миланском эдикте 313 года подтверждается запрет на гонения христиан, введенный при Галерии, вводится полная свобода в выборе религиозных культов, при этом монотеистическому христианству оказывается мощная поддержка, что в конечном итоге приводит к его превращению в государственную религию[95 - В 380 году император Феодосий своим эдиктом провозгласил христианство государственной религией, запретил отправление языческих обрядов и повелел всем народам, находящимся под его властью, исповедовать веру по Никейскому символу, принятому на I Вселенском соборе. Таким образом началась кампания по обеспечению единства самого христианства, т. е. борьба с ересями.].
В общем-то, в дохристианский период римские императоры (не все, конечно, но очень многие, начиная с Юлия Цезаря) после смерти объявлялись богами, проходя так называемую процедуру «деификации» (лат., от deus – бог, и facere – делать), во время которой сжигалась их посмертная восковая маска. После чего устанавливался культ конкретных императоров, который все римские граждане должны были соблюдать, с каковой целью по всей империи свежеиспеченным «божественным августам» возводились личные храмы. Но при таком раскладе император был лишь одним из невероятного множества самых разных богов, которых у самих римлян было более сотни, и к тому же они охотно включали в собственную религиозную практику многочисленные культы с покоренных территорий (что было действенной мерой, позволявшей ассимилировать покоренные народы с минимальными затратами). Культ императоров отправляли обязательным образом, но формально подданных империи он не сказать чтобы особенно вдохновлял.
Монотеизм для сакральной легитимации монархической власти сулил гораздо больше. Единый Бог, творящий мир из ничего, располагает абсолютным и бесконечным могуществом. Поскольку Церковь достаточно быстро отказалась от гностических трактовок христианства, а с ними вместе и от принципа дуализма (связанного прежде всего с манихейством), который стал считаться еретическим, мир стал мыслиться окончательно как единый и управляемый единым Богом и его единой силой. Такая религия автоматически исключает режим тетрархии и требует в качестве единственной легитимной фигуры царя земного как отражения Царя Небесного. Сложившаяся в итоге теологическая концепция наместнической власти предполагала ряд существенных новшеств по сравнению с мифологической сакрализацией, присущей политеизму. Как пишет М. Ямпольский, «Сакральное всегда манифестирует себя как силу. Иерофания поэтому всегда выступает как “кратофания”». Однако, когда речь идет о возможности присутствия трансцендентного Бога в политическом пространстве, оказывается, что «Бог как бесконечность, разумеется, не может обладать местом. <…> Место Бога (vicem Dei) метафорически должно быть занято одним или несколькими людьми[96 - В идеале, конечно, монистическая логика требует одного наместника божественного присутствия, однако, как мы увидим позже, фигура «викария» (от vicem Dei) начинает двоиться, расщепляясь на светскую и духовную ипостась.], исполняющими функцию суверена. <…> Если Бог не занимает никакого места, то суверен занимает место в пространстве. Парадоксально, он занимает то самое место, которое не занимает Бог».[97 - Ямпольский М. Физиология символического. Книга 1. Возвращение Левиафана. Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – С. 156–157.] Бог является подлинным сувереном, поскольку он есть «Царь потрясающего величия» (rex tremendae maiestatis), чья эпифания не только благостна, но и, будучи явлена во всей своей полноте, буквально смертоносна – так проявляется амбивалентность сакрального в монотеистической логике, по крайней мере, Ветхого Завета. И прямая связь суверенности со смертоносностью, легитимированная высшей сакральной инстанцией, думается, вовсе не случайна[98 - Как мы видим у целого ряда авторов (К. Шмитт, Ж. Батай, М. Фуко, Дж. Агамбен), суверенная власть утверждается прежде всего посредством причинения смерти. Подробнее об этом см. в параграфе «Право на смерть: апология и критика суверенности» Второй главы данной монографии.]. В этой связи М. Ямпольский приводит со ссылкой на Спинозу[99 - Спиноза Б. Богословско-политический трактат / Пер. с лат. М. М. Лопаткина, С. М. Роговина, Б. В. Чредина. – М.: Академический проект, 2015. – 486 с.] анализ учрежденной Моисеем иудейской теократии, которая легла (пусть и в трансформированном виде) в основание средневековой политической теологии. «В первом договоре народ оказывается перед лицом Бога. Бог обладает двумя взаимосвязанными качествами. С одной стороны, он – носитель невероятной силы, такой, которая приводит иудеев в ужас и прямой контакт с которой для них невыносим. При этом, будучи носителем всей полноты мысли, «бесконечности», он говорит так, что евреи не могут постичь смысла его слов. Вместо изъявления его воли они прочитывают знак собственной смерти. Тогда евреи «подписывают» второй договор, с Моисеем, который ставит между бесконечностью и Богом переводчика и позволяет конечному существу занять место бесконечного Бога. Так возникает монархия, которая как бы вырастает из теократической демократии (все равны перед Богом) в результате подмены одного суверена другим»[100 - Ямпольский М. Физиология символического. Книга 1. Возвращение Левиафана. Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – С. 157.]. Земной суверен как посредник и толкователь не только «темперирует» сакральную энергию при ее трансляции от Бога к «народу», символически замещая Бога, он также оказывается той символической фигурой, в которой «народ» благодаря эффекту интерпелляции (окликания со стороны высшей инстанции, которая дарует таким образом отозвавшимся их идентичность) обретает свое тождество и единство. Христианство привносит в эту ветхозаветную концепцию доктрину боговоплощения, позволяющую по аналогии с Христом говорить о совмещении в суверене двух природ; а также, что немаловажно, космополитический характер религии, дающий возможность консолидировать разношерстную и многонациональную империю. Социальный порядок подотчетен Богу через императора, который тем самым отвечает за всех – и потому у него радикальные полномочия, он суверен, ссылаясь на божественный авторитет, он устанавливает законы, находясь выше них. За ним закрепляется право на суверенное решение о жизни и смерти подданных, а сопротивление его власти приравнивается к святотатству.
Таким образом, Константин, выбравший христианство, превратил его в мощный символический инструмент. Требовалось лишь детально разработать доктрину боговдохновенности царской власти и религиозные процедуры соответствующего характера. И, конечно, разные способы PR-заявлений. Чем, соответственно вплотную и занялись ближайшие Константиновы преемники. Например, появляется легенда о том, что перед той самой битвой у Мульвийского моста Константин узрел в небе огромный сияющий крест и услышал слова «Сим победиши!», после чего уверовал и был крещен самим папой Сильвестром. Еще более замечательным заявлением оказывается мавзолей, возведенный в Константинополе, в котором первый христианский император завещал похоронить себя в окружении мощей и кенотафов ни больше ни меньше двенадцати апостолов, утверждая тем самым за собой статус равноапостольного, если не видеть в этом других, более нескромных претензий[101 - Расположение Константина в кругу апостолов символически уподобляет его Христу, в чем можно видеть ритуальное оформление или, точнее, перформативное исполнение идеи божественного наместничества. Подробно об этом, а также о похоронах Константина, приблизительно адаптировавших языческую дивинацию к христианскому контексту, пишет со ссылкой на Евсевия Кесарийского историк Жильбер Дагрон. См.: Дагрон Ж. Император и священник. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, Нестор-История, 2010. – С. 380. Сомнительной символике константинова мавзолея посвящена также статья: Виноградов А. Император и апостолы: храм и мавзолей // Власть и образ. Очерки потестарной имагологии. – СПб.: Алетейя, 2010. – С. 110–124.]. Вроде бы Константину удался его проект, – во всяком случае, сам он удостоился причисления к лику святых, авторитет автократической власти был спасен и утвержден на новых, куда более фундаментальных основаниях. Однако на практике все оказалось не столь просто: перевод сакрального с политеистического кода на монотеистический в применении к проблеме легитимации власти свершился не без далеко идущих осложнений. Злую шутку сыграла как раз амбивалентность сакрального.
Как уже говорилось в первом параграфе, если при политеизме амбивалентность святости и скверны не воспринималась как противоречие и правитель мог демонстрировать ничтоже сумняшеся обе эти стороны, чтобы доказывать свой авторитет, то монотеизм оказался перед проблемой теодицеи вообще и оправдания жестокости светской власти в частности. Власть басилевса легитимна, поскольку она транслирует Божью волю. Но правитель обязан причинять смерть, вершить суд и воевать. Стало быть, оскверняющая сторона не может быть снята со светской власти, но теперь не может быть с легкостью оправдана[102 - По этой причине средневековые монархии обзаводятся колоритной фигурой палача. Палач, как об этом пишет М. Ямпольский, представлял собой темное alter ego монарха, концентрируя на себе скверную сторону сакральности власти. Он так же, как и суверен, пребывал в изоляции от общества, вызывал своего рода пиетет, ему приписывали даже целительские способности, а должность имела династический характер наследования. И тем не менее, являясь двойником как царя, так и жреца, палач все же исполнитель, не принимающий суверенное решение. См.: Ямпольский М. Физиология символического. Книга 1. Возвращение Левиафана. Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – С. 649–669. (Глава «Суверен и палач).]. Представление о скверне пролитой крови трансформируется в понятие греха, но последний отнюдь не предполагает никакой магической силы, которая при политеизме напрямую связывала насилие с эффективностью военной магии. Еще одно важное изменение коснулось концепции символического обмена со сферой божественного. Речь идет об отмене в христианстве такого ритуала, как человеческое жертвоприношение. Жертва Христа представляет собой событие исключительное, которое впредь может повторяться только символически в евхаристии. По условной аналогии с жертвой архаической пролитая кровь Христа снимает скверну греха с человечества, дает обетование вечной преображенной жизни. Жалкая и позорная рабская смерть на кресте преобразуется в священную жертву искупления, поскольку Сын Божий принимает эту смерть добровольно. Языческие боги, случалось, тоже умирали, например, чтобы дать начало миру, во имя изобилия природы, но никогда не целенаправленно из-за людей и ради людей, что имело место в случае Христа (по крайней мере, в паулинистической версии христианства). И именно поэтому этот дар по определению не может быть возмещен, в этом смысле жертва Христа отменяет институт жертвоприношения. Реципрокальность обменов между живыми и мертвыми, людьми и богами раньше предполагала постепенное повышение ставок с обеих сторон, но именно здесь дальнейший потлач оказывается невозможен и различие Господа и рабов Божьих становится онтологически неустранимым. Соответственно, принесение после жертвы Христа других людей в жертву будет рассматриваться уже как прямое святотатство. Не случайно для христиан уподобление жертвенности Христа принимает все более спиритуальные формы: аскеза, покаяние, смирение. Конечно, феномен мученичества несколько сглаживает этот разрыв, но и здесь различия достаточно радикальны: мученики своей смертью, конечно, свидетельствуют о Христе и делают это в некотором смысле добровольно, но они претерпевают смерть от «злых» языческих рук и, утверждая новую религию, своей смертью превращают жрецов в палачей. Иными словами, пролитая кровь в некоторых случаях может считаться условно «священной», но никакой акт пролития крови впредь не может обладать очищающей функцией. Добровольное причинение смерти себе расценивается как тягчайший грех самоубийства, причинение смерти другому превращает «жертвоприносителя» в палача, убийцу, преступника, «язычника».
В применении к фигуре царственного суверена это означает, что царь более не может быть жрецом.
От теории «двух властей» к практике двух утопий
Судя по всему, Константин, располагаясь в своем мавзолее среди апостолов, думал не только о перспективе посмертной «деификации» (пусть и допуская титул «Божественный» в смысле святости, а не буквального превращения в Бога), но и о сохранении за императором священнических функций. Чтобы закрепить христианство, он дал Церкви такие возможности, которых никогда не было у римского жречества[103 - Как показывает в своем весьма подробном исследовании А. М. Сморчков, в античном греко-римском мире жречество не представляло собой ни класса, ни касты. Оно было слабо консолидировано, поскольку жрецы закреплялись за храмами, и единой инфраструктуры не существовало, – соответственно, у жречества не было и общекорпоративных интересов. Кроме того, жрецы были стеснены законодательно в вопросах собственности на храмовое имущество и землю. Жреческие обязанности могли исполняться магистратами без отрыва от их основных гражданских функций, жрецами часто на время становились обычные римские граждане, которые, может, и обязаны были вести несколько более аскетический образ жизни, чем обычно, но не более того. Они не удалялись ни от семьи, ни от государства. Как утверждает А. М. Сморчков, такая политика в Риме была целенаправленной, поскольку сначала для республики, потом для империи было важно, чтобы жречество не конкурировало с государством, как это было в Древнем Египте или Иудее. См.: Сморчков А. М. Религия и власть в римской республике: магистраты, жрецы, храмы. – М.: РГГУ, 2012.], однако дальше ситуация закономерным образом приняла такой оборот, который в перспективе не слишком-то мог порадовать византийских (а позже и западных) императоров.
Дело в том, что для светской власти с ее фундаментальной обреченностью на насилие амбивалентность сакрального впервые становится проблемой. С одной стороны, император получает властную харизму от Бога, становясь неприкосновенным «помазанником Божиим», и только это дает ему авторитет, необходимый для установления и поддержания порядка[104 - У Флавия Вегеция Рената можно прочесть, например, следующую впечатляющую формулу: «Они клянутся именем Бога, Христа и Святого Духа, величеством императора, которое человеческий род после Бога должен особенно почитать и уважать. Как только император принял имя Августа, ему, как истинному и воплощенному Богу должно оказывать верность и поклонение, ему должно воздавать самое внимательное служение. И частный человек, и воин, служит Богу, когда он верно чтит того, кто правит с Божьего соизволения». См.: Флавий Вегеций Ренат. Краткое изложение военного дела / Пер. с лат. С. П. Кондратьева // Вестник древней истории. – М., 1940. № 1 (10). – С. 246.]. С другой стороны, обязанность пролития крови впервые радикальным и необратимым образом лишает его права исполнения жреческих, священнических функций. В Церковной истории Феодорита Кирского приводится один показательный эпизод, касающийся Феодосия I, императора-солдата, который в порыве гнева отдал приказ вырезать все население восставших Фессалоник. После этого епископ Амвросий Медиоланский просто-напросто не впустил императора в храм, требуя от него покаяния. Когда же начальник императорских служб Руфин попытался повлиять на епископа силой, тот сказал, что «с радостью примет заклание», если уж император решил превратить свое царство в тиранию. После этого последовал эпизод с публичным покаянием императора, который мало того, что подписал подготовленный Амвросием декрет о 30-дневной отсрочке всякого смертного приговора (чтобы было время остудить гнев и взвесить все здраво), но и всю службу в храме провел в глубоком «проскинесисе», не просто стоя на коленях, но преклонив голову к полу, рыдая и вымаливая у Бога прощения.[105 - Амвросий обращается к императору со следующими словами: «”Ты, как кажется, не ведаешь, Государь, великости учиненного убийства. Разум твой и по успокоении гнева не помыслил об этом с высоты сана, быть может, не позволяя ему осознать грех могущества, напротив, она-то, быть может, и омрачила силу рассудка. Но ты должен знать природу, ее смертность и тленность, должен знать и прародительскую персть, из которой мы сотворены и в которую обращаемся, и, не обольщаясь блеском порфиры, ведать немощь покрываемого ею тела. Ты властвуешь, Государь, над единоплеменными, даже над сорабами, ибо один Владыка и Царь всех Творец всяческих. Какими же очами будешь ты созерцать храм общего Владыки? Какими стонами станешь попирать этот святой помост? Как прострешь руки, с которых еще каплет кровь невинных убиенных? Как этими руками примешь всесвятое тело Господа? Как к этим устам поднесешь честную кровь, когда нисшедшее из них слово гнева несправедливо пролило столько крови? Отойди же и не пытайся прежнее беззаконие увеличивать другими; прими вязание, которое Бог, Владыка всех, утверждает горе: оно целительно и доставляет здоровье”. Уступив этим словам, царь, воспитанный в слове Божием и ясно понимающий, что принадлежит иереям и что царям, со стенанием и слезами возвратился в свой дворец». См.: Феодорит Киррский. Церковная история. Книга 5, Глава 18. О дерзновении епископа Амвросия и благочестии царя. – URL: http://azbyka.ru/otechnik/?Feodorit_ Kirskij/cerkovnaya_istoriya=5_18 (дата обращения 12.09.2014).] Для сравнения: Траян, устроивший в Дакии во время кампаний 101–102 и 105–106 годов самый настоящий геноцид, как известно, удостоился триумфальной колонны прямо посреди Форума, и никому в языческом Риме даже в голову не пришло упрекать его в излишней жестокости. Христианские императоры тоже проливают кровь, но за это подлежат «метанойе», а равно и за прочие существенные с точки зрения Церкви злоупотребления властью[106 - К примеру, в нартексе Константинопольской Святой Софии над царскими вратами мозаика изображает Льва VI, простершегося перед Христом по случаю наложенного на него патриархом покаяния за заключение четвертого брака с любовницей.].
Весьма условно наметившееся в политеизме разделение полномочий царя и жреца в рамках, так сказать, специализации на пролитии чистой и нечистой крови было все-таки относительным. За царем всегда сохранялись важные жреческие функции, поскольку в противном случае «святость» власти не могла бы быть реализована. Не случайно за римским императором был закреплен титул pontifex maximus (т. е. верховный понтифик, глава высшей жреческой коллегии), христианство же перераспределило обязанности, и этот титул постепенно перекочевал к папе[107 - Титул pontifex без maximus употреблялся в отношении императора аж до X века включительно, подчеркивая, что император получает свою власть непосредственно от Бога, но, соответственно, он уже не означал священнических в собственном смысле слова функций. После того как иконоборчество, которого придерживались императоры, было все-таки назло басилевсам объявлено ересью, императоры перестают именоваться понтификами окончательно.]. Теперь подчиненный принципу онтологического тождества монотеистический уклад требовал, чтобы полностью освящающим характером обладала власть духовная, а не светская. Она, будучи не от мира сего, к его грехам может быть не причастна. Христианский священник имеет дело только с жертвой Христовой в таинствах пресуществления и евхаристии и человеческой крови не проливает[108 - Даже печально известная инквизиция формально соблюдала этот принцип, поскольку она вела лишь дознание, а для казни неизменно передавала еретиков светским властям.]. Он отделен от мира и его искушений в своем служении, что должно в большей степени гарантировать ритуальную чистоту священства, чем это возможно для правителя светского. Поэтому высшие иерархи от священства и наделяются правом «вязать и решить»[109 - Имеется в виду следующий фрагмент из Евангелия от Матфея, где Христос наделяет Петра высшей духовной властью: «И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою… И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16. 18–19).], то есть, в частности, не допускать уличенных в тяжелых грехах светских владык к присутствию на службе, фактически отлучая их от благодати и ставя под вопрос легитимность их власти, пока они не произведут покаяния по образу царя Давида.
Таким образом, вместо одной монолитной власти христианизировавшаяся империя получила различие двух властей. Причем практически сразу же возник весьма болезненный вопрос об их субординации, поскольку монотеистический мир не мог допустить две совершенно автономные властные иерархии. К тому же исходно, как пишет Ж. Дагрон, по большому счету и не стояло задачи полного разделения церкви и государства (такая задача появится в европейском пространстве гораздо позже), речь шла об их различении при достаточно тесной взаимозависимости. Например, император, как всякий христианин, зависел от папы и патриарха, а папа, как всякий гражданин государства, зависел от императора. И более того, на империю возлагалась вполне религиозная по своей сути миссия «спасти» народы от идолопоклонства, законодательно искоренив язычество. Позже императоры в качестве «светской руки Церкви» принимали весьма деятельное участие в борьбе с ересями, они выдвигали инициативы по созыву Соборов и даже пытались на них присутствовать.