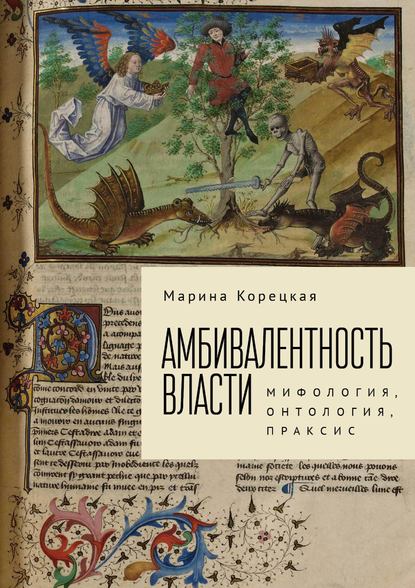По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Амбивалентность власти. Мифология, онтология, праксис
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Амбивалентность власти. Мифология, онтология, праксис
Марина Александровна Корецкая
Продержавшись в фокусе самого пристального философского внимания уже более века, проблема власти приобрела классический характер, но не утратила при этом остроты и не избавиласть от двусмысленности. Автору представляется важным отнестись к этому обстоятельству всерьез и выявить логику и генеалогию эффектов амбивалентности власти и ее философской проблематизации. Власть понимается философами и как космообразующая креативная мощь, учреждающая ценности и полагающая порядок, и как репрессивная машина господства, ориентированная на подавление и всюду внедряющая контроль. Сакрализация власти не менее парадоксальна: делегируясь как благодать, она имеет тенденцию становиться для своего носителя источником скверны. Онтологический статус философского концепта власти также неоднозначен: его демонстративный постметафизический потенциал не отменяет менее явной, но устойчивой метафизической инерции. Не говоря уже о том, что амбивалентное описание природы власти в философии может быть понято, в том числе, и как проекция всегда проблемных и неоднозначных отношений интеллектуалов и власти. Книга предназначена для философов, представителей гуманитарных наук (социологов, антропологов, историков, психологов) и широкого круга читателей, интересующихся проблематикой власти.
Корецкая М. А.
Амбивалентность власти: мифология, онтология, праксис
Предисловие
Устойчивое внимание к проблематике власти можно считать одной из характерных черт современной философской мысли. Начиная с рубежа XIX–XX веков власть тематизируется в качестве феномена, требующего самостоятельного и всестороннего изучения, в ней начинают видеть ключ к пониманию бытия социального, если не сказать бытия как такового, в то время как на протяжении всей предыдущей истории философии она специфицировалась мало, растворяясь в вопросах о наилучшем государственном устройстве, теологических основаниях справедливого правления или о достойном разумного существа способе существования[1 - Об этой несамостоятельности проблематики власти до рубежа современости пишет, например, В. Г. Косыхин. См.: В. Г. Косыхин Метафизика власти и проблема нигилизма в европейской философии // Власть. – 2008. № 3. – С. 90–91.]. Выход властной проблематики на авансцену философских изысканий связан и с кризисом метафизики (в контексте «смерти Бога» власть как концепт наследует бытию), и с кризисом гуманизма и проекта Просвещения, поскольку масштабные катастрофы XX века чрезвычайно остро поставили вопрос о всеобщей ответственности за происходящее. Шок вызвали не сами по себе масштабы бедствий, а сомнения в способности разума действительно управлять теми процессами, которые он сам целенаправленно инициирует. Это и значит, что природа власти, отношения власти, субъект власти и т. п. – проблема, причем далеко не только теоретическая. Таким образом, философская проблематизация власти соответствует интенции практического поворота постметафизической мысли достаточно буквально: она едва ли может позволить себе остаться в рамках абстрактно-теоретических и отвлеченных изысканий, любые тезисы в этой области так или иначе будут иметь этическое и политическое измерение. Более того, можно сказать, что метафизические (онтологические) выкладки по поводу природы и устройства власти по факту легитимируют (либо проблематизируют) практические властные стратегии, и в этом смысле концепции власти никогда не нейтральны.
Очевидно, что власть в современной философии оказалась одной из самых привилегированных тем, и при этом сам концепт власти избегает однозначности, его смысл двоится, множится вплоть до того, что иной раз понимание вообще оказывается затруднено. Так, начиная с Ницше, впервые придавшего этому концепту статус ключевого, власть понимается то как космообразующая креативная мощь, учреждающая ценности и полагающая порядок, то как репрессивная машина господства, ориентированная на подавление и всюду внедряющая идеологический контроль. Другой аспект проблемы заключается в неопределенности онтологического статуса философского концепта власти. Ницше изобретает «волю к власти» как понятие, долженствующее увести мысль из сферы метафизики и сформировать философию нового типа. Однако и саму концепцию Ницше часто называют метафизической, и последовавшие за Ницше в тематизации власти философы XX века (М. Фуко и Ж. Делез, например) оказались втянуты в построение своего рода квазионтологии. Иными словами, постметафизический потенциал понятия власти парадоксальным образом не отменяет его же метафизической инерции.
Амбивалентное описание природы власти в философии может быть понято в том числе и как проекция всегда проблемных и неоднозначных отношений интеллектуалов и власти. Впечатление такое, что философы-интеллектуалы все время обнаруживают себя полупридавленными тяжестью некой вмененной им социальной миссии, и все время не могут определиться с тем, в чем именно эта миссия состоит: то ли они должны власть (в лице имеющихся институтов) легитимировать, то ли воспитывать правителей и совершенствовать институты исходя из идеи справедливого правления, то ли заниматься радикальной критикой властных структур и поиском стратегий автономии-автаркии. Причем по большому счету ни одна из этих позиций не может похвастаться гарантированной этической безупречностью: всегда есть повод для неприятных подозрений, что сколь угодно основательно фундированные концепции власти могут быть для своих авторов не в последнюю очередь способом самооправдания в ситуации если не ангажированности, так ресентимента (и еще вопрос, что из этих двух вариантов с точки зрения чистоты мысли менее непристойно). Не говоря уже о том, что практически любая философия власти, неизменно начинаясь с гуманистических установок или просвещенческого пафоса на стадии практических выводов, если доводить все импликации до конца, непременно даст повод усомниться в этической (или даже психической) вменяемости ее автора. Нет, конечно, всегда можно найти аргументы, оберегающие репутацию Ницше, Хайдеггера, Шмитта, Фуко, Делеза, но сама по себе регулярность, с которой приходится оправдывать и оправдываться, наводит на подозрения не только о каверзности самой темы, но и о весьма умеренной способности философской рефлексии на деле гарантировать автономию мысли.
Опять-таки Фуко, обозначая в Предисловии к американскому переводу 1977 года «Анти-Эдипа» Делеза и Гваттари ключевую интенцию этой книги как антифашистскую, выдвигает императив «Не влюбляйтесь во власть![2 - Делез, Ж., Гваттари, Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари; пер. с фр.. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – С. 9.]». Будучи чрезвычайно актуальным для травматичной поствоенной рефлексии 70-х, императив этот, казалось бы, сегодня должен был несколько утратить свою остроту, поскольку современная эпоха «диффузного цинизма» характеризуется скорее уж всеобщей подозрительностью и неспособностью обольщаться политическим дискурсом[3 - Как утверждает П. Слотердайк, цинизм представляет собой просвещенное ложное сознание, то есть такое сознание, которое видит все идеологические манипуляции насквозь и не сопротивляется им только лишь из соображений комфортности и конформизма. См.: Слотердайк П. Критика цинического разума / Пер. с нем. А. Перцева; испр. изд-е. – Екатеринбург: У-Фактория; М.: ACT, 2009.]. Однако, судя по всему, жизнь гораздо изобретательнее, чем теоретики и критики с их прогнозами, и внезапно захлестнувший в последние годы простых обывателей политический энтузиазм по поводу разного рода «священных идей» вновь позволяет вернуться к обсуждению делезианского вопроса о том, «как желание может желать подавления других и себя самого?».
Итак, можно сказать, что, продержавшись в фокусе самого пристального философского внимания более одного века, проблема власти уже приобрела классический характер и даже отчасти тривиализировалась, но не утратила при этом остроты и не избавилась от травматичной амбивалентности[4 - Вполне может статься, что проблема власти далеко не единственная страдает двусмысленностью и амбивалентностью. Н. А. Терещенко в своей книге «Социальная философия после “смерти социального”» раскрывает целый ряд парадоксов и антиномий, свойственных проблемному полю социальной философии, которая, как настаивает автор, фактически является единственнм претендентом на статус «первой философии» сегодня. Более того, антиномичность социальной философии предлагается понимать не как антиномичность предмета, а как «антиномичность философии как таковой», «антиномичность познания и мышления об обществе». Терещенко Н. А. Социальная философия после смерти социального. – Казань: Казанcкий университет, 2011. – С. 285.]. В данной ситуации автору этой книги представлялось важным не заняться разработкой новой – всеобъемлющей и непротиворечивой, отвечающей на все вызовы времени, – очередной метафизики власти в дополнение ко всем предыдущим, а выявить многочисленные двусмысленности, неоднозначности и парадоксальности, которыми тема власти чревата и которые имеют тенденцию, оставшись недостаточно отрефлексированными, увести философскую мысль совсем не в том направлении, в котором она изначально намеревалась двигаться. Задача заключалась в том, чтобы попытаться, по крайней мере, понять, что этот эффект амбивалентности в каждом случае производит, какая логика его порождает, какова генеалогия того или иного парадокса.
С одной стороны, практически любой аспект проблемы власти обнаруживает симптоматичную двойственность, которая может быть осмыслена по аналогии с противоположностями Гераклита, если последние понимать не в духе гегелевской диалектики (как противоречия, закономерно снимаемые синтезом в процессе развития) и не в логике бинарных оппозиций структурализма (как статичное различие противостоящих структурных элементов), а как напряженное, неустойчивое равновесие разнонаправленных сил. В этом смысле концепт амбивалентности кажется вполне подходящим к случаю, коль скоро, помимо «двойственности», он содержит смысловую отсылку к «valentia», то есть «силам». Амбивалентность власти – не просто двусмысленность, поскольку речь идет не о результатах чьего-то недомыслия или злой воли, от которых можно было бы избавиться, просто внеся ясность или разоблачив манипулятивные намерения. Не является она и просто серией парадоксов, перед которыми на досуге в любовании может себе позволить застыть философское созерцание. Это, скорее, проблемность, с которой мы имеем все шансы столкнуться на уровне праксиса. Амбивалентность как раз в том и заключается, что отследить смену полюсов, точку трансформации «позитивного» в «негативное» и причины этой трансформации трудно, равно как агент власти, по всей видимости, не может избежать соблазна и полюса «нечистоты», как о том предупреждал непременно поминаемый в данном контексте лорд Дальберг-Актон[5 - «Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men». (Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Великие персоны почти всегда являются плохими людьми».) John Emerich Edward Dalberg. Letter to Archbishop Mandell Creighton. (Apr. 5, 1887). URL: http:// history.hanover.edu/courses/excerpts/165acton.html (дата обращения 12.10.2016).].
Но каков статус этого утверждения? Имеет ли амбивалентность власти онтологический характер? Едва ли. По крайней мере, автору этой книги представляется принципиально важным не делать поспешных выводов в онтологическом ключе. Амбивалентность как концепт будет использоваться в инструментальном смысле как «пустая клетка» постструктуралистского метода в описании Ж. Делеза[6 - Это парадоксальный элемент, который смещен относительно себя и находится всегда не там, где его ищут, но именно поэтому он запускает и связывает разные серии, будучи имманентен каждой из них. Делез Ж. По каким критериям узнают структурализм // Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. Статьи / Пер. с фр., редакция и предисловие. Соколов Е. Г. СПб. Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ, Алетейя, 1999. – С. 159–168.]. Задача этой «клетки» – не указать на некий референт, но провести различия, выстроить серии феноменов и индуцировать движение мысли.
В методологическом отношении эта книга написана исходя из ряда в своей основе постструктуралистских предпосылок. Прежде всего, насколько это возможно и насколько это позволяет инерция языка, склоняющая к гипостазированию понятий, автор старается избегать трактовки власти как некой сущей в себе субстанции, или некоторого атрибута бытия сущего. В этом смысле концептуализация амбивалентности власти не претендует на то, чтобы быть метафизикой власти. Поэтому, не давая строгую дефиницию понятию власти (мышление, исходящее из определений, характерно для метафизики сущности и не релевантно заявленным целям), мы будем трактовать ее вслед за Фуко в достаточно широком смысле слова – как то, что не сводимо к политическому господству или государству как социальному институту, хотя и проявляется через них. Власть имеет место везде, где есть социальные отношения (она и есть дифференциальное отношение социальных сил), везде, где имеют место дисциплинарные практики, везде, где присутствует принудительность со стороны дискурса. Более того, придерживаясь логики так называемого перформативного поворота в гуманитарном знании, можно говорить о перформативном характере власти в том же смысле, в каком Джудит Батлер, опираясь, с одной стороны, на Мишеля Фуко, с другой стороны, на Джона Остина, говорит о перформативном характере пола[7 - Как известно, Батлер существенно изменила подход к гендерным вопросам, настаивая на том, что нет никакой метафизически гарантированной истины пола, но есть исторически подвижные и зависящие от конкретных форм праксиса в том или ином обществе гендерные роли, исполнение которых постфактум и производит «онтологический эффект». См.: Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. – Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002.], а в более поздних работах о перформативности политики[8 - Батлер Дж. Заметки к перформативной теории собрания. М.: Ad Marginem Press, 2018; Butler J. and Athanasiou A. Dispossession: The Performative in the Political. Cambridge: Polity Press, 2013.]. Власть есть так, как она исполняется участниками социального ритуала, с тем уточнением, что она не принадлежит субъектам, а, скорее, производит их. Перформативный подход, таким образом, предполагает, что нет истин на все времена, но есть подлежащие экспликации диспозитивы. И теоретическая задача в данном случае состоит в проблематизации того, какого рода практики производят эффект властных отношений. Соответственно, можно утверждать, что амбивалентность власти – это именно эффект и у него перформативное происхождение.
Методом историко-философских реконструкций, предпринятых в книге, является генеалогия, ориентированная не на описание единого смысла и цели линейно развивающейся истории (что типично прежде всего для диалектического метода), а на поиск смысловых смещений от одной концепции власти к другой, на работу с единичными событиями мысли, имеющими характер «творческих мутаций». Такой методологический подход позволит эксплицировать неоднозначный потенциал власти как одного из ключевых концептов современной философии. Генеалогия как изобретенный Ницше и основательно освоенный Фуко подход к истории предполагает определенный способ смотреть из настоящей точки (генеалогия всегда есть «генеалогия нас самих») в прошлое, вычерчивать некую траекторию преемственности, но без всякой веры в предзаданный сценарий развития, свернутый в точке истока, что было свойственно как истории Мирового Духа у Гегеля, так и «эпохам бытия» у Хайдеггера. Так понятый генеалогический метод использовался не только во Второй главе, но и в Третьей, где предпринята попытка рефлексии на тему практических отношений философов и власти.
Для того чтобы избежать зачастую свойственной философии опасности излишне спекулятивного характера мысли, автор старается по возможности вовлекать конкретный материал, полученный различными гуманитарными науками (культурной антропологией, историей, социологией, медиаисследованиями) и таким образом целенаправленно использует междисциплинарный подход.
Кроме того, в методологическом отношении книга вписывается в логику, по крайней мере, трех так называемых «поворотов» современной постметафизической философии: практического, перформативного, медиального. О практическом повороте речь идет в силу того, что, как уже отмечалось выше, концептуализация власти не остается в рамках «чистого» теоретизирования, она всегда предполагает обоснование или проблематизацию определенного праксиса. О перформативном повороте речь идет в силу того, что исследование ориентируется не на поиск метафизической сущности власти, а на проблематизацию того, какого рода практики (дискурсивные и недискурсивные) создают эффект присутствия власти и позволяют ей себя репрезентировать и истолковывать. О медиальном повороте речь идет, поскольку современная ситуация – это прежде всего ситуация медиаприсутствия, и, соответственно, невозможен анализ актуальных форм репрезентации, легитимации и критики власти без учета влияния на них медиасреды, в том числе и среды интерактивной (о чем напрямую речь идет в 3–5 параграфах Третьей главы).
Тематическое распределение феноменов амбивалентности, попавших в фокус внимания этой книги (их можно при желании найти гораздо больше, предложенный ряд не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим) по трем аспектам (мифология, онтология, праксис), разумеется, относительно: жестких границ здесь нет, аспекты не существуют в отрыве друг от друга, и во многих проблемах, что понятно, можно обнаружить их все в совокупности. Такая группировка разделов опирается на дискурсивные привычки философского знания или, если угодно, структуру эпистемы, склоняющую нас ожидать, что этика должна коррелировать с онтологией, теория с праксисом, а основание (или обоснование) онтологии в той или иной степени теологично.
Заметим, что амбивалентный характер как феномена, так и концепта власти никогда не становился предметом специального систематического исследования, ни в целом, ни в обозначенных в этой книге трех аспектах. И, соответственно, решая эту задачу, книга ориентирована на то, чтобы постараться связать в единую картину многие фрагментарные сюжеты и проблемы современной философии. Кроме того, полученная исследовательская оптика позволила дать философскую интерпретацию обширному конкретному антропологическому и историческому материалу, накопленному гуманитарными науками касательно сакральности власти. И поскольку логика и сформулированные гипотезы могут быть транспонированы на более широкий круг материала, в этом отношении у книги, хочется верить, также есть определенный эвристический потенциал. Истоки и история философского концепта власти в существующей литературе исследованы лишь фрагментарно, что можно сказать и об истории проблемы «интеллектуалы и власть», и, таким образом, здесь была предпринята попытка восполнить некоторые пробелы в данных областях. Что касается темы влияния на власть современной медиасреды, то она, конечно, активно обсуждается в последнее время в силу ее актуальности и остро проблемного характера, и здесь концепция амбивалентности власти может привнести новый поворот в дискуссию.
Предполагаемый практический смысл книги связан с уже отмеченным выше обстоятельством: в силу специфики предмета философское исследование власти никогда не может остаться только лишь отвлеченной теорией. Вопросы о носителе суверенитета и цене суверенности, о виртуализации террористических угроз и гибридном характере войн, о значении публичного пространства являются чрезвычайно злободневными, но именно поэтому дистанцирование по отношению к ним, которого позволяет достичь философская рефлексия, может быть не менее (если не более) востребовано, чем высказывания, имеющие непосредственный и прямой политический характер. Поднятые в книге проблемы и выдвинутые гипотезы позволяют диагностировать многие болевые точки современности, понять их природу и если уж и не дать импульс для стратегий позитивных изменений, то по крайней мере помочь избежать попадания во всевозможные идеологические ловушки.
В заключение еще один комментарий вводного характера. Книга собрана на основе серии статей, большая часть которых была написана в рамках исследовательского проекта, выполнявшегося автором в 2014-2016 годах[9 - Персональный исследовательский проект «Амбивалентность власти: мифологический, онтологический и практический аспекты» проводился при поддержке фонда РГНФ (проект РГНФ № 14-03-00218).], а затем существенно дополнена. Все статьи с выходными данными приведены в библиографическом списке, читатель при желании легко найдет соответствия, ориентируясь на названия статей и параграфов, поэтому в самом тексте книги ссылки на эти публикации автора не даются. Таким образом, эта книга не является трактатом в «геометрическом стиле». Впрочем, единство исходного проекта организует единство книги в гораздо большей степени, чем это было бы возможно при стратегии просто тематической подборки статей разных лет – каждый параграф обладает внутренней завешенностью и в этом смысле самостоятельностью, но при этом решает определенную задачу в рамках целого. В этом смысле книгу достаточно удобно читать, ориентируясь на собственную выборку параграфов, а указанные смысловые ссылки внутри текста помогут при желании проложить маршрут индивидуальной стратегии читательского интереса. В целях навигации читатель может воспользоваться и разделом «Вместо послесловия», в котором представлено своего рода summary, то есть последовательно и компактно изложены ключевые положения.
Глава 1
Мифология и теология власти
1. Амбивалентность сакрального и амбивалентность власти: от антропологической концепции к философской проблеме
Цель этого параграфа заключается в обосновании концепта амбивалентности власти в контексте амбивалентности сакрального, для чего будет предпринята попытка проговорить несколько предположений. Прежде всего донельзя двусмысленный характер философского понятия власти может быть понят как выражение глубокой неоднозначности власти как социального феномена. Последний, как представляется, весьма симптоматичным образом коррелирует с еще одним неоднозначным феноменом – феноменом сакрального. И этот коррелят не случаен, хотя бы в силу того, что апелляция к сакральности – первый и, пожалуй, самый действенный способ легитимации власти, который поэтому, вопреки всем декларируемым рациональным установкам, востребован до сих пор. Стало быть, если и искать рецептуры соблазна, движущего как тем, что Августин вслед за апостолом Павлом называет libido dominandi (похоть господствования), так и энтузиазмом подчинения, то имеет смысл начать поиски с этой области. Концепция амбивалентности сакрального, наиболее полно сформулированная Р. Кайуа, предполагает, что в сакральном присутствует одновременно два полюса – святость и скверна, причем разделить их часто не представляется возможным. Соответственно, можно предположить, что сакральное через процедуру легитимации щедро награждает обеими этими характеристиками власть.
Справедливости ради надо сказать, что концепция амбивалентности сакрального, которая в данном случае выступает в качестве интеллектуального трамплина, мало того что, мягко говоря, не нова (ее ключевые положения были намечены в работах А. Юбера, М. Мосса и Э. Дюркгейма[10 - См. Мосс М. Социальные функции священного: Избр. произведения / Пер. с франц. под общ. ред. И. В. Утехина. – СПб.: Евразия, 2000. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. – М.: Канон+, 1998.], а истоки и вовсе относятся к «Лекциям о религии семитов» Робертсона Смита (1889)), но и подвергалась критике, по крайней мере, такими авторами, как Р. Жирар и Дж. Агамбен[11 - Жирар Р. Насилие и священное / Пер. с фр. Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2010. Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011.]. И тем не менее рискнем предположить, что ее эвристический потенциал далеко не исчерпан, хотя, конечно, к критике в ее адрес имеет смысл прислушаться. Ключевая претензия заключается в том, что, будучи в ходу в течение всего XX века, концепт амбивалентного сакрального в некотором смысле сам мифологизировался, превратившись в универсальную объяснительную схему для всех реалий жизни архаических обществ и не только их[12 - Всю неоднозначность и многоаспектность концепта сакрального вообще и амбивалентного сакрального в частности через интеллектуальную историю этих понятий раскрывает в своей монографии С. Н. Зенкин. См.: Зенкин С. Н. Небожественное сакральное: Теория и художественная практика. – М.: РГГУ, 2014. – 537 с.]. Бинарная оппозиция сакрального и профанного устарела, как и всякий бинаризм, по причине своей механистичности. Кроме того, амбивалентный характер сакрального лишь указывает на центральное ядро религиозного опыта, но сам еще нуждается в объяснении и поэтому, будучи применен к конкретным реалиям, по сути ничего не объясняет. И, что еще хуже, как подмечает Дж. Агамбен, в редакции таких авторов, как Р. Отто[13 - Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его отношении с иррациональным. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008.] и опирающихся на него многочисленных феноменологов религии, этот концепт недопустимым образом психологизировался, поскольку с его помощью была предпринята попытка реконструкции религиозного опыта как такового, как связанного с экзальтацией и ужасом одновременно. По сути же, речь шла о проекции сложного чувства ностальгии, которое переживала рационалистическая гуманитарная мысль рубежа веков, пытаясь выразить свое отношение к религии[14 - Как язвительно замечает Агамбен, «В этом определении священного, которое отныне становится синонимом всего темного и неопределенного, приходят к согласию теология, совершенно утратившая опыт божественного откровения, и философия, забывшая о научной строгости в угоду чувствам. Религиозное всецело принадлежит к сфере психологических эмоций и имеет дело исключительно с такими вещами, как экзальтированность и священный трепет – вот те банальности, которым неологизм “нуминозный” должен был придать наукообразный вид». // Дж. Агамбен. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011. – С. 101.]. В последнем пункте с критикой Агамбена трудно не согласиться. Отметим только, что в случае Р. Отто (а позже и М. Элиаде) речь идет о подводных камнях феноменологического метода, который, предполагая, что, оттолкнувшись от индивидуального опыта сознания, можно с помощью «эпохэ» сделать выводы на трансцендентальном уровне, рискует выдать типичные для определенной культуры установки, а то и вовсе частные мировоззренческие пристрастия автора за характеристики искомого априорного инварианта, присущего человеческому как таковому[15 - Как на этот счет очень убедительно пишет А. П. Забияко, «Р. Отто включает в состав категории святости такие признаки, которые предполагают денотат, обладающий качествами трансцендентности, совершенной инаковости, абсолютности. Но при этом представления о реальностях, обладающих такими качествами, не могли сложиться в архаическом сознании. Это абстракции достаточно высокого порядка, требующие развитого религиозного языка и изощренного спекулятивными размышлениями сознания. Признаки, выделенные Р. Отто, и особенно иерархия этих признаков, как представляется, не могут претендовать на универсальность и статус первофеномена религии. В категории святости Р. Отто легко просматриваются иудеохристианские представления в их лютеровском толковании, мистические интуиции, а кроме того, влияние мирочувствования немецкого романтизма». См.: Забияко А. П. Категория святости. Сравнительное исследование лингворелигиозных традиций. – М., 1998. – С. 196–197.]. И это проблема не только феноменологии, но и вообще многих направлений модернистской мысли (психоанализа в том числе), под эгидой преодоления метафизики реформирующих ее[16 - А. Н. Красников в статье «Методология классической феноменологии религии» приводит забавный каламбур, отражающий психоаналитический и феноменологический подход к религиоведению в их сходстве и различии. “Students of religion tended to suffer not from neurosis but from numinosis” («Исследователи религии страдают в основном не от невроза, – речь, очевидно, идет о фрейдистской концепции религии, – а от нуминозного»). См. Красников А. Н. Методология классической феноменологии религии. – URL: http://religioved.ru/310303/методо-логия_классической_феноменологии_религии.html (дата обращения 30.03.2014).].
Однако, что касается Р. Кайуа, о концепции которого в дальнейшем пойдет речь, к нему эта претензия применима не в полной мере. С одной стороны, он, конечно, видит задачи антропологии в поиске онтологических констант, о чем свидетельствуют даже сами названия его книг: «Миф и человек», «Человек и сакральное»[17 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003.]. С другой стороны, он целенаправленно трактует понятие сакрального социологически, а не феноменологически, идя, таким образом, вслед за Моссом, а не за Отто. Кстати, свой проект, затеянный вместе с Жоржем Батаем, он называет сакральной социологией. Да и поскольку в целом концепт амбивалентного сакрального в гораздо большей степени обязан своим происхождением и содержанием социологам, есть надежда на то, что его сугубо спекулятивный характер сильно преувеличен. Более того, как представляется, этот концепт выражает отнюдь не метафизическое тождество религиозного опыта вне всяких исторических различий, а с точностью до наоборот, проблематизирует сделанное на конкретном этнографическом материале открытие домонотеистической логики, в которой нет однозначного деления на «черное» и «белое», «добро» и «зло» просто в силу того, что политеизм плюралистичен. Что касается недостаточной объяснительной силы амбивалентного сакрального как концепта и как концепции, то это более плюс, чем минус, поскольку способность объяснять все – скорее свойство метанарратива, чем вменяемой научной гипотезы. Конечно, простой ссылки на двойственность святости и скверны в сакральном недостаточно, чтобы объяснить, как того требует Агамбен, почему присваиваемый некоторым преступникам в Древнем Риме статус homo sacer предполагал одновременно безнаказанность их убийства и невозможность принести их в жертву, однако в высшей степени интересная концепция самого Агамбена, поясняя природу суверенной власти как держащейся на включающем исключении голой жизни[18 - По версии Агамбена, суверенная власть учреждает себя, устанавливая ситуацию чрезвычайного положения (в общем, это формулировка, детально прописанная К. Шмиттом в «Политической теологии»), во время которой любая жизнь может быть беспричинно отнята суверенным решением и при этом убийство не будет считаться преступлением. Голая жизнь, vita sacra – это то, к чему суверенная власть редуцирует всех тех, кто попадает в зону ее влияния, в пределе, это жизнь, подлежащая безнаказанному убийству, поскольку она «недостойна быть прожитой». И, соответственно, homo sacer – всего лишь носитель такой жизни, заложник суверенного решения.], явно переходит границы разумного, когда претендует на объяснение сакрального вообще как производного от первичного политико-правового отношения[19 - «Если наше предположение верно, священное представляет собой лишь изначальную форму включения голой жизни в политико-правовую сферу». Дж. Агамбен. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011. – С. 110.]. Еще более радикальной представляется попытка Р. Жирара объяснить священное как эффект биологически детерминированного насилия, вытесненного культурой в целях самосохранения человечества как вида; насилия, замещенного в жертвоприношении и закамуфлированного мифом и культом. Имея в виду прямые и незатейливые редукции в духе Жирара, служащие глобальной цели объяснить происхождение религии, лишний раз можно убедиться в том, что объяснительная стратегия исследования едва ли более релевантна, чем радикально антиредукционистский настрой феноменологов. В любом случае, к сожалению, у философов и ученых-гуманитариев всегда есть шанс продвинуть тот или иной гуманитарный миф, или даже создать его, и панацеи от такого рода прискорбной склонности не существует. Можно разве что пытаться пресекать аскетическим усилием проблематизации поползновения спекулятивной мысли, следуя жесткой логике понятий, лихо вывести все многообразие мира из одного тезиса и пары принципов.
Обозначим ключевые моменты концепции амбивалентности сакрального в редакции социологически ориентированной антропологии Р. Кайуа с тем, чтобы затем наметить возможные последствия для сакрализации власти.
Прежде всего отметим, что почетные и почтенные родоначальники этой концепции Э. Дюркгейм и М. Мосс трактуют сакральное не в интроспективно-психологическом ключе как абсолютную категорию теологии, а как предмет внешнего познания. Иными словами, как то, что присутствует на уровне вполне телесных практик, имеет функциональное значение, приписываемое тем или иным фактам реальности в рамках «первобытных» обществ, и это позволяет делать заключения о том, что сакральное имеет социальный смысл.
Различие сакрального и профанного описывается идущим вслед за социологами Кайуа[20 - Сам Кайуа, правда, социологом не является, пополняя ряды филологов, литературных критиков и (о ужас!) литераторов, занимающихся антропологическими изысканиями, к каковым можно отнести М. Бахтина, М. Элиаде, Р. Жирара, Р. Барта, Ж. Батая. Стоит ли говорить о том, что именно эта категория авторов была особенно продуктивна по части производства гуманитарных мифов.] в опоре на материал, связанный прежде всего с практиками табуирования. «Tabou» как некий религиозный запрет в его отличии от «noa» («обычного», «доступного», «свободного») не только позволяет трактовать сакральное как функционально отличающееся от нормальных повседневных практик (т. е. профанного), но и эксплицирует его существенно двойственный характер: под сакральный запрет попадает как ритуально чистое, так и ритуально нечистое. Нечто может быть запретным как из соображений почтения, так и из боязни оскверниться. Соответственно, ритуальное приобщение к сакральному в качестве своих последствий может иметь как благословение, так и проклятье, а само сакральное может пониматься и как святость, и как скверна. Причем в некоторых случаях можно зафиксировать переход от одного полюса к другому, а в других это чрезвычайно затруднительно. К примеру, масса эмпирического материала, касающегося похоронных ритуалов у самых разных народов, показывает, что тело мертвого родственника оказывается табуировано, поскольку оно «заражено», осквернено смертью, прикосновение к нему в рамках похоронных обрядов вынужденным образом делает участников церемонии «нечистыми» и исключает их из круга профанного мира. Однако в результате сложных обрядовых действий покойник обретает статус благого предка (то есть от полюса скверны перемещается к полюсу святости), а участники похорон, дополнительным образом очистившись, оказываются вновь допущенными к профанным делам. Но вот территории кладбищ часто совмещают в себе обе характеристики сакрального одновременно. То же самое можно сказать и о различных маргинальных фигурах вроде колдуна или знахаря. Существуют и примеры того, как «нечистая» кровь служит эффективным средством ритуального очищения и т. д. В итоге в опоре на словарь Эрну-Мейе, определявший латинское sacer как «тот или то, до кого или чего нельзя дотронуться, не осквернившись или не осквернив», Р. Кайуа пишет о сакральном следующее. «Мир сакрального, помимо прочего, отличается от мира профанного как мир энергий от мира субстанций. С одной стороны силы, с другой стороны вещи. Отсюда прямо вытекает важное следствие для категорий чистого и нечистого: они оказываются в высшей степени подвижными, взаимозаменимыми, двусмысленными. В самом деле, если вещь по определению обладает устойчивой природой, то сила, напротив, может приносить добро или зло в зависимости от конкретных обстоятельств, в которых она проявляется в тот или иной момент. Она бывает и благой, и злой – не по природе, а по ориентации, которую она приобретает, или которую ей придают <…>. В виртуальном состоянии сила двойственна; в действии она становится однозначной».[21 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. – С. 164.] Если сопоставить эту трактовку сакрального с той, которая присутствует в феноменологической традиции, например, у М. Элиаде[22 - См. прежде всего: Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского. – М.: Изд-во МГУ, 1994.], то можно отметить следующие любопытные нюансы. Для феноменологов священное[23 - В строгом смысле слова, и Отто, и Элиаде используют концепт священного, или нуминозного, а не сакрального, однако нельзя сказать, что эти концепты как-то всерьез принято содержательно различать, например, как применимые один к монотеизму, а другой к политеизму.] понимается прежде всего как полнота бытия, совершенство, которое то являет себя в иерофании, то вновь утаивается, и в этом отношении священное присутствие в значительной степени обладает чертами субстанциальности (в том смысле, в каком субстанция есть causa sui). Хотя, конечно, и энергийный аспект здесь присутствует, по крайней мере, в силу того, что сакральное по Элиаде связано с космогонической креативностью. Разумеется, оба концепта (и субстанция, и энергия), восходят к аристотелевской «энергейе», но все-таки смысловые акценты будут различаться. Сакральное у Кайуа подвижно, оно меняет полюса и постоянно смещается от одной вещи к другой. Более того, оно как источник мощных сил не только желанно по причине повышенной эффективности, но и опасно, с ним нельзя обходиться как попало и масса практик направлена на то, чтобы избежать неуместного и рискованного столкновения с ним. Для Элиаде же сакральное всегда позитивно, даже если оно вызывает не только экзальтацию, но и священный трепет. Иными словами, если Элиаде подчеркивает стремление мирского к возможно более полному совпадению со священным (что все равно неосуществимо в силу непреодолимой онтологической дистанции между ними), то Кайуа акцентирует внимание на процедурах изоляции, различения. Оба автора, говоря о сакральном и профанном по понятным причинам стремятся выйти за рамки бинарной логики, однако делают они это по-разному. Элиаде фактически логику оппозиций заменяет логикой соприсутствия, Кайуа вместо принципа бинарного кода вводит триангулярность, которая сообщает динамизм всей структуре в целом[24 - «Оба полюса сакрального одинаково противостоят профанной области. Перед его лицом их антагонизм смягчается, почти исчезает. Собственно, точно так же и святость равно опасается как оскверненности, так и профанности – для нее это две разные степени нечистоты. И наоборот, скверна равно способна запятнать как святое, так и профанное, которые будут равно страдать от ее посягательств. Итак, три стихии религиозного мира – чистое, профанное, нечистое, обнаруживают примечательную способность объединяться по две против третьей». См.: Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. – С. 186.]. Сам он называет это сложное подвижное отношение диалектикой, но, конечно, это не гегелевская диалектика с последовательным переходом от тезиса к антитезису и синтезу. Скорее, здесь можно говорить о том, что сакральное приобретает черты пустого означающего, которое, как пустая клетка, разворачивает серии и заставляет их смещаться друг относительно друга. Особенно это заметно, когда Кайуа анализирует (на материале исследований Гране и Ленара) правило экзогамии как правило обмена женщинами, поддерживающее как социальную солидарность, так и различия, описывая его в терминах циркуляции сакральной энергии между фратриями с учетом поколенческих смещений. Нетрудно догадаться, что следующим шагом в развитии данной концепции будет знаменитый «Символический обмен» Бодрийяра[25 - Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Пер. и вступ. ст. С. H. Зенкина. – М.: Добросвет, 2000.]. Таким образом, несмотря на то что книга была издана в 1939 году, Кайуа, похоже, предвосхитил в ней некоторые методологические интуиции позднего структурализма.
Собственно, описывая сакральное в терминах энергии, циркулирующей за счет того, что силы обладают разным потенциалом, Р. Кайуа совершенно показательным образом приходит к весьма значимой тавтологии: в определенном ракурсе сакральное совпадает с властью. «Сама глубинная природа властного могущества ни к чему другому не сводима <…> Лучше будет удовольствоваться констатацией абсолютной уникальности власти как феномена и подчеркнуть, что по своей природе она тесно связана, едва ли не тождественна с сакральным <…>. Она выступает как незримая, прибавляемая извне и необоримая чудесная сила, которая проявляется в вожде как источник и принцип его авторитета. Эта чудесная сила, заставляющая повиноваться его распоряжениям, – та же самая, что дает ветру способность дуть, огню способность гореть, а оружию способность убивать. Именно ее в различных своих формах обозначают меланезийское слово “мана” и множество его американских эквивалентов. Человек, обладающий “маной”, – это тот, кто умеет и может принуждать других к повиновению»[26 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. – С. 211–212.]. Не исключено, что в этом тавтологическом совпадении сакрального и власти нет ничего необычного, оно может быть простым эффектом выбранного Р. Кайуа языка описания и интерпретации, поскольку концептуализация сакрального в логике энергии и сил святости и скверны структурно совпадает с ницшеанской концептуализацией воли к власти как дифференцирующего элемента активных и реактивных сил[27 - См. подробнее: Глава 2, параграф «Воля к власти: к генеалогии концепта» данной монографии.]. Безусловно, Кайуа с философией Ницше был знаком, поэтому можно довольно уверенно предположить, что он исходно использует концепты в духе Ницше, правда, трудно сказать, с какой степенью методологической осознанности. Более того, в приведенном выше отрывке (равно как и в ряде других) можно заметить еще одно влияние – тема ситуативно распределяемого господства и подчинения недвусмысленно отсылает к Ж. Батаю, А. Кожеву и в конечном счете к Гегелю, то есть, иными словами, к диалектике господина и раба и теме суверенности[28 - Подробнее см: Глава 2, параграфы «Признание и негативность: полемика вокруг диалектики господина и раба» и «Право на смерть: апология и критика суверенности» данной монографии.].
Как относиться к этому влиянию[29 - Будучи членами сообщества «Сакральной социологии» в предисловиях к своим книгам и Кайуа, и Батай (речь идет о его «Проклятой части» и «Суверенности») с благодарностью признают факт, так сказать, взаимного интеллектуального опыления. См.: Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология / Пер. с фр. С. Н. Зенкин. – М.: Ладомир. 2006, – С. 316.] – вопрос спорный. Можно, конечно, расценить его как свидетельство общего спекулятивного характера концепции, поскольку выбранные понятия в каком-то смысле детерминируют результат исследования. Можно также поставить Кайуа на вид то, что, заявив о себе как о стороннике социологического подхода, он контрабандой проносит в выводы метафизику и даже «самый научный его текст» (по выражению С. Н. Зенкина[30 - Зенкин С. Роже Кайуа – сюрреалист в науке // Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003 – С. 24.]) все же недостаточно научен, – но чего еще ждать от литератора? С другой стороны, независимость от языка и идеал ничем не замутненной эмпирии – пожалуй, всего лишь утопическая идея, даже когда речь идет о полевых, а не кабинетных исследованиях. К тому же рискнем предположить, что в данном случае шаткий баланс между глубокой проблематизацией и соблазном скатиться во вполне «завиральные» теории характеризует и Кайуа, и Батая как авторов собственно философских (вне зависимости от того, считать это комплиментом или нет). И в таком случае, коль скоро фальсифицировать философскую мысль через отсылку к фактам, как правило, затруднительно, понимание оптики, в которой была сформулирована концепция, по крайней мере, позволяет очертить ее смысловые и методологические границы, что само по себе может считаться условием внятности. Кроме того, представляется важным, что концепция Кайуа наводит междисциплинарные мосты, создает своего рода платформу (конечно же, не единственно возможную, но тем не менее), позволяя подходить к эмпирическому материалу этнографии с философскими вопросами о социальном смысле практик сакрализации власти, что в конечном счете на пользу и философии, и гуманитарному знанию.
Так как проблема власти вовсе не являлась для Кайуа центральной, объем текста, посвященного этой проблематике, весьма невелик и, более того, рассуждения на эту тему фрагментарно разбросаны по всему пространству книги. Однако имеет смысл компактно эксплицировать те тезисы, к которым он приходит по данному вопросу.
Поскольку власть связывается с сакральным могуществом, которое, будучи энергией, онтологически подвижно, она предстает как даруемая благодать, которую можно как получить, так и утратить. Стало быть, персонаж, обладающий властью, никогда не является ее субъектом, он лишь агент. Но его наличие в качестве точки полноты присутствия власти имеет вполне определенный социальный смысл, поскольку устанавливает и гарантирует порядок. Соответственно, вопрос в том, по каким правилам распределяется сакральная мана господства. Интересно, что, замыкая сакральное и власть друг на друга, Кайуа тем не менее не утверждает, что принцип сакрального непременно производит в качестве своего эффекта социальную иерархию. Он фактически дает две модели социальной организации, одна из которых (более архаическая) построена на принципе равновесия реципрокальных обменов между фратриями, а вторая – на принципе соревнования за престиж, лежащего в основании иерархической социальной структуры. Причем потлач оказывается той практикой, которая переключает режим равновесия в режим иерархии, поскольку в нем «воля к сотрудничеству вытесняется волей к власти».[31 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003, – С. 210.] В этих рассуждениях опять-таки нетрудно увидеть среднее звено между концепциями Мосса (социобразующий смысл обмена дарами) и Бодрийяра (символический обмен), но дело даже не в этом. Бодрийяр утверждает, что властная иерархия предполагает закупорку обмена, или обмен в одностороннем порядке, коль скоро престиж начинается с такого дара, который не может быть возмещен. Кайуа же, пусть и вскользь, упоминает о том, что реципрокальность, взаимность обмена в каком-то отношении сохраняется и при наличии иерархии, просто теперь субъектами обмена оказываются не два равных соплеменника, или две фратрии, а правитель и народ как целое, то есть сохранение между ними равновесия обязательств, подкрепляемого циркуляцией благ, гарантирует правильную циркуляцию социальной маны. Связь властного престижа с чрезмерной щедростью даров – мысль, на эмпирическом материале сформулированная Моссом, но на уровне философской концепции прописанная Батаем, который в «Проклятой части» формулирует принципы экономики чрезмерных трат. Последняя, в свою очередь, приобретает черты трансгрессии, эксцесса и жертвоприношения, поскольку максимально щедрая растрата – растрата жизни[32 - Эту тему связи трансгрессии и жертвоприношения у Батая подробно раскрывает С. Л. Фокин в главе «Ацефал: практика и теория жертвоприношения». См.: Фокин С. Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. – С. 198–222.]. Однако до столь радикальных выводов Кайуа не доходит, акцентируя внимание на другом моменте. Поскольку правитель есть точка концентрированного присутствия «благодати», отношение к нему получает те же черты амбивалентности, которые свойственны всякому отношению с сакральным. Прежде всего он изолируется от профанного мира всеми возможными способами, в частности, его табу оказываются обратными по отношению к табу обычных людей. Любого рода неподобающее отношение к священной персоне может быть смертельно опасно как для нее, так и для святотатца, а оскорбление величества приравнивается к покушению на миропорядок. То есть монарх в этом смысле становится sacer – до него нельзя дотронуться, не осквернившись или не осквернив. В идеале его задача заключается в том, чтобы просто царствовать, но не править, то есть ровно и постепенно распространять свою божественную энергию на вверенную ему часть сущего.
Теперь попробуем тезисно сформулировать ряд предположений, продолжающих логику переноса на феномен власти характеристик амбивалентного сакрального.
Прежде всего сакрализация власти должна означать не только то, что правитель табуируется, но и то, что само по себе властное могущество должно пониматься в амбивалентном ключе – власть не только освящает фигуру правителя, но и оскверняет ее. Или, точнее, делегируясь как благодать, она становится для своего носителя источником скверны. Амбивалентность как раз в том и заключается, что отследить смену полюсов, точку трансформации энергии и причины этой трансформации трудно, равно как агент власти, по всей видимости, не может при всем своем желании избежать полюса «нечистоты». Соответственно, вопрос в том, в каком смысле отправление власти в логике первобытных обществ уже само по себе является скверной, особенно если учесть, что оно служит поддержанию упорядоченного, а стало быть, благого состояния. Вероятно, одной только концепции порочности злоупотреблений, которые в терминологии Бодрийяра «закупоривают» обмен маной, здесь будет недостаточно, хотя и она, конечно, многое объясняет. Другая возможная версия – постепенное ветшание, иссякание благодати, которое влечет за собой угрозу ветшания мира. Версия, прямо скажем, вполне в духе Фрэзера[33 - Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М.: Политиздат, 1980.]: царь есть растительный бог и его вполне естественное «усыхание» может трактоваться в терминах и растраты священных сил, и неизбежного постепенного осквернения профанным. Возможна и третья версия – носитель власти, монарх оскверняется ответственностью за причинение смерти. Причем этот пункт отличается от первого, то есть не всегда связан со злоупотреблениями. Две ключевые обязанности правителя – воевать и судить – это обязанности, предполагающие пролитие крови, причем, что особенно скверно, крови соплеменников. Конечно, в случае казни само исполнение приговора делегируется специальному лицу, причем то известное обстоятельство, что статус палача всегда маргинализирован (это всегда фигура проклятая), позволяет сделать вывод о степени ритуальной нечистоты и опасности убийства «своих», даже когда оно оправданно и необходимо. В любом случае обязанность выносить такие решения, так же как необходимость терять людей в войнах, – все это не может не служить источником скверны для носителя власти. В каком-то смысле этот вариант осквернения не обязательно предполагает темпоральность процесса трансформации благодати в скверну. Вспомним о диалектике господина и раба в редакции Кожева и Батая. Сувереном становится тот, кто в ситуации соперничества готов умереть сам, но также готов и убивать. Как пишет Батай, «побуждения суверенного человека фундаментальным образом делают его убийцей»[34 - Батай Ж. Суверенность // Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология / Пер. с фр. С. Н. Зенкин. – М.: Ладомир. 2006. – С. 331.]. И эта формула во всех смыслах обратима. Совмещая гегелевский сюжет о суверенности (распределении властвующих и подвластных на основании отношения к смерти как критерия) и моссовский сюжет об эскалации щедрости обмена в потлаче и жертвоприношении, можно получить следующий тезис: носитель власти представляет собой отсроченную жертву[35 - Более подробно связь феномена жертвы и сакрализации власти как в архаике, так и в современности раскрыта в параграфе «Жертва террора и сакрализация власти» Первой главы.]. То есть право на властную харизму дается «авансом» в обмен на будущую жертвенную смерть правителя, и тот факт, что практики ритуального умерщвления царей известны в избытке, подтверждает этот тезис[36 - Этот момент подробно раскрывается в следующем параграфе Первой главы («Смерть в терминах престижной траты: взаимная конвертация хюбриса и харизмы»).]. Жертва всегда священна, поэтому правящее лицо при инаугурации наделяется благодатью наперед. И в этом нет ничего особо странного, если время понимается циклически: он просто посвящен-обречен, и уже в этом смысле сакрален. Но поскольку вместе с инсигниями правитель получает и право на причинение смерти, он также сразу наделяется и скверной. Что, кстати, отнюдь не означает снижения энергетического потенциала – негативное, нечистое сакральное тоже представляет собой весьма действенную силу. В конце концов, когда ритуал жертвоприношения царя имел место, с его помощью и возвращалась задолженность по благодати, и компенсировалось причинение смерти внутри племени.
Еще одна небезынтересная тема – различение светской и духовной власти, которое в свете проблемы амбивалентности может быть истолковано как эффект специализации на легитимном пролитии чистой и нечистой крови. Тот факт, что до появления монотеизма эта специализация была относительной и правитель окончательно утратил жреческие функции только в христианстве, наводит на определенные размышления. Если при политеизме амбивалентность святости и скверны в отношении сакрального вообще и сакрализации власти в частности была внутренне оправданна и логична и потому правитель мог демонстрировать обе эти стороны, чтобы доказывать свой авторитет, то монотеизм оказался перед проблемой теодицеи вообще и оправдания жестокости светской власти в частности. В силу того что правитель обязан причинять смерть, оскверняющая сторона не может быть снята со светской власти, но и не может быть оправдана. Поэтому едва наметившееся разделение сакральных полномочий царя и жреца стало значительно более радикальным: полностью освящающим характером теперь стала обладать власть духовная, а не светская, причем возник острый вопрос об их субординации[37 - Более подробно см.: параграф «Парадоксы христианской теологии власти: монотеизм и амбивалентность сакрального» Первой главы.].
Конечно, все это только гипотезы, нуждающиеся в продумывании и обосновании или опровержении конкретным этнографическим материалом (пусть и кабинетным, а не полевым способом). Но эти гипотезы позволяют сформулировать ряд проблем. Например, смысл фактического совпадения циркуляции «маны» и циркуляции смерти в случае сакрализации власти требует дополнительной экспликации, и тот факт, что на него так или иначе указывает с большими или меньшими пояснениями значительное число авторов (Ж. Батай, К. Шмит, Дж. Агамбен, М. Фуко, Ж. Бодрийяр), еще не снимает проблему как таковую. Например, Агамбен показывет, что логика суверенной власти, производящей эффекты сакрализации, на пределе обретает свою истину в лагерном режиме (концлагаре в частности) как режиме тотального чрезвычайного положения, в котором всякая жизнь рассматривается как vita sacra, а потому в любой момент может быть подвергнута насилию, отнята или использована как политический аргумент. При этом практический вывод впечатляет своей утопичностью: если мы не желаем жить в лагере, следует отказаться от суверенной власти и, соответственно, от порочных процедур сакрализации. Однако проблема как минимум в том, что суверенная власть с ее логикой жертвенного эксцесса по-прежнему чрезвычайно соблазнительна, причем прежде всего для тех, кто потенциально может оказаться в статусе vita sacra. Смерти, имевшие место при разного рода политических конфликтах, до сих пор проходят по категории жертвы. И, похоже, власть они не только оскверняют, так что складывается ощущение, что действительно десакрализованная власть не особенно вызывает энтузиазм. Тем более что и с другой стороны «потребность во власти священного настолько велика, что, несмотря на вытеснение религиозного опыта, эта власть приобретает новые, даже невиданные черты»[38 - Соловьева С. В. На стороне власти: очерки об экзистенциальном смысле власти. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2009. – С. 166.]. Как представляется, амбивалентность сакральной власти оказывается и практической и теоретической проблемой, по крайней мере, постольку, поскольку чем больше эксплицируются ее механизмы, тем сложнее занять по отношению к ней однозначную и при этом вменяемую позицию. «Все, что не сжигается, – гниет[39 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. – С. 254.]» – не просто тезис сакральной социологии, но своего рода императив, обладающий и убедительностью, и определенным романтическим обаянием, но если принимать практические выводы из него всерьез, можно с удивлением себя обнаружить в весьма нелицеприятной роли. Не случайно, как отмечает С. Л. Фокин, тот же Батай часто был вынужден специально подчеркивать отличие своей концепции от фашизма и это отличие проводилось на том основании, что жертвенный энтузиазм, по Батаю, всегда должен быть обращен на своего носителя, трансгрессивным даром всегда является только своя жизнь, а не чужая[40 - С. Л. Фокин приводит красноречивую цитату из письма Ж. Дютюи: «В противоположность нашим врагам Батай считал, что опыты, которые должны вести и к радости, и к смерти, каждый должен ставить на себе, а не на других». См.: Фокин С. Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. – С. 208.]. И, надо заметить, это различие сколь эффектно, столь и эфемерно.
Можно ли из этого затруднения сделать вывод о том, что амбивалентность – характеристика не только сакрального и сакральной власти, но и власти как таковой? И если это так, то каков статус этого утверждения? Имеет ли он, скажем, онтологический смысл, даже если его происхождение сугубо перформативно?
2. Смерть в терминах престижной траты: взаимная конвертация хюбриса и харизмы
Разговор о взаимосвязи концептов «хюбрис» и «харизма», имеющих прямое отношение к героической этике в древнегреческом ключе, отталкивается явным образом от материала античного эпоса и мифа. Но он может увести нас далеко за рамки мифологических и даже антропологических исследований, если рассмотреть «хюбристические» деяния, с завидным постоянством обрывающие блестящие карьеры эпических царей и героев в контексте вопроса о цене властной харизмы, и шире – в контексте проблемы власти как таковой. Греческий миф, несмотря на свою изрядную затертость разнообразными гуманитарными штудиями, все же дает прекрасный материал для обсуждения того, что можно было бы назвать культурным сценарием обретения и утраты властной харизмы. Соответственно, этот материал может позволить как минимум более подробно рассмотреть проблему амбивалентности власти в контексте практик сакрализации, постановке которой был посвящен предыдущий параграф, расположив ее в горизонте вопроса об антропологическом смысле актов трансгрессии и опыта суверенности, где мерой престижных трат оказывается смерть.
Следует сделать небольшое терминологическое уточнение. При том, что как хюбрис, так и харизма известны гомеровскому эпосу, присутствуют они в нем в гораздо более узком и специфическом смысле, чем тот, в котором они будут пониматься в рамках данного параграфа. Эта филологическая вольность может быть оправдана (по крайней мере отчасти) тем обстоятельством, что наша задача – реконструировать хюбрис и харизму как структурные элементы античного мифа, элементы, позволяющие эксплицировать не только основную логику, направляющую судьбу героев к ее завершению, но и логику различения достойных и недостойных моделей поведения в античном обществе и, более того, логику распределения сакральной энергии власти. Понятно, что в языке не только эпоса и мифа, но даже и в значительно более позднем языке античной драмы концептов нет по определению, и потому то, что называется «харизмой», у того же Гомера присутствует в виде констелляции самых разных слов и выражений (таких как ????? – доблесть, ????? – слава, ???? – честь, и даже ??? – огонь) в зависимости от ситуации и контекста. Но это не значит, что нет самого феномена и не о чем говорить. Говорим же мы о телесности в гомеровском эпосе, хотя ни в «Илиаде», ни в «Одиссее» нет слова «тело» в собственном смысле (а есть только ???? – труп, ???? – кожа-поверхность, ????? – «члены»). В этом смысле и хюбрис, и харизма – это что-то вроде концептуальных амальгам, или констелляций, которые собираются в смысловое единство, конечно, в перспективе современного словоупотребления.
Классический словарь Вейсмана предлагает понимать под ????? «надменность», «наглость», «нахальство», «дерзость»; «необузданность», «невоздержанность», «своеволие», «бесчинство», «оскорбление».[41 - Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991. – С. 1276.] Этимологически ????? восходит к известному предлогу (иногда фигурирующему в виде приставки) ???? – «выше», «над», «по ту сторону», «за» и имеет ряд производных. Таких как ?????? – «надменно, нагло, дерзко поступать»; «оскорблять, наносить обиду»; «вести себя необузданно». А также ??????? – «наглый, дерзкий поступок»; «предмет оскорбления» и, наконец, ???????? – «наглец, обидчик, оскорбитель».[42 - Там же. – С. 1266.] Очевидно, во многом благодаря античной драме или, точнее, ее трактовке в психологическом ключе, хюбрис часто истолковывают как аффект[43 - Такой подход присутствует, например, у Н. М. Савченковой, которая методологически исходит из психоанализа и феноменологии и ставит перед собой задачу анализа аффектов. См.: Савченкова Н. М. Производство аффекта в греческой культуре. – URL: http://anthropology.ru/ru/texts/savchenk/affect_0.html (дата обращения: 10.10.2014).], состояние сознания, что-то вроде ярости, которую переживает герой и которая его захлестывает так, что он норовит потерять остатки здравого смысла. Такая трактовка, может быть, и не лишена оснований, но она, мягко говоря, не единственно возможная. Учитывая этимологию этого слова (нечто, что «сверх», «за пределами»), роднящую его с понятием трансгрессии, и его мифологический контекст, представляется, что хюбрис в большей степени характеризует все-таки акт, жест, действие, или готовность к нему, а не переживаемую эмоцию. В мифах боги, наказывая за хюбрис, наказывали за действия, а не за состояния души.
Более того, хюбрис – не просто «дерзость», «бесчинство», но «нарушение границ», «преступание меры», «преступание пределов, положенных человеку». Иными словами, речь идет о нарушении табу, то есть запретов, имеющих сакральный характер, а не просто о наглом поведении в рамках повседневных, профанных действий. К тому же хюбрис предполагает осознанное и целенаправленное нарушение табу, а не случайное, совершенное по неведению или ошибке (в этом смысле женитьба Эдипа на собственной матери – это тягчайшее преступление, но не хюбристический поступок). Таким образом, греки в качестве хюбрис квалифицировали деяния, целенаправленно ориентированные на оспаривание различия между богами и смертными, как следствие могущие поставить под угрозу не только социальную иерархию, но и космический порядок как таковой. Классические случаи хюбристических деяний представляли собой попытки людей выкрасть, заполучить бессмертие, а также акты нечестия в отношении богов (посягательство на их бессмертную и блаженную природу). А потому не вызывает сомнений, что, во-первых, хюбрист (???????? – тот, кто совершает хюбристический поступок) должен быть наказан во имя восстановления пошатнувшегося равновесия и, как правило, наказан смертью. Во-вторых, герой как нормативный образец не должен быть хюбристом. И, наконец, мифологические сюжеты о разжалованных за свои выходки любимцах богов востребованы в контексте пайдейи, поскольку показывают многочисленные ситуации соблазна трансгрессии, раскрывают смысл табу и наглядно демонстрируют, что бывает за те или иные способы нарушения тех или иных запретов. Это понятно, но интересно другое: герой не должен быть хюбристом, но в определенной мере он не может им не быть в силу целого ряда обстоятельств.
Герой, как правило, является не только полубогом в силу своего происхождения[44 - Причем происхождения в прямом и переносном смысле: миф наделял героев в качестве одного из родителей (или родителей родителей) божеством; к тому же, как считается, целый ряд персонажей, которых классическая мифология числила героями, исходно были богами, связанными с местными культами и понизившимися в сакральном статусе.], но также и священным предком аристократического рода, обосновывая претензии аристократов на реальную или символическую власть их родовой причастностью к бессмертным. Сам будучи смертным, герой тем не менее оказывается кандидатом на получение бессмертия если не в прямом, то в переносном смысле. Геракл, например, а по некоторым версиям и Диомед, удостоился «апофеоза», то есть был взят на Олимп практически «живьем», будучи приравнен по статусу к богам. Деятели вроде Миноса и Радаманта сподобились неплохой загробной карьеры, а все прочие обрели бессмертную славу и эксклюзивные формы посмертного культа (вроде храмов, игр и т. п.). Герой устанавливает правила, обычаи и законы, но, чтобы быть законодателем, надо быть выше уже установленных правил: точка начала закона сама находится вне закона (к этой важной теме в связи с проблемой суверенного решения мы неоднократно будем возвращаться в самых разных контекстах). Не случайно цари-законодатели были практически обязаны нарушать табу рядовых членов общества (например, табу на инцест), и такое нарушение рассматривалось как источник сакральной силы. Герой обладает способностью время от времени видеть и слышать богов, они покровительствуют ему, посещают его «?????[45 - ????? – дух, душа, дыхание жизни. Центр сознания, расположенный, согласно греческой антропологии, в районе сердца и легких. У Гомера боги вкладывают, вдыхают героям те или иные интенции в тюмос.]» и тем самым подвигают на те или иные действия, почему он и оказывается способен на великие деяния. Иными словами, по самому своему смыслу существование героя есть преступание меры, положенной смертным, так что некая предрасположенность к хюбрису «вшита» в героическую судьбу (аналогичным образом проклятие «вшито» в историю каждого мало-мальски уважаемого рода). А потому закономерно, что в любой героической биографии имеется пара-тройка экстравагантных поступков, более того, «трагическая гибель» часто оказывается следствием того, что хюбрис толкает героя в силки судьбы и тем самым дает ей свершиться, а самому персонажу состояться в качестве священной жертвы и окончательно утвердиться в героическом статусе.
Так что невозможно оценить хюбрис как однозначно негативный феномен. Полное отсутствие хюбристичности – не лучшая характеристика для героя. Или даже это характеристика не героя вообще. Впрочем, романтическое утверждение со ссылкой на пресловутого Прометея, что всякое трансгрессивное деяние можно считать героическим, тоже вряд ли оправдано: не всякий, кто нарушает нормы уже тем самым харизматик. Очевидно, что избыток хюбриса чреват, так сказать, утратой харизмы. Но что в данном случае значит избыток? Какова мера допустимого? Почему, например, тот же Диомед без тяжких для себя последствий может себе позволить «подраться» с богами, а Аякс Оилид за неподобающее поведение в храме (вроде бы на войне как на войне – извинительный фактор) удостаивается смерти при весьма сомнительных обстоятельствах. При том, что чуть ли не каждый из героических персонажей вечно балансирует на грани фола (особенно показателен в данном отношении Одиссей), есть герои явно благие (Ахилл, Геракл), есть явно проклятые (Тантал, Сизиф), есть те, чья жизнь и смерть могут быть прочитаны по-разному в зависимости от предпосылок интерпретации (Эдип, Аякс Теламонид). И это весьма грубая типология, ведь совокупность сюжетов в целом дает более чем разветвленную систему различий, так что построение устойчивой классификации сразу выглядит как задача неблагодарная. Если допустить, что боги воплощают собой некие социально значимые функции и потому нельзя говорить о произвольности их решений, то возникает вопрос о том, есть ли некий общий принцип или правило, исходя из которого «боги» дают харизму тем или иным персонажам, и поскольку харизматичность тянет за собой и склонность к хюбрису, определяют порог допустимости хюбриса и, соответственно, меру воздаяния. Если такой принцип есть, то можно ли приписать ему, так сказать, универсальный характер (подходящий для всех культур, а не только для древнегреческой)? Если такого принципа нет, то означает ли это, что древняя аудитория, для которой все эти вопросы имели практический смысл, просто получала в свое распоряжение каталог различных ситуаций с вариантами исхода и не нуждалась ни в каких категорических императивах? В любом случае проблема меры – очень греческая проблема, если судить по тому, что она с маниакальной навязчивостью возобновляется в философии, начиная с легендарных «семи мудрецов» и заканчивая киниками, стоиками и эпикурейцами. Забегая несколько вперед, можно обозначить гипотезу, согласно которой мерой харизмы и различения степени допустимости хюбриса как раз и будет смерть, понятая в терминах престижной траты.
Теперь рассмотрим вторую часть формулы героической биографии. Речь о харизме. Как известно, само слово ??????? в древнегреческом языке буквально означает «оказанная милость, дар». Оно производно от ????????? – «делать приятное, угодное», «дарить», а то в свою очередь восходит к ????? – «прелесть», «красота», «радость», «удовольствие». Вейсман дает целый ряд однокоренных слов, значение которых показательно. Так, ?????????? – «благодарственная жертва», ??????? – «радость, наслаждение». Несколько неожиданно в этом ряду, но зато очень закономерно в гомеровской логике ????? – «битва», «сражение», «страсть к битвам». И, наконец, ??????? – «со сверкающим взором»[46 - Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991. – С. 1339.]. Для пояснения мифологического смысла всей этой семантики принято поминать трех Харит, которые-де были у греков богинями красоты, радости и удовольствия. Однако эти, по сути, пустые абстрактные персонажи вряд ли что всерьез поясняют. В гомеровском эпосе харизмой называется прежде всего (и почти исключительно) золотистое сияние, которым боги облачают в тот или иной момент угодных им персонажей, делая их, таким образом, в буквальном и переносном смысле неотразимыми. Харизмой сияет Елена, когда предстает перед троянскими старцами, которые приходят в итоге к парадоксальному выводу, что да, невозможно винить мужей за то, что они сражаются насмерть за обладание таким призом. Харизмой же наделен пояс Афродиты, который помогает Гере возбудить эротическую страсть Зевса. Периодически Афина обволакивает этим же сиянием потасканного в скитаниях Одиссея. Соответственно, харизма есть некая сакральная энергия, принадлежащая богам и время от времени достающаяся смертным. Красота в данном случае – не просто миловидность, но и некая сила, которая удерживает космос (?????? – украшение, наряд, порядок, в том числе и мировой порядок) в качестве такового. Потому это энергия, которую можно было бы назвать в том числе и энергией жизни, ведь по крайней мере в древнегреческой логике дыхание или сияние жизни – это то, что удерживает живое тело в его целостности, и, соответственно, смерть начинается с того, что тело, покинутое этой энергией, начинает буквально распадаться на элементы. Понимание харизмы в означенном выше ключе мы можем обнаружить в философии Плотина[47 - Более подробно этот аспект в контексте связи понятия харизмы и генеалогии понятия власти рассмотрен в параграфе «Воля к власти: к генеалогии концепта» Второй главы.]. Несмотря на то что оно гораздо более позднее по времени, чем гомеровские тексты, оно как раз раскрывает некоторые существенные моменты, связанные с неотразимой притягательностью харизмы. «Надо сказать, что даже на земле красоту составляют не столько симметрия, сколько освещающее ее сияние, – именно это сияние нам приятно. Действительно, почему красота живого лица ослепительна, а на мертвом лице остается лишь след ее?»[48 - «Если мы любим, то потому, что с красотой соединяется нечто неизъяснимое: движение, жизнь, блеск, которые делают объект желанным и без которых красота остается холодной и инертной», – поясняет П. Адо. См.: Адо П. Плотин, или Простота взгляда. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991. – С. 51.] Как пишет Р. Светлов, «Для Плотина «харизма» – одновременно и благодать, и грация, и прелесть, которую могут увидеть лишь великие философы и великие подвижники»[49 - Светлов Р. В. Пространство самопознания (Плотин. Первая эннеада) // Плотин. Первая эннеада / Пер., вступ. ст., коммент. Т. Г. Сидаша, Р. В. Светлова. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2004. – С. 31.]. В этом контексте, конечно же, можно вспомнить и про вечно живой огонь Гераклита, который также есть и «правящая молния», и про огненную пневму стоиков. Поэтому огненное сияние, которое окружает гомеровских героев во время битвы, когда они поглощены внушенным богами энтузиазмом и мечутся в состоянии боевой ярости со сверкающим взором, совершая подвиги и покрывая себя немеркнущей славой, – это явление из того же ряда, что и неотразимая красота Елены. Позже, в период формирования христианского богословия, не без влияния плотиновского неоплатонизма «харизма» становится концептом, означающим Божественную Благодать. Привычные нам по христианской иконографии нимбы святых (также имеющие свои прототипы на позднеантичных фресках, изображающих богов с сиянием вокруг головы) и золотой фон, особенно впечатляюще передаваемый смальтой, как раз символически и изображают энергию Благодати. Однако у христианских теологов и отчасти у Плотина харизма (а в латинском варианте gratia) как сакральная энергия понимается в трансцендентном, спиритуалистическом и монотеистическом ключе. И она в таковом качестве будет иметь прямое отношение к сакрализации власти христианских императоров и королей, которая имеет несколько другую мифологию (корректнее говорить о теологии) и другое ритуальное оформление, о чем речь пойдет в следующем параграфе («Парадоксы христианской теологии власти: монотеизм и амбивалентность сакрального»).
Политеистическая же мифология должна трактовать сакральное не столь однозначно позитивно-благостным образом. Как говорилось в предыдущем параграфе, Р. Кайуа настаивает на том, что политеистическое сакральное принципиально амбивалентно: оно чрезвычайно действенно, но потому и чрезвычайно опасно. Сакральная энергия неустойчива, может ситуативно менять полюсы от святости к скверне. В пределе «сакральное – то, к чему нельзя прикоснуться, не осквернившись или не осквернив»[50 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. С. 164.]. Соответственно, потому оно и табуируется. В применении к харизме, пожалуй, наиболее хрестоматийный пример – это миф о Семеле, которая, будучи любовницей Зевса, потребовала от него, чтобы он продемонстрировал ей всю полноту своего величия. Греческие боги, согласно мифам, обычно являлись смертным в обличии смертных именно потому, что их бессмертная харизма в немодерированном виде для тленного существа онтологически непереносима. Соответственно, закономерным результатом хюбристической просьбы Семелы было то, что Зевс блеском своей эпифании просто-напросто ее испепелил. В принципе, в греческой мифологии имеется масса мифов по поводу того, что происходит с теми, кто решил подсмотреть за богами[51 - Например, Тиресий, согласно одному из вариантов мифа, ослеп, поскольку увидел Афину обнаженной, но при этом получил дар прорицания, то есть энергия божественной харизмы трансформировала один тип видения в другой. Можно упомянуть и дочерей Кекропа, которые вопреки запрету Афины открыли ларец (корзину), где был спрятан змееногий младенец Эрехтоний, будущий первый царь Афин, миксантропное и сакральное существо. Зрелище заставило не в меру любопытных девиц в ужасе броситься со стен акрополя и разбиться насмерть – то есть речь идет о ритуальном самоубийстве нарушивших табу.].
Харизма – не просто сакральная энергия, это также и в более узком смысле сакральная энергия власти. Отсюда и современный разговор о харизматическом лидерстве, начатый социологами (прежде всего М. Вебером)[52 - См.: Вебер М. Харизматическое господство // Социологические исследования. – 1988. – № 5. – С. 139–147. Анализ различных подходов к проблеме харизматического лидерства представлен в статьях: Сморкалова Л. В. Харизматическое лидерство как феномен социальной жизни // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2011. – №. 5. – С. 133–141; Шкурко О. В. Харизматическое лидерство и возможность его развития у современных руководителей // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2013. – № 3. – С. 133–136. Гениндоржиева Д. Б. Харизма как составная часть трансформационного лидерства // Вестник Бурятского государственного университета. – 2014. – № 5. – С. 84–87.]. Именно данная богами харизма в качестве «энергетической добавки» позволяет героям совершать великие деяния, она же выражается в блеске славы и величии авторитета. При этом магическая тайна власти связана не только с могуществом господства, но и с энтузиазмом подчинения. Более или менее понятно, почему сильный присваивает себе право на суверенное решение по поводу чужих жизней, гораздо в большей степени интригует, почему подчиняющиеся не только подчиняются силе, но и испытывают перед ней пиетет, тем самым воспринимая власть не как насилие, а как справедливость. Как пишет на этот счет Р. Кайуа, рассматривая проблему сакрализации власти, «какого бы рода ни была власть – светской, военной или религиозной, – она существует лишь как следствие согласия с нею. Дисциплина в армии образуется не могуществом генералов, а послушанием солдат. На каждой иерархической ступени встает одна и та же проблема: как маршал, так и капрал бессильны, если их подчиненные, более многочисленные и лучше вооруженные, откажутся исполнять их приказы. Как хорошо показал Ла Боэси, рабство бывает только добровольным: у тирана для надзора за людьми есть только их же глаза и уши, а для их угнетения – только их же руки, которые они отдают ему на службу».[53 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. – С. 211–212.] В этом смысле сияющая божественной благодатью харизма и есть ключевой элемент соблазнительности власти, делающей ее «милой сердцу» и «страстно желанной», – причем явным образом желанной как для господина, так и для раба.
В качестве сакральной энергии харизма сближается с другими концептами, извлеченными антропологами из материалов архаических культур. Так, просматриваются некоторые параллели с полинезийской маной[54 - Мана в верованиях народов Меланезии и Полинезии – существующая в природе сакральная сила, носителями которой могут быть отдельные люди, животные, различные предметы, а также «духи». Манипулирование маной применялось для достижения ближайших целей: хорошей погоды, обильного урожая, излечения от болезни, успеха в любви или победы в сражении. Человек, обладающий «маной», – это тот, кто умеет и может принуждать других к повиновению. Правда, мана считается свойственной в разной степени всему существующему, харизма же характеризует только богов и людей.] и монгольским сульде[55 - «Сульде («дух», «жизненная сила»), в мифах монгольских народов одна из душ человека, с которой связана его жизненная и духовная сила. Сульде правителя является духом-хранителем народа; его материальное воплощение – знамя правителя, которое само по себе становится объектом культа, оберегается подданными. Во время войн для поднятия ратного духа армии сульде-знаменам приносились кровавые, иногда человеческие жертвы». См.: Сульде. Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 672. А также: Дмитриев С. В. Политическая культура тюрко-монгольских кочевников в историко-этнографической перспективе // Антропология власти. Т. 2. Политическая культура и политические процессы. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2007. – С. 45–56.]. Но в большей степени, конечно, в силу общности индоевропейских корней напрашиваются параллели с иранским фарном. Со значительной долей вероятности можно предположить, что у самих слов «фарн» и «харизма» буквально есть общий индоевропейский источник[56 - Как сообщает Топоров, «фарн» «восходит к древнеиран.
hvarnah-, обычно трактуемому как обозначение солнечного сияющего начала, божественного огня, его материальной эманации (ср. вед. svar, «свет», «сияние», «блеск», «солнце»), возрастающей, прибывающей, расширяющейся силы (ср. индоевроп.
Марина Александровна Корецкая
Продержавшись в фокусе самого пристального философского внимания уже более века, проблема власти приобрела классический характер, но не утратила при этом остроты и не избавиласть от двусмысленности. Автору представляется важным отнестись к этому обстоятельству всерьез и выявить логику и генеалогию эффектов амбивалентности власти и ее философской проблематизации. Власть понимается философами и как космообразующая креативная мощь, учреждающая ценности и полагающая порядок, и как репрессивная машина господства, ориентированная на подавление и всюду внедряющая контроль. Сакрализация власти не менее парадоксальна: делегируясь как благодать, она имеет тенденцию становиться для своего носителя источником скверны. Онтологический статус философского концепта власти также неоднозначен: его демонстративный постметафизический потенциал не отменяет менее явной, но устойчивой метафизической инерции. Не говоря уже о том, что амбивалентное описание природы власти в философии может быть понято, в том числе, и как проекция всегда проблемных и неоднозначных отношений интеллектуалов и власти. Книга предназначена для философов, представителей гуманитарных наук (социологов, антропологов, историков, психологов) и широкого круга читателей, интересующихся проблематикой власти.
Корецкая М. А.
Амбивалентность власти: мифология, онтология, праксис
Предисловие
Устойчивое внимание к проблематике власти можно считать одной из характерных черт современной философской мысли. Начиная с рубежа XIX–XX веков власть тематизируется в качестве феномена, требующего самостоятельного и всестороннего изучения, в ней начинают видеть ключ к пониманию бытия социального, если не сказать бытия как такового, в то время как на протяжении всей предыдущей истории философии она специфицировалась мало, растворяясь в вопросах о наилучшем государственном устройстве, теологических основаниях справедливого правления или о достойном разумного существа способе существования[1 - Об этой несамостоятельности проблематики власти до рубежа современости пишет, например, В. Г. Косыхин. См.: В. Г. Косыхин Метафизика власти и проблема нигилизма в европейской философии // Власть. – 2008. № 3. – С. 90–91.]. Выход властной проблематики на авансцену философских изысканий связан и с кризисом метафизики (в контексте «смерти Бога» власть как концепт наследует бытию), и с кризисом гуманизма и проекта Просвещения, поскольку масштабные катастрофы XX века чрезвычайно остро поставили вопрос о всеобщей ответственности за происходящее. Шок вызвали не сами по себе масштабы бедствий, а сомнения в способности разума действительно управлять теми процессами, которые он сам целенаправленно инициирует. Это и значит, что природа власти, отношения власти, субъект власти и т. п. – проблема, причем далеко не только теоретическая. Таким образом, философская проблематизация власти соответствует интенции практического поворота постметафизической мысли достаточно буквально: она едва ли может позволить себе остаться в рамках абстрактно-теоретических и отвлеченных изысканий, любые тезисы в этой области так или иначе будут иметь этическое и политическое измерение. Более того, можно сказать, что метафизические (онтологические) выкладки по поводу природы и устройства власти по факту легитимируют (либо проблематизируют) практические властные стратегии, и в этом смысле концепции власти никогда не нейтральны.
Очевидно, что власть в современной философии оказалась одной из самых привилегированных тем, и при этом сам концепт власти избегает однозначности, его смысл двоится, множится вплоть до того, что иной раз понимание вообще оказывается затруднено. Так, начиная с Ницше, впервые придавшего этому концепту статус ключевого, власть понимается то как космообразующая креативная мощь, учреждающая ценности и полагающая порядок, то как репрессивная машина господства, ориентированная на подавление и всюду внедряющая идеологический контроль. Другой аспект проблемы заключается в неопределенности онтологического статуса философского концепта власти. Ницше изобретает «волю к власти» как понятие, долженствующее увести мысль из сферы метафизики и сформировать философию нового типа. Однако и саму концепцию Ницше часто называют метафизической, и последовавшие за Ницше в тематизации власти философы XX века (М. Фуко и Ж. Делез, например) оказались втянуты в построение своего рода квазионтологии. Иными словами, постметафизический потенциал понятия власти парадоксальным образом не отменяет его же метафизической инерции.
Амбивалентное описание природы власти в философии может быть понято в том числе и как проекция всегда проблемных и неоднозначных отношений интеллектуалов и власти. Впечатление такое, что философы-интеллектуалы все время обнаруживают себя полупридавленными тяжестью некой вмененной им социальной миссии, и все время не могут определиться с тем, в чем именно эта миссия состоит: то ли они должны власть (в лице имеющихся институтов) легитимировать, то ли воспитывать правителей и совершенствовать институты исходя из идеи справедливого правления, то ли заниматься радикальной критикой властных структур и поиском стратегий автономии-автаркии. Причем по большому счету ни одна из этих позиций не может похвастаться гарантированной этической безупречностью: всегда есть повод для неприятных подозрений, что сколь угодно основательно фундированные концепции власти могут быть для своих авторов не в последнюю очередь способом самооправдания в ситуации если не ангажированности, так ресентимента (и еще вопрос, что из этих двух вариантов с точки зрения чистоты мысли менее непристойно). Не говоря уже о том, что практически любая философия власти, неизменно начинаясь с гуманистических установок или просвещенческого пафоса на стадии практических выводов, если доводить все импликации до конца, непременно даст повод усомниться в этической (или даже психической) вменяемости ее автора. Нет, конечно, всегда можно найти аргументы, оберегающие репутацию Ницше, Хайдеггера, Шмитта, Фуко, Делеза, но сама по себе регулярность, с которой приходится оправдывать и оправдываться, наводит на подозрения не только о каверзности самой темы, но и о весьма умеренной способности философской рефлексии на деле гарантировать автономию мысли.
Опять-таки Фуко, обозначая в Предисловии к американскому переводу 1977 года «Анти-Эдипа» Делеза и Гваттари ключевую интенцию этой книги как антифашистскую, выдвигает императив «Не влюбляйтесь во власть![2 - Делез, Ж., Гваттари, Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делез, Ф. Гваттари; пер. с фр.. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – С. 9.]». Будучи чрезвычайно актуальным для травматичной поствоенной рефлексии 70-х, императив этот, казалось бы, сегодня должен был несколько утратить свою остроту, поскольку современная эпоха «диффузного цинизма» характеризуется скорее уж всеобщей подозрительностью и неспособностью обольщаться политическим дискурсом[3 - Как утверждает П. Слотердайк, цинизм представляет собой просвещенное ложное сознание, то есть такое сознание, которое видит все идеологические манипуляции насквозь и не сопротивляется им только лишь из соображений комфортности и конформизма. См.: Слотердайк П. Критика цинического разума / Пер. с нем. А. Перцева; испр. изд-е. – Екатеринбург: У-Фактория; М.: ACT, 2009.]. Однако, судя по всему, жизнь гораздо изобретательнее, чем теоретики и критики с их прогнозами, и внезапно захлестнувший в последние годы простых обывателей политический энтузиазм по поводу разного рода «священных идей» вновь позволяет вернуться к обсуждению делезианского вопроса о том, «как желание может желать подавления других и себя самого?».
Итак, можно сказать, что, продержавшись в фокусе самого пристального философского внимания более одного века, проблема власти уже приобрела классический характер и даже отчасти тривиализировалась, но не утратила при этом остроты и не избавилась от травматичной амбивалентности[4 - Вполне может статься, что проблема власти далеко не единственная страдает двусмысленностью и амбивалентностью. Н. А. Терещенко в своей книге «Социальная философия после “смерти социального”» раскрывает целый ряд парадоксов и антиномий, свойственных проблемному полю социальной философии, которая, как настаивает автор, фактически является единственнм претендентом на статус «первой философии» сегодня. Более того, антиномичность социальной философии предлагается понимать не как антиномичность предмета, а как «антиномичность философии как таковой», «антиномичность познания и мышления об обществе». Терещенко Н. А. Социальная философия после смерти социального. – Казань: Казанcкий университет, 2011. – С. 285.]. В данной ситуации автору этой книги представлялось важным не заняться разработкой новой – всеобъемлющей и непротиворечивой, отвечающей на все вызовы времени, – очередной метафизики власти в дополнение ко всем предыдущим, а выявить многочисленные двусмысленности, неоднозначности и парадоксальности, которыми тема власти чревата и которые имеют тенденцию, оставшись недостаточно отрефлексированными, увести философскую мысль совсем не в том направлении, в котором она изначально намеревалась двигаться. Задача заключалась в том, чтобы попытаться, по крайней мере, понять, что этот эффект амбивалентности в каждом случае производит, какая логика его порождает, какова генеалогия того или иного парадокса.
С одной стороны, практически любой аспект проблемы власти обнаруживает симптоматичную двойственность, которая может быть осмыслена по аналогии с противоположностями Гераклита, если последние понимать не в духе гегелевской диалектики (как противоречия, закономерно снимаемые синтезом в процессе развития) и не в логике бинарных оппозиций структурализма (как статичное различие противостоящих структурных элементов), а как напряженное, неустойчивое равновесие разнонаправленных сил. В этом смысле концепт амбивалентности кажется вполне подходящим к случаю, коль скоро, помимо «двойственности», он содержит смысловую отсылку к «valentia», то есть «силам». Амбивалентность власти – не просто двусмысленность, поскольку речь идет не о результатах чьего-то недомыслия или злой воли, от которых можно было бы избавиться, просто внеся ясность или разоблачив манипулятивные намерения. Не является она и просто серией парадоксов, перед которыми на досуге в любовании может себе позволить застыть философское созерцание. Это, скорее, проблемность, с которой мы имеем все шансы столкнуться на уровне праксиса. Амбивалентность как раз в том и заключается, что отследить смену полюсов, точку трансформации «позитивного» в «негативное» и причины этой трансформации трудно, равно как агент власти, по всей видимости, не может избежать соблазна и полюса «нечистоты», как о том предупреждал непременно поминаемый в данном контексте лорд Дальберг-Актон[5 - «Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men». (Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Великие персоны почти всегда являются плохими людьми».) John Emerich Edward Dalberg. Letter to Archbishop Mandell Creighton. (Apr. 5, 1887). URL: http:// history.hanover.edu/courses/excerpts/165acton.html (дата обращения 12.10.2016).].
Но каков статус этого утверждения? Имеет ли амбивалентность власти онтологический характер? Едва ли. По крайней мере, автору этой книги представляется принципиально важным не делать поспешных выводов в онтологическом ключе. Амбивалентность как концепт будет использоваться в инструментальном смысле как «пустая клетка» постструктуралистского метода в описании Ж. Делеза[6 - Это парадоксальный элемент, который смещен относительно себя и находится всегда не там, где его ищут, но именно поэтому он запускает и связывает разные серии, будучи имманентен каждой из них. Делез Ж. По каким критериям узнают структурализм // Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. Статьи / Пер. с фр., редакция и предисловие. Соколов Е. Г. СПб. Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ, Алетейя, 1999. – С. 159–168.]. Задача этой «клетки» – не указать на некий референт, но провести различия, выстроить серии феноменов и индуцировать движение мысли.
В методологическом отношении эта книга написана исходя из ряда в своей основе постструктуралистских предпосылок. Прежде всего, насколько это возможно и насколько это позволяет инерция языка, склоняющая к гипостазированию понятий, автор старается избегать трактовки власти как некой сущей в себе субстанции, или некоторого атрибута бытия сущего. В этом смысле концептуализация амбивалентности власти не претендует на то, чтобы быть метафизикой власти. Поэтому, не давая строгую дефиницию понятию власти (мышление, исходящее из определений, характерно для метафизики сущности и не релевантно заявленным целям), мы будем трактовать ее вслед за Фуко в достаточно широком смысле слова – как то, что не сводимо к политическому господству или государству как социальному институту, хотя и проявляется через них. Власть имеет место везде, где есть социальные отношения (она и есть дифференциальное отношение социальных сил), везде, где имеют место дисциплинарные практики, везде, где присутствует принудительность со стороны дискурса. Более того, придерживаясь логики так называемого перформативного поворота в гуманитарном знании, можно говорить о перформативном характере власти в том же смысле, в каком Джудит Батлер, опираясь, с одной стороны, на Мишеля Фуко, с другой стороны, на Джона Остина, говорит о перформативном характере пола[7 - Как известно, Батлер существенно изменила подход к гендерным вопросам, настаивая на том, что нет никакой метафизически гарантированной истины пола, но есть исторически подвижные и зависящие от конкретных форм праксиса в том или ином обществе гендерные роли, исполнение которых постфактум и производит «онтологический эффект». См.: Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. – Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002.], а в более поздних работах о перформативности политики[8 - Батлер Дж. Заметки к перформативной теории собрания. М.: Ad Marginem Press, 2018; Butler J. and Athanasiou A. Dispossession: The Performative in the Political. Cambridge: Polity Press, 2013.]. Власть есть так, как она исполняется участниками социального ритуала, с тем уточнением, что она не принадлежит субъектам, а, скорее, производит их. Перформативный подход, таким образом, предполагает, что нет истин на все времена, но есть подлежащие экспликации диспозитивы. И теоретическая задача в данном случае состоит в проблематизации того, какого рода практики производят эффект властных отношений. Соответственно, можно утверждать, что амбивалентность власти – это именно эффект и у него перформативное происхождение.
Методом историко-философских реконструкций, предпринятых в книге, является генеалогия, ориентированная не на описание единого смысла и цели линейно развивающейся истории (что типично прежде всего для диалектического метода), а на поиск смысловых смещений от одной концепции власти к другой, на работу с единичными событиями мысли, имеющими характер «творческих мутаций». Такой методологический подход позволит эксплицировать неоднозначный потенциал власти как одного из ключевых концептов современной философии. Генеалогия как изобретенный Ницше и основательно освоенный Фуко подход к истории предполагает определенный способ смотреть из настоящей точки (генеалогия всегда есть «генеалогия нас самих») в прошлое, вычерчивать некую траекторию преемственности, но без всякой веры в предзаданный сценарий развития, свернутый в точке истока, что было свойственно как истории Мирового Духа у Гегеля, так и «эпохам бытия» у Хайдеггера. Так понятый генеалогический метод использовался не только во Второй главе, но и в Третьей, где предпринята попытка рефлексии на тему практических отношений философов и власти.
Для того чтобы избежать зачастую свойственной философии опасности излишне спекулятивного характера мысли, автор старается по возможности вовлекать конкретный материал, полученный различными гуманитарными науками (культурной антропологией, историей, социологией, медиаисследованиями) и таким образом целенаправленно использует междисциплинарный подход.
Кроме того, в методологическом отношении книга вписывается в логику, по крайней мере, трех так называемых «поворотов» современной постметафизической философии: практического, перформативного, медиального. О практическом повороте речь идет в силу того, что, как уже отмечалось выше, концептуализация власти не остается в рамках «чистого» теоретизирования, она всегда предполагает обоснование или проблематизацию определенного праксиса. О перформативном повороте речь идет в силу того, что исследование ориентируется не на поиск метафизической сущности власти, а на проблематизацию того, какого рода практики (дискурсивные и недискурсивные) создают эффект присутствия власти и позволяют ей себя репрезентировать и истолковывать. О медиальном повороте речь идет, поскольку современная ситуация – это прежде всего ситуация медиаприсутствия, и, соответственно, невозможен анализ актуальных форм репрезентации, легитимации и критики власти без учета влияния на них медиасреды, в том числе и среды интерактивной (о чем напрямую речь идет в 3–5 параграфах Третьей главы).
Тематическое распределение феноменов амбивалентности, попавших в фокус внимания этой книги (их можно при желании найти гораздо больше, предложенный ряд не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим) по трем аспектам (мифология, онтология, праксис), разумеется, относительно: жестких границ здесь нет, аспекты не существуют в отрыве друг от друга, и во многих проблемах, что понятно, можно обнаружить их все в совокупности. Такая группировка разделов опирается на дискурсивные привычки философского знания или, если угодно, структуру эпистемы, склоняющую нас ожидать, что этика должна коррелировать с онтологией, теория с праксисом, а основание (или обоснование) онтологии в той или иной степени теологично.
Заметим, что амбивалентный характер как феномена, так и концепта власти никогда не становился предметом специального систематического исследования, ни в целом, ни в обозначенных в этой книге трех аспектах. И, соответственно, решая эту задачу, книга ориентирована на то, чтобы постараться связать в единую картину многие фрагментарные сюжеты и проблемы современной философии. Кроме того, полученная исследовательская оптика позволила дать философскую интерпретацию обширному конкретному антропологическому и историческому материалу, накопленному гуманитарными науками касательно сакральности власти. И поскольку логика и сформулированные гипотезы могут быть транспонированы на более широкий круг материала, в этом отношении у книги, хочется верить, также есть определенный эвристический потенциал. Истоки и история философского концепта власти в существующей литературе исследованы лишь фрагментарно, что можно сказать и об истории проблемы «интеллектуалы и власть», и, таким образом, здесь была предпринята попытка восполнить некоторые пробелы в данных областях. Что касается темы влияния на власть современной медиасреды, то она, конечно, активно обсуждается в последнее время в силу ее актуальности и остро проблемного характера, и здесь концепция амбивалентности власти может привнести новый поворот в дискуссию.
Предполагаемый практический смысл книги связан с уже отмеченным выше обстоятельством: в силу специфики предмета философское исследование власти никогда не может остаться только лишь отвлеченной теорией. Вопросы о носителе суверенитета и цене суверенности, о виртуализации террористических угроз и гибридном характере войн, о значении публичного пространства являются чрезвычайно злободневными, но именно поэтому дистанцирование по отношению к ним, которого позволяет достичь философская рефлексия, может быть не менее (если не более) востребовано, чем высказывания, имеющие непосредственный и прямой политический характер. Поднятые в книге проблемы и выдвинутые гипотезы позволяют диагностировать многие болевые точки современности, понять их природу и если уж и не дать импульс для стратегий позитивных изменений, то по крайней мере помочь избежать попадания во всевозможные идеологические ловушки.
В заключение еще один комментарий вводного характера. Книга собрана на основе серии статей, большая часть которых была написана в рамках исследовательского проекта, выполнявшегося автором в 2014-2016 годах[9 - Персональный исследовательский проект «Амбивалентность власти: мифологический, онтологический и практический аспекты» проводился при поддержке фонда РГНФ (проект РГНФ № 14-03-00218).], а затем существенно дополнена. Все статьи с выходными данными приведены в библиографическом списке, читатель при желании легко найдет соответствия, ориентируясь на названия статей и параграфов, поэтому в самом тексте книги ссылки на эти публикации автора не даются. Таким образом, эта книга не является трактатом в «геометрическом стиле». Впрочем, единство исходного проекта организует единство книги в гораздо большей степени, чем это было бы возможно при стратегии просто тематической подборки статей разных лет – каждый параграф обладает внутренней завешенностью и в этом смысле самостоятельностью, но при этом решает определенную задачу в рамках целого. В этом смысле книгу достаточно удобно читать, ориентируясь на собственную выборку параграфов, а указанные смысловые ссылки внутри текста помогут при желании проложить маршрут индивидуальной стратегии читательского интереса. В целях навигации читатель может воспользоваться и разделом «Вместо послесловия», в котором представлено своего рода summary, то есть последовательно и компактно изложены ключевые положения.
Глава 1
Мифология и теология власти
1. Амбивалентность сакрального и амбивалентность власти: от антропологической концепции к философской проблеме
Цель этого параграфа заключается в обосновании концепта амбивалентности власти в контексте амбивалентности сакрального, для чего будет предпринята попытка проговорить несколько предположений. Прежде всего донельзя двусмысленный характер философского понятия власти может быть понят как выражение глубокой неоднозначности власти как социального феномена. Последний, как представляется, весьма симптоматичным образом коррелирует с еще одним неоднозначным феноменом – феноменом сакрального. И этот коррелят не случаен, хотя бы в силу того, что апелляция к сакральности – первый и, пожалуй, самый действенный способ легитимации власти, который поэтому, вопреки всем декларируемым рациональным установкам, востребован до сих пор. Стало быть, если и искать рецептуры соблазна, движущего как тем, что Августин вслед за апостолом Павлом называет libido dominandi (похоть господствования), так и энтузиазмом подчинения, то имеет смысл начать поиски с этой области. Концепция амбивалентности сакрального, наиболее полно сформулированная Р. Кайуа, предполагает, что в сакральном присутствует одновременно два полюса – святость и скверна, причем разделить их часто не представляется возможным. Соответственно, можно предположить, что сакральное через процедуру легитимации щедро награждает обеими этими характеристиками власть.
Справедливости ради надо сказать, что концепция амбивалентности сакрального, которая в данном случае выступает в качестве интеллектуального трамплина, мало того что, мягко говоря, не нова (ее ключевые положения были намечены в работах А. Юбера, М. Мосса и Э. Дюркгейма[10 - См. Мосс М. Социальные функции священного: Избр. произведения / Пер. с франц. под общ. ред. И. В. Утехина. – СПб.: Евразия, 2000. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. – М.: Канон+, 1998.], а истоки и вовсе относятся к «Лекциям о религии семитов» Робертсона Смита (1889)), но и подвергалась критике, по крайней мере, такими авторами, как Р. Жирар и Дж. Агамбен[11 - Жирар Р. Насилие и священное / Пер. с фр. Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2010. Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011.]. И тем не менее рискнем предположить, что ее эвристический потенциал далеко не исчерпан, хотя, конечно, к критике в ее адрес имеет смысл прислушаться. Ключевая претензия заключается в том, что, будучи в ходу в течение всего XX века, концепт амбивалентного сакрального в некотором смысле сам мифологизировался, превратившись в универсальную объяснительную схему для всех реалий жизни архаических обществ и не только их[12 - Всю неоднозначность и многоаспектность концепта сакрального вообще и амбивалентного сакрального в частности через интеллектуальную историю этих понятий раскрывает в своей монографии С. Н. Зенкин. См.: Зенкин С. Н. Небожественное сакральное: Теория и художественная практика. – М.: РГГУ, 2014. – 537 с.]. Бинарная оппозиция сакрального и профанного устарела, как и всякий бинаризм, по причине своей механистичности. Кроме того, амбивалентный характер сакрального лишь указывает на центральное ядро религиозного опыта, но сам еще нуждается в объяснении и поэтому, будучи применен к конкретным реалиям, по сути ничего не объясняет. И, что еще хуже, как подмечает Дж. Агамбен, в редакции таких авторов, как Р. Отто[13 - Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его отношении с иррациональным. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008.] и опирающихся на него многочисленных феноменологов религии, этот концепт недопустимым образом психологизировался, поскольку с его помощью была предпринята попытка реконструкции религиозного опыта как такового, как связанного с экзальтацией и ужасом одновременно. По сути же, речь шла о проекции сложного чувства ностальгии, которое переживала рационалистическая гуманитарная мысль рубежа веков, пытаясь выразить свое отношение к религии[14 - Как язвительно замечает Агамбен, «В этом определении священного, которое отныне становится синонимом всего темного и неопределенного, приходят к согласию теология, совершенно утратившая опыт божественного откровения, и философия, забывшая о научной строгости в угоду чувствам. Религиозное всецело принадлежит к сфере психологических эмоций и имеет дело исключительно с такими вещами, как экзальтированность и священный трепет – вот те банальности, которым неологизм “нуминозный” должен был придать наукообразный вид». // Дж. Агамбен. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011. – С. 101.]. В последнем пункте с критикой Агамбена трудно не согласиться. Отметим только, что в случае Р. Отто (а позже и М. Элиаде) речь идет о подводных камнях феноменологического метода, который, предполагая, что, оттолкнувшись от индивидуального опыта сознания, можно с помощью «эпохэ» сделать выводы на трансцендентальном уровне, рискует выдать типичные для определенной культуры установки, а то и вовсе частные мировоззренческие пристрастия автора за характеристики искомого априорного инварианта, присущего человеческому как таковому[15 - Как на этот счет очень убедительно пишет А. П. Забияко, «Р. Отто включает в состав категории святости такие признаки, которые предполагают денотат, обладающий качествами трансцендентности, совершенной инаковости, абсолютности. Но при этом представления о реальностях, обладающих такими качествами, не могли сложиться в архаическом сознании. Это абстракции достаточно высокого порядка, требующие развитого религиозного языка и изощренного спекулятивными размышлениями сознания. Признаки, выделенные Р. Отто, и особенно иерархия этих признаков, как представляется, не могут претендовать на универсальность и статус первофеномена религии. В категории святости Р. Отто легко просматриваются иудеохристианские представления в их лютеровском толковании, мистические интуиции, а кроме того, влияние мирочувствования немецкого романтизма». См.: Забияко А. П. Категория святости. Сравнительное исследование лингворелигиозных традиций. – М., 1998. – С. 196–197.]. И это проблема не только феноменологии, но и вообще многих направлений модернистской мысли (психоанализа в том числе), под эгидой преодоления метафизики реформирующих ее[16 - А. Н. Красников в статье «Методология классической феноменологии религии» приводит забавный каламбур, отражающий психоаналитический и феноменологический подход к религиоведению в их сходстве и различии. “Students of religion tended to suffer not from neurosis but from numinosis” («Исследователи религии страдают в основном не от невроза, – речь, очевидно, идет о фрейдистской концепции религии, – а от нуминозного»). См. Красников А. Н. Методология классической феноменологии религии. – URL: http://religioved.ru/310303/методо-логия_классической_феноменологии_религии.html (дата обращения 30.03.2014).].
Однако, что касается Р. Кайуа, о концепции которого в дальнейшем пойдет речь, к нему эта претензия применима не в полной мере. С одной стороны, он, конечно, видит задачи антропологии в поиске онтологических констант, о чем свидетельствуют даже сами названия его книг: «Миф и человек», «Человек и сакральное»[17 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003.]. С другой стороны, он целенаправленно трактует понятие сакрального социологически, а не феноменологически, идя, таким образом, вслед за Моссом, а не за Отто. Кстати, свой проект, затеянный вместе с Жоржем Батаем, он называет сакральной социологией. Да и поскольку в целом концепт амбивалентного сакрального в гораздо большей степени обязан своим происхождением и содержанием социологам, есть надежда на то, что его сугубо спекулятивный характер сильно преувеличен. Более того, как представляется, этот концепт выражает отнюдь не метафизическое тождество религиозного опыта вне всяких исторических различий, а с точностью до наоборот, проблематизирует сделанное на конкретном этнографическом материале открытие домонотеистической логики, в которой нет однозначного деления на «черное» и «белое», «добро» и «зло» просто в силу того, что политеизм плюралистичен. Что касается недостаточной объяснительной силы амбивалентного сакрального как концепта и как концепции, то это более плюс, чем минус, поскольку способность объяснять все – скорее свойство метанарратива, чем вменяемой научной гипотезы. Конечно, простой ссылки на двойственность святости и скверны в сакральном недостаточно, чтобы объяснить, как того требует Агамбен, почему присваиваемый некоторым преступникам в Древнем Риме статус homo sacer предполагал одновременно безнаказанность их убийства и невозможность принести их в жертву, однако в высшей степени интересная концепция самого Агамбена, поясняя природу суверенной власти как держащейся на включающем исключении голой жизни[18 - По версии Агамбена, суверенная власть учреждает себя, устанавливая ситуацию чрезвычайного положения (в общем, это формулировка, детально прописанная К. Шмиттом в «Политической теологии»), во время которой любая жизнь может быть беспричинно отнята суверенным решением и при этом убийство не будет считаться преступлением. Голая жизнь, vita sacra – это то, к чему суверенная власть редуцирует всех тех, кто попадает в зону ее влияния, в пределе, это жизнь, подлежащая безнаказанному убийству, поскольку она «недостойна быть прожитой». И, соответственно, homo sacer – всего лишь носитель такой жизни, заложник суверенного решения.], явно переходит границы разумного, когда претендует на объяснение сакрального вообще как производного от первичного политико-правового отношения[19 - «Если наше предположение верно, священное представляет собой лишь изначальную форму включения голой жизни в политико-правовую сферу». Дж. Агамбен. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011. – С. 110.]. Еще более радикальной представляется попытка Р. Жирара объяснить священное как эффект биологически детерминированного насилия, вытесненного культурой в целях самосохранения человечества как вида; насилия, замещенного в жертвоприношении и закамуфлированного мифом и культом. Имея в виду прямые и незатейливые редукции в духе Жирара, служащие глобальной цели объяснить происхождение религии, лишний раз можно убедиться в том, что объяснительная стратегия исследования едва ли более релевантна, чем радикально антиредукционистский настрой феноменологов. В любом случае, к сожалению, у философов и ученых-гуманитариев всегда есть шанс продвинуть тот или иной гуманитарный миф, или даже создать его, и панацеи от такого рода прискорбной склонности не существует. Можно разве что пытаться пресекать аскетическим усилием проблематизации поползновения спекулятивной мысли, следуя жесткой логике понятий, лихо вывести все многообразие мира из одного тезиса и пары принципов.
Обозначим ключевые моменты концепции амбивалентности сакрального в редакции социологически ориентированной антропологии Р. Кайуа с тем, чтобы затем наметить возможные последствия для сакрализации власти.
Прежде всего отметим, что почетные и почтенные родоначальники этой концепции Э. Дюркгейм и М. Мосс трактуют сакральное не в интроспективно-психологическом ключе как абсолютную категорию теологии, а как предмет внешнего познания. Иными словами, как то, что присутствует на уровне вполне телесных практик, имеет функциональное значение, приписываемое тем или иным фактам реальности в рамках «первобытных» обществ, и это позволяет делать заключения о том, что сакральное имеет социальный смысл.
Различие сакрального и профанного описывается идущим вслед за социологами Кайуа[20 - Сам Кайуа, правда, социологом не является, пополняя ряды филологов, литературных критиков и (о ужас!) литераторов, занимающихся антропологическими изысканиями, к каковым можно отнести М. Бахтина, М. Элиаде, Р. Жирара, Р. Барта, Ж. Батая. Стоит ли говорить о том, что именно эта категория авторов была особенно продуктивна по части производства гуманитарных мифов.] в опоре на материал, связанный прежде всего с практиками табуирования. «Tabou» как некий религиозный запрет в его отличии от «noa» («обычного», «доступного», «свободного») не только позволяет трактовать сакральное как функционально отличающееся от нормальных повседневных практик (т. е. профанного), но и эксплицирует его существенно двойственный характер: под сакральный запрет попадает как ритуально чистое, так и ритуально нечистое. Нечто может быть запретным как из соображений почтения, так и из боязни оскверниться. Соответственно, ритуальное приобщение к сакральному в качестве своих последствий может иметь как благословение, так и проклятье, а само сакральное может пониматься и как святость, и как скверна. Причем в некоторых случаях можно зафиксировать переход от одного полюса к другому, а в других это чрезвычайно затруднительно. К примеру, масса эмпирического материала, касающегося похоронных ритуалов у самых разных народов, показывает, что тело мертвого родственника оказывается табуировано, поскольку оно «заражено», осквернено смертью, прикосновение к нему в рамках похоронных обрядов вынужденным образом делает участников церемонии «нечистыми» и исключает их из круга профанного мира. Однако в результате сложных обрядовых действий покойник обретает статус благого предка (то есть от полюса скверны перемещается к полюсу святости), а участники похорон, дополнительным образом очистившись, оказываются вновь допущенными к профанным делам. Но вот территории кладбищ часто совмещают в себе обе характеристики сакрального одновременно. То же самое можно сказать и о различных маргинальных фигурах вроде колдуна или знахаря. Существуют и примеры того, как «нечистая» кровь служит эффективным средством ритуального очищения и т. д. В итоге в опоре на словарь Эрну-Мейе, определявший латинское sacer как «тот или то, до кого или чего нельзя дотронуться, не осквернившись или не осквернив», Р. Кайуа пишет о сакральном следующее. «Мир сакрального, помимо прочего, отличается от мира профанного как мир энергий от мира субстанций. С одной стороны силы, с другой стороны вещи. Отсюда прямо вытекает важное следствие для категорий чистого и нечистого: они оказываются в высшей степени подвижными, взаимозаменимыми, двусмысленными. В самом деле, если вещь по определению обладает устойчивой природой, то сила, напротив, может приносить добро или зло в зависимости от конкретных обстоятельств, в которых она проявляется в тот или иной момент. Она бывает и благой, и злой – не по природе, а по ориентации, которую она приобретает, или которую ей придают <…>. В виртуальном состоянии сила двойственна; в действии она становится однозначной».[21 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. – С. 164.] Если сопоставить эту трактовку сакрального с той, которая присутствует в феноменологической традиции, например, у М. Элиаде[22 - См. прежде всего: Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского. – М.: Изд-во МГУ, 1994.], то можно отметить следующие любопытные нюансы. Для феноменологов священное[23 - В строгом смысле слова, и Отто, и Элиаде используют концепт священного, или нуминозного, а не сакрального, однако нельзя сказать, что эти концепты как-то всерьез принято содержательно различать, например, как применимые один к монотеизму, а другой к политеизму.] понимается прежде всего как полнота бытия, совершенство, которое то являет себя в иерофании, то вновь утаивается, и в этом отношении священное присутствие в значительной степени обладает чертами субстанциальности (в том смысле, в каком субстанция есть causa sui). Хотя, конечно, и энергийный аспект здесь присутствует, по крайней мере, в силу того, что сакральное по Элиаде связано с космогонической креативностью. Разумеется, оба концепта (и субстанция, и энергия), восходят к аристотелевской «энергейе», но все-таки смысловые акценты будут различаться. Сакральное у Кайуа подвижно, оно меняет полюса и постоянно смещается от одной вещи к другой. Более того, оно как источник мощных сил не только желанно по причине повышенной эффективности, но и опасно, с ним нельзя обходиться как попало и масса практик направлена на то, чтобы избежать неуместного и рискованного столкновения с ним. Для Элиаде же сакральное всегда позитивно, даже если оно вызывает не только экзальтацию, но и священный трепет. Иными словами, если Элиаде подчеркивает стремление мирского к возможно более полному совпадению со священным (что все равно неосуществимо в силу непреодолимой онтологической дистанции между ними), то Кайуа акцентирует внимание на процедурах изоляции, различения. Оба автора, говоря о сакральном и профанном по понятным причинам стремятся выйти за рамки бинарной логики, однако делают они это по-разному. Элиаде фактически логику оппозиций заменяет логикой соприсутствия, Кайуа вместо принципа бинарного кода вводит триангулярность, которая сообщает динамизм всей структуре в целом[24 - «Оба полюса сакрального одинаково противостоят профанной области. Перед его лицом их антагонизм смягчается, почти исчезает. Собственно, точно так же и святость равно опасается как оскверненности, так и профанности – для нее это две разные степени нечистоты. И наоборот, скверна равно способна запятнать как святое, так и профанное, которые будут равно страдать от ее посягательств. Итак, три стихии религиозного мира – чистое, профанное, нечистое, обнаруживают примечательную способность объединяться по две против третьей». См.: Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. – С. 186.]. Сам он называет это сложное подвижное отношение диалектикой, но, конечно, это не гегелевская диалектика с последовательным переходом от тезиса к антитезису и синтезу. Скорее, здесь можно говорить о том, что сакральное приобретает черты пустого означающего, которое, как пустая клетка, разворачивает серии и заставляет их смещаться друг относительно друга. Особенно это заметно, когда Кайуа анализирует (на материале исследований Гране и Ленара) правило экзогамии как правило обмена женщинами, поддерживающее как социальную солидарность, так и различия, описывая его в терминах циркуляции сакральной энергии между фратриями с учетом поколенческих смещений. Нетрудно догадаться, что следующим шагом в развитии данной концепции будет знаменитый «Символический обмен» Бодрийяра[25 - Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Пер. и вступ. ст. С. H. Зенкина. – М.: Добросвет, 2000.]. Таким образом, несмотря на то что книга была издана в 1939 году, Кайуа, похоже, предвосхитил в ней некоторые методологические интуиции позднего структурализма.
Собственно, описывая сакральное в терминах энергии, циркулирующей за счет того, что силы обладают разным потенциалом, Р. Кайуа совершенно показательным образом приходит к весьма значимой тавтологии: в определенном ракурсе сакральное совпадает с властью. «Сама глубинная природа властного могущества ни к чему другому не сводима <…> Лучше будет удовольствоваться констатацией абсолютной уникальности власти как феномена и подчеркнуть, что по своей природе она тесно связана, едва ли не тождественна с сакральным <…>. Она выступает как незримая, прибавляемая извне и необоримая чудесная сила, которая проявляется в вожде как источник и принцип его авторитета. Эта чудесная сила, заставляющая повиноваться его распоряжениям, – та же самая, что дает ветру способность дуть, огню способность гореть, а оружию способность убивать. Именно ее в различных своих формах обозначают меланезийское слово “мана” и множество его американских эквивалентов. Человек, обладающий “маной”, – это тот, кто умеет и может принуждать других к повиновению»[26 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. – С. 211–212.]. Не исключено, что в этом тавтологическом совпадении сакрального и власти нет ничего необычного, оно может быть простым эффектом выбранного Р. Кайуа языка описания и интерпретации, поскольку концептуализация сакрального в логике энергии и сил святости и скверны структурно совпадает с ницшеанской концептуализацией воли к власти как дифференцирующего элемента активных и реактивных сил[27 - См. подробнее: Глава 2, параграф «Воля к власти: к генеалогии концепта» данной монографии.]. Безусловно, Кайуа с философией Ницше был знаком, поэтому можно довольно уверенно предположить, что он исходно использует концепты в духе Ницше, правда, трудно сказать, с какой степенью методологической осознанности. Более того, в приведенном выше отрывке (равно как и в ряде других) можно заметить еще одно влияние – тема ситуативно распределяемого господства и подчинения недвусмысленно отсылает к Ж. Батаю, А. Кожеву и в конечном счете к Гегелю, то есть, иными словами, к диалектике господина и раба и теме суверенности[28 - Подробнее см: Глава 2, параграфы «Признание и негативность: полемика вокруг диалектики господина и раба» и «Право на смерть: апология и критика суверенности» данной монографии.].
Как относиться к этому влиянию[29 - Будучи членами сообщества «Сакральной социологии» в предисловиях к своим книгам и Кайуа, и Батай (речь идет о его «Проклятой части» и «Суверенности») с благодарностью признают факт, так сказать, взаимного интеллектуального опыления. См.: Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология / Пер. с фр. С. Н. Зенкин. – М.: Ладомир. 2006, – С. 316.] – вопрос спорный. Можно, конечно, расценить его как свидетельство общего спекулятивного характера концепции, поскольку выбранные понятия в каком-то смысле детерминируют результат исследования. Можно также поставить Кайуа на вид то, что, заявив о себе как о стороннике социологического подхода, он контрабандой проносит в выводы метафизику и даже «самый научный его текст» (по выражению С. Н. Зенкина[30 - Зенкин С. Роже Кайуа – сюрреалист в науке // Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003 – С. 24.]) все же недостаточно научен, – но чего еще ждать от литератора? С другой стороны, независимость от языка и идеал ничем не замутненной эмпирии – пожалуй, всего лишь утопическая идея, даже когда речь идет о полевых, а не кабинетных исследованиях. К тому же рискнем предположить, что в данном случае шаткий баланс между глубокой проблематизацией и соблазном скатиться во вполне «завиральные» теории характеризует и Кайуа, и Батая как авторов собственно философских (вне зависимости от того, считать это комплиментом или нет). И в таком случае, коль скоро фальсифицировать философскую мысль через отсылку к фактам, как правило, затруднительно, понимание оптики, в которой была сформулирована концепция, по крайней мере, позволяет очертить ее смысловые и методологические границы, что само по себе может считаться условием внятности. Кроме того, представляется важным, что концепция Кайуа наводит междисциплинарные мосты, создает своего рода платформу (конечно же, не единственно возможную, но тем не менее), позволяя подходить к эмпирическому материалу этнографии с философскими вопросами о социальном смысле практик сакрализации власти, что в конечном счете на пользу и философии, и гуманитарному знанию.
Так как проблема власти вовсе не являлась для Кайуа центральной, объем текста, посвященного этой проблематике, весьма невелик и, более того, рассуждения на эту тему фрагментарно разбросаны по всему пространству книги. Однако имеет смысл компактно эксплицировать те тезисы, к которым он приходит по данному вопросу.
Поскольку власть связывается с сакральным могуществом, которое, будучи энергией, онтологически подвижно, она предстает как даруемая благодать, которую можно как получить, так и утратить. Стало быть, персонаж, обладающий властью, никогда не является ее субъектом, он лишь агент. Но его наличие в качестве точки полноты присутствия власти имеет вполне определенный социальный смысл, поскольку устанавливает и гарантирует порядок. Соответственно, вопрос в том, по каким правилам распределяется сакральная мана господства. Интересно, что, замыкая сакральное и власть друг на друга, Кайуа тем не менее не утверждает, что принцип сакрального непременно производит в качестве своего эффекта социальную иерархию. Он фактически дает две модели социальной организации, одна из которых (более архаическая) построена на принципе равновесия реципрокальных обменов между фратриями, а вторая – на принципе соревнования за престиж, лежащего в основании иерархической социальной структуры. Причем потлач оказывается той практикой, которая переключает режим равновесия в режим иерархии, поскольку в нем «воля к сотрудничеству вытесняется волей к власти».[31 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003, – С. 210.] В этих рассуждениях опять-таки нетрудно увидеть среднее звено между концепциями Мосса (социобразующий смысл обмена дарами) и Бодрийяра (символический обмен), но дело даже не в этом. Бодрийяр утверждает, что властная иерархия предполагает закупорку обмена, или обмен в одностороннем порядке, коль скоро престиж начинается с такого дара, который не может быть возмещен. Кайуа же, пусть и вскользь, упоминает о том, что реципрокальность, взаимность обмена в каком-то отношении сохраняется и при наличии иерархии, просто теперь субъектами обмена оказываются не два равных соплеменника, или две фратрии, а правитель и народ как целое, то есть сохранение между ними равновесия обязательств, подкрепляемого циркуляцией благ, гарантирует правильную циркуляцию социальной маны. Связь властного престижа с чрезмерной щедростью даров – мысль, на эмпирическом материале сформулированная Моссом, но на уровне философской концепции прописанная Батаем, который в «Проклятой части» формулирует принципы экономики чрезмерных трат. Последняя, в свою очередь, приобретает черты трансгрессии, эксцесса и жертвоприношения, поскольку максимально щедрая растрата – растрата жизни[32 - Эту тему связи трансгрессии и жертвоприношения у Батая подробно раскрывает С. Л. Фокин в главе «Ацефал: практика и теория жертвоприношения». См.: Фокин С. Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. – С. 198–222.]. Однако до столь радикальных выводов Кайуа не доходит, акцентируя внимание на другом моменте. Поскольку правитель есть точка концентрированного присутствия «благодати», отношение к нему получает те же черты амбивалентности, которые свойственны всякому отношению с сакральным. Прежде всего он изолируется от профанного мира всеми возможными способами, в частности, его табу оказываются обратными по отношению к табу обычных людей. Любого рода неподобающее отношение к священной персоне может быть смертельно опасно как для нее, так и для святотатца, а оскорбление величества приравнивается к покушению на миропорядок. То есть монарх в этом смысле становится sacer – до него нельзя дотронуться, не осквернившись или не осквернив. В идеале его задача заключается в том, чтобы просто царствовать, но не править, то есть ровно и постепенно распространять свою божественную энергию на вверенную ему часть сущего.
Теперь попробуем тезисно сформулировать ряд предположений, продолжающих логику переноса на феномен власти характеристик амбивалентного сакрального.
Прежде всего сакрализация власти должна означать не только то, что правитель табуируется, но и то, что само по себе властное могущество должно пониматься в амбивалентном ключе – власть не только освящает фигуру правителя, но и оскверняет ее. Или, точнее, делегируясь как благодать, она становится для своего носителя источником скверны. Амбивалентность как раз в том и заключается, что отследить смену полюсов, точку трансформации энергии и причины этой трансформации трудно, равно как агент власти, по всей видимости, не может при всем своем желании избежать полюса «нечистоты». Соответственно, вопрос в том, в каком смысле отправление власти в логике первобытных обществ уже само по себе является скверной, особенно если учесть, что оно служит поддержанию упорядоченного, а стало быть, благого состояния. Вероятно, одной только концепции порочности злоупотреблений, которые в терминологии Бодрийяра «закупоривают» обмен маной, здесь будет недостаточно, хотя и она, конечно, многое объясняет. Другая возможная версия – постепенное ветшание, иссякание благодати, которое влечет за собой угрозу ветшания мира. Версия, прямо скажем, вполне в духе Фрэзера[33 - Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М.: Политиздат, 1980.]: царь есть растительный бог и его вполне естественное «усыхание» может трактоваться в терминах и растраты священных сил, и неизбежного постепенного осквернения профанным. Возможна и третья версия – носитель власти, монарх оскверняется ответственностью за причинение смерти. Причем этот пункт отличается от первого, то есть не всегда связан со злоупотреблениями. Две ключевые обязанности правителя – воевать и судить – это обязанности, предполагающие пролитие крови, причем, что особенно скверно, крови соплеменников. Конечно, в случае казни само исполнение приговора делегируется специальному лицу, причем то известное обстоятельство, что статус палача всегда маргинализирован (это всегда фигура проклятая), позволяет сделать вывод о степени ритуальной нечистоты и опасности убийства «своих», даже когда оно оправданно и необходимо. В любом случае обязанность выносить такие решения, так же как необходимость терять людей в войнах, – все это не может не служить источником скверны для носителя власти. В каком-то смысле этот вариант осквернения не обязательно предполагает темпоральность процесса трансформации благодати в скверну. Вспомним о диалектике господина и раба в редакции Кожева и Батая. Сувереном становится тот, кто в ситуации соперничества готов умереть сам, но также готов и убивать. Как пишет Батай, «побуждения суверенного человека фундаментальным образом делают его убийцей»[34 - Батай Ж. Суверенность // Батай Ж. Проклятая часть: Сакральная социология / Пер. с фр. С. Н. Зенкин. – М.: Ладомир. 2006. – С. 331.]. И эта формула во всех смыслах обратима. Совмещая гегелевский сюжет о суверенности (распределении властвующих и подвластных на основании отношения к смерти как критерия) и моссовский сюжет об эскалации щедрости обмена в потлаче и жертвоприношении, можно получить следующий тезис: носитель власти представляет собой отсроченную жертву[35 - Более подробно связь феномена жертвы и сакрализации власти как в архаике, так и в современности раскрыта в параграфе «Жертва террора и сакрализация власти» Первой главы.]. То есть право на властную харизму дается «авансом» в обмен на будущую жертвенную смерть правителя, и тот факт, что практики ритуального умерщвления царей известны в избытке, подтверждает этот тезис[36 - Этот момент подробно раскрывается в следующем параграфе Первой главы («Смерть в терминах престижной траты: взаимная конвертация хюбриса и харизмы»).]. Жертва всегда священна, поэтому правящее лицо при инаугурации наделяется благодатью наперед. И в этом нет ничего особо странного, если время понимается циклически: он просто посвящен-обречен, и уже в этом смысле сакрален. Но поскольку вместе с инсигниями правитель получает и право на причинение смерти, он также сразу наделяется и скверной. Что, кстати, отнюдь не означает снижения энергетического потенциала – негативное, нечистое сакральное тоже представляет собой весьма действенную силу. В конце концов, когда ритуал жертвоприношения царя имел место, с его помощью и возвращалась задолженность по благодати, и компенсировалось причинение смерти внутри племени.
Еще одна небезынтересная тема – различение светской и духовной власти, которое в свете проблемы амбивалентности может быть истолковано как эффект специализации на легитимном пролитии чистой и нечистой крови. Тот факт, что до появления монотеизма эта специализация была относительной и правитель окончательно утратил жреческие функции только в христианстве, наводит на определенные размышления. Если при политеизме амбивалентность святости и скверны в отношении сакрального вообще и сакрализации власти в частности была внутренне оправданна и логична и потому правитель мог демонстрировать обе эти стороны, чтобы доказывать свой авторитет, то монотеизм оказался перед проблемой теодицеи вообще и оправдания жестокости светской власти в частности. В силу того что правитель обязан причинять смерть, оскверняющая сторона не может быть снята со светской власти, но и не может быть оправдана. Поэтому едва наметившееся разделение сакральных полномочий царя и жреца стало значительно более радикальным: полностью освящающим характером теперь стала обладать власть духовная, а не светская, причем возник острый вопрос об их субординации[37 - Более подробно см.: параграф «Парадоксы христианской теологии власти: монотеизм и амбивалентность сакрального» Первой главы.].
Конечно, все это только гипотезы, нуждающиеся в продумывании и обосновании или опровержении конкретным этнографическим материалом (пусть и кабинетным, а не полевым способом). Но эти гипотезы позволяют сформулировать ряд проблем. Например, смысл фактического совпадения циркуляции «маны» и циркуляции смерти в случае сакрализации власти требует дополнительной экспликации, и тот факт, что на него так или иначе указывает с большими или меньшими пояснениями значительное число авторов (Ж. Батай, К. Шмит, Дж. Агамбен, М. Фуко, Ж. Бодрийяр), еще не снимает проблему как таковую. Например, Агамбен показывет, что логика суверенной власти, производящей эффекты сакрализации, на пределе обретает свою истину в лагерном режиме (концлагаре в частности) как режиме тотального чрезвычайного положения, в котором всякая жизнь рассматривается как vita sacra, а потому в любой момент может быть подвергнута насилию, отнята или использована как политический аргумент. При этом практический вывод впечатляет своей утопичностью: если мы не желаем жить в лагере, следует отказаться от суверенной власти и, соответственно, от порочных процедур сакрализации. Однако проблема как минимум в том, что суверенная власть с ее логикой жертвенного эксцесса по-прежнему чрезвычайно соблазнительна, причем прежде всего для тех, кто потенциально может оказаться в статусе vita sacra. Смерти, имевшие место при разного рода политических конфликтах, до сих пор проходят по категории жертвы. И, похоже, власть они не только оскверняют, так что складывается ощущение, что действительно десакрализованная власть не особенно вызывает энтузиазм. Тем более что и с другой стороны «потребность во власти священного настолько велика, что, несмотря на вытеснение религиозного опыта, эта власть приобретает новые, даже невиданные черты»[38 - Соловьева С. В. На стороне власти: очерки об экзистенциальном смысле власти. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2009. – С. 166.]. Как представляется, амбивалентность сакральной власти оказывается и практической и теоретической проблемой, по крайней мере, постольку, поскольку чем больше эксплицируются ее механизмы, тем сложнее занять по отношению к ней однозначную и при этом вменяемую позицию. «Все, что не сжигается, – гниет[39 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. – С. 254.]» – не просто тезис сакральной социологии, но своего рода императив, обладающий и убедительностью, и определенным романтическим обаянием, но если принимать практические выводы из него всерьез, можно с удивлением себя обнаружить в весьма нелицеприятной роли. Не случайно, как отмечает С. Л. Фокин, тот же Батай часто был вынужден специально подчеркивать отличие своей концепции от фашизма и это отличие проводилось на том основании, что жертвенный энтузиазм, по Батаю, всегда должен быть обращен на своего носителя, трансгрессивным даром всегда является только своя жизнь, а не чужая[40 - С. Л. Фокин приводит красноречивую цитату из письма Ж. Дютюи: «В противоположность нашим врагам Батай считал, что опыты, которые должны вести и к радости, и к смерти, каждый должен ставить на себе, а не на других». См.: Фокин С. Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. – СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. – С. 208.]. И, надо заметить, это различие сколь эффектно, столь и эфемерно.
Можно ли из этого затруднения сделать вывод о том, что амбивалентность – характеристика не только сакрального и сакральной власти, но и власти как таковой? И если это так, то каков статус этого утверждения? Имеет ли он, скажем, онтологический смысл, даже если его происхождение сугубо перформативно?
2. Смерть в терминах престижной траты: взаимная конвертация хюбриса и харизмы
Разговор о взаимосвязи концептов «хюбрис» и «харизма», имеющих прямое отношение к героической этике в древнегреческом ключе, отталкивается явным образом от материала античного эпоса и мифа. Но он может увести нас далеко за рамки мифологических и даже антропологических исследований, если рассмотреть «хюбристические» деяния, с завидным постоянством обрывающие блестящие карьеры эпических царей и героев в контексте вопроса о цене властной харизмы, и шире – в контексте проблемы власти как таковой. Греческий миф, несмотря на свою изрядную затертость разнообразными гуманитарными штудиями, все же дает прекрасный материал для обсуждения того, что можно было бы назвать культурным сценарием обретения и утраты властной харизмы. Соответственно, этот материал может позволить как минимум более подробно рассмотреть проблему амбивалентности власти в контексте практик сакрализации, постановке которой был посвящен предыдущий параграф, расположив ее в горизонте вопроса об антропологическом смысле актов трансгрессии и опыта суверенности, где мерой престижных трат оказывается смерть.
Следует сделать небольшое терминологическое уточнение. При том, что как хюбрис, так и харизма известны гомеровскому эпосу, присутствуют они в нем в гораздо более узком и специфическом смысле, чем тот, в котором они будут пониматься в рамках данного параграфа. Эта филологическая вольность может быть оправдана (по крайней мере отчасти) тем обстоятельством, что наша задача – реконструировать хюбрис и харизму как структурные элементы античного мифа, элементы, позволяющие эксплицировать не только основную логику, направляющую судьбу героев к ее завершению, но и логику различения достойных и недостойных моделей поведения в античном обществе и, более того, логику распределения сакральной энергии власти. Понятно, что в языке не только эпоса и мифа, но даже и в значительно более позднем языке античной драмы концептов нет по определению, и потому то, что называется «харизмой», у того же Гомера присутствует в виде констелляции самых разных слов и выражений (таких как ????? – доблесть, ????? – слава, ???? – честь, и даже ??? – огонь) в зависимости от ситуации и контекста. Но это не значит, что нет самого феномена и не о чем говорить. Говорим же мы о телесности в гомеровском эпосе, хотя ни в «Илиаде», ни в «Одиссее» нет слова «тело» в собственном смысле (а есть только ???? – труп, ???? – кожа-поверхность, ????? – «члены»). В этом смысле и хюбрис, и харизма – это что-то вроде концептуальных амальгам, или констелляций, которые собираются в смысловое единство, конечно, в перспективе современного словоупотребления.
Классический словарь Вейсмана предлагает понимать под ????? «надменность», «наглость», «нахальство», «дерзость»; «необузданность», «невоздержанность», «своеволие», «бесчинство», «оскорбление».[41 - Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991. – С. 1276.] Этимологически ????? восходит к известному предлогу (иногда фигурирующему в виде приставки) ???? – «выше», «над», «по ту сторону», «за» и имеет ряд производных. Таких как ?????? – «надменно, нагло, дерзко поступать»; «оскорблять, наносить обиду»; «вести себя необузданно». А также ??????? – «наглый, дерзкий поступок»; «предмет оскорбления» и, наконец, ???????? – «наглец, обидчик, оскорбитель».[42 - Там же. – С. 1266.] Очевидно, во многом благодаря античной драме или, точнее, ее трактовке в психологическом ключе, хюбрис часто истолковывают как аффект[43 - Такой подход присутствует, например, у Н. М. Савченковой, которая методологически исходит из психоанализа и феноменологии и ставит перед собой задачу анализа аффектов. См.: Савченкова Н. М. Производство аффекта в греческой культуре. – URL: http://anthropology.ru/ru/texts/savchenk/affect_0.html (дата обращения: 10.10.2014).], состояние сознания, что-то вроде ярости, которую переживает герой и которая его захлестывает так, что он норовит потерять остатки здравого смысла. Такая трактовка, может быть, и не лишена оснований, но она, мягко говоря, не единственно возможная. Учитывая этимологию этого слова (нечто, что «сверх», «за пределами»), роднящую его с понятием трансгрессии, и его мифологический контекст, представляется, что хюбрис в большей степени характеризует все-таки акт, жест, действие, или готовность к нему, а не переживаемую эмоцию. В мифах боги, наказывая за хюбрис, наказывали за действия, а не за состояния души.
Более того, хюбрис – не просто «дерзость», «бесчинство», но «нарушение границ», «преступание меры», «преступание пределов, положенных человеку». Иными словами, речь идет о нарушении табу, то есть запретов, имеющих сакральный характер, а не просто о наглом поведении в рамках повседневных, профанных действий. К тому же хюбрис предполагает осознанное и целенаправленное нарушение табу, а не случайное, совершенное по неведению или ошибке (в этом смысле женитьба Эдипа на собственной матери – это тягчайшее преступление, но не хюбристический поступок). Таким образом, греки в качестве хюбрис квалифицировали деяния, целенаправленно ориентированные на оспаривание различия между богами и смертными, как следствие могущие поставить под угрозу не только социальную иерархию, но и космический порядок как таковой. Классические случаи хюбристических деяний представляли собой попытки людей выкрасть, заполучить бессмертие, а также акты нечестия в отношении богов (посягательство на их бессмертную и блаженную природу). А потому не вызывает сомнений, что, во-первых, хюбрист (???????? – тот, кто совершает хюбристический поступок) должен быть наказан во имя восстановления пошатнувшегося равновесия и, как правило, наказан смертью. Во-вторых, герой как нормативный образец не должен быть хюбристом. И, наконец, мифологические сюжеты о разжалованных за свои выходки любимцах богов востребованы в контексте пайдейи, поскольку показывают многочисленные ситуации соблазна трансгрессии, раскрывают смысл табу и наглядно демонстрируют, что бывает за те или иные способы нарушения тех или иных запретов. Это понятно, но интересно другое: герой не должен быть хюбристом, но в определенной мере он не может им не быть в силу целого ряда обстоятельств.
Герой, как правило, является не только полубогом в силу своего происхождения[44 - Причем происхождения в прямом и переносном смысле: миф наделял героев в качестве одного из родителей (или родителей родителей) божеством; к тому же, как считается, целый ряд персонажей, которых классическая мифология числила героями, исходно были богами, связанными с местными культами и понизившимися в сакральном статусе.], но также и священным предком аристократического рода, обосновывая претензии аристократов на реальную или символическую власть их родовой причастностью к бессмертным. Сам будучи смертным, герой тем не менее оказывается кандидатом на получение бессмертия если не в прямом, то в переносном смысле. Геракл, например, а по некоторым версиям и Диомед, удостоился «апофеоза», то есть был взят на Олимп практически «живьем», будучи приравнен по статусу к богам. Деятели вроде Миноса и Радаманта сподобились неплохой загробной карьеры, а все прочие обрели бессмертную славу и эксклюзивные формы посмертного культа (вроде храмов, игр и т. п.). Герой устанавливает правила, обычаи и законы, но, чтобы быть законодателем, надо быть выше уже установленных правил: точка начала закона сама находится вне закона (к этой важной теме в связи с проблемой суверенного решения мы неоднократно будем возвращаться в самых разных контекстах). Не случайно цари-законодатели были практически обязаны нарушать табу рядовых членов общества (например, табу на инцест), и такое нарушение рассматривалось как источник сакральной силы. Герой обладает способностью время от времени видеть и слышать богов, они покровительствуют ему, посещают его «?????[45 - ????? – дух, душа, дыхание жизни. Центр сознания, расположенный, согласно греческой антропологии, в районе сердца и легких. У Гомера боги вкладывают, вдыхают героям те или иные интенции в тюмос.]» и тем самым подвигают на те или иные действия, почему он и оказывается способен на великие деяния. Иными словами, по самому своему смыслу существование героя есть преступание меры, положенной смертным, так что некая предрасположенность к хюбрису «вшита» в героическую судьбу (аналогичным образом проклятие «вшито» в историю каждого мало-мальски уважаемого рода). А потому закономерно, что в любой героической биографии имеется пара-тройка экстравагантных поступков, более того, «трагическая гибель» часто оказывается следствием того, что хюбрис толкает героя в силки судьбы и тем самым дает ей свершиться, а самому персонажу состояться в качестве священной жертвы и окончательно утвердиться в героическом статусе.
Так что невозможно оценить хюбрис как однозначно негативный феномен. Полное отсутствие хюбристичности – не лучшая характеристика для героя. Или даже это характеристика не героя вообще. Впрочем, романтическое утверждение со ссылкой на пресловутого Прометея, что всякое трансгрессивное деяние можно считать героическим, тоже вряд ли оправдано: не всякий, кто нарушает нормы уже тем самым харизматик. Очевидно, что избыток хюбриса чреват, так сказать, утратой харизмы. Но что в данном случае значит избыток? Какова мера допустимого? Почему, например, тот же Диомед без тяжких для себя последствий может себе позволить «подраться» с богами, а Аякс Оилид за неподобающее поведение в храме (вроде бы на войне как на войне – извинительный фактор) удостаивается смерти при весьма сомнительных обстоятельствах. При том, что чуть ли не каждый из героических персонажей вечно балансирует на грани фола (особенно показателен в данном отношении Одиссей), есть герои явно благие (Ахилл, Геракл), есть явно проклятые (Тантал, Сизиф), есть те, чья жизнь и смерть могут быть прочитаны по-разному в зависимости от предпосылок интерпретации (Эдип, Аякс Теламонид). И это весьма грубая типология, ведь совокупность сюжетов в целом дает более чем разветвленную систему различий, так что построение устойчивой классификации сразу выглядит как задача неблагодарная. Если допустить, что боги воплощают собой некие социально значимые функции и потому нельзя говорить о произвольности их решений, то возникает вопрос о том, есть ли некий общий принцип или правило, исходя из которого «боги» дают харизму тем или иным персонажам, и поскольку харизматичность тянет за собой и склонность к хюбрису, определяют порог допустимости хюбриса и, соответственно, меру воздаяния. Если такой принцип есть, то можно ли приписать ему, так сказать, универсальный характер (подходящий для всех культур, а не только для древнегреческой)? Если такого принципа нет, то означает ли это, что древняя аудитория, для которой все эти вопросы имели практический смысл, просто получала в свое распоряжение каталог различных ситуаций с вариантами исхода и не нуждалась ни в каких категорических императивах? В любом случае проблема меры – очень греческая проблема, если судить по тому, что она с маниакальной навязчивостью возобновляется в философии, начиная с легендарных «семи мудрецов» и заканчивая киниками, стоиками и эпикурейцами. Забегая несколько вперед, можно обозначить гипотезу, согласно которой мерой харизмы и различения степени допустимости хюбриса как раз и будет смерть, понятая в терминах престижной траты.
Теперь рассмотрим вторую часть формулы героической биографии. Речь о харизме. Как известно, само слово ??????? в древнегреческом языке буквально означает «оказанная милость, дар». Оно производно от ????????? – «делать приятное, угодное», «дарить», а то в свою очередь восходит к ????? – «прелесть», «красота», «радость», «удовольствие». Вейсман дает целый ряд однокоренных слов, значение которых показательно. Так, ?????????? – «благодарственная жертва», ??????? – «радость, наслаждение». Несколько неожиданно в этом ряду, но зато очень закономерно в гомеровской логике ????? – «битва», «сражение», «страсть к битвам». И, наконец, ??????? – «со сверкающим взором»[46 - Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991. – С. 1339.]. Для пояснения мифологического смысла всей этой семантики принято поминать трех Харит, которые-де были у греков богинями красоты, радости и удовольствия. Однако эти, по сути, пустые абстрактные персонажи вряд ли что всерьез поясняют. В гомеровском эпосе харизмой называется прежде всего (и почти исключительно) золотистое сияние, которым боги облачают в тот или иной момент угодных им персонажей, делая их, таким образом, в буквальном и переносном смысле неотразимыми. Харизмой сияет Елена, когда предстает перед троянскими старцами, которые приходят в итоге к парадоксальному выводу, что да, невозможно винить мужей за то, что они сражаются насмерть за обладание таким призом. Харизмой же наделен пояс Афродиты, который помогает Гере возбудить эротическую страсть Зевса. Периодически Афина обволакивает этим же сиянием потасканного в скитаниях Одиссея. Соответственно, харизма есть некая сакральная энергия, принадлежащая богам и время от времени достающаяся смертным. Красота в данном случае – не просто миловидность, но и некая сила, которая удерживает космос (?????? – украшение, наряд, порядок, в том числе и мировой порядок) в качестве такового. Потому это энергия, которую можно было бы назвать в том числе и энергией жизни, ведь по крайней мере в древнегреческой логике дыхание или сияние жизни – это то, что удерживает живое тело в его целостности, и, соответственно, смерть начинается с того, что тело, покинутое этой энергией, начинает буквально распадаться на элементы. Понимание харизмы в означенном выше ключе мы можем обнаружить в философии Плотина[47 - Более подробно этот аспект в контексте связи понятия харизмы и генеалогии понятия власти рассмотрен в параграфе «Воля к власти: к генеалогии концепта» Второй главы.]. Несмотря на то что оно гораздо более позднее по времени, чем гомеровские тексты, оно как раз раскрывает некоторые существенные моменты, связанные с неотразимой притягательностью харизмы. «Надо сказать, что даже на земле красоту составляют не столько симметрия, сколько освещающее ее сияние, – именно это сияние нам приятно. Действительно, почему красота живого лица ослепительна, а на мертвом лице остается лишь след ее?»[48 - «Если мы любим, то потому, что с красотой соединяется нечто неизъяснимое: движение, жизнь, блеск, которые делают объект желанным и без которых красота остается холодной и инертной», – поясняет П. Адо. См.: Адо П. Плотин, или Простота взгляда. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991. – С. 51.] Как пишет Р. Светлов, «Для Плотина «харизма» – одновременно и благодать, и грация, и прелесть, которую могут увидеть лишь великие философы и великие подвижники»[49 - Светлов Р. В. Пространство самопознания (Плотин. Первая эннеада) // Плотин. Первая эннеада / Пер., вступ. ст., коммент. Т. Г. Сидаша, Р. В. Светлова. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2004. – С. 31.]. В этом контексте, конечно же, можно вспомнить и про вечно живой огонь Гераклита, который также есть и «правящая молния», и про огненную пневму стоиков. Поэтому огненное сияние, которое окружает гомеровских героев во время битвы, когда они поглощены внушенным богами энтузиазмом и мечутся в состоянии боевой ярости со сверкающим взором, совершая подвиги и покрывая себя немеркнущей славой, – это явление из того же ряда, что и неотразимая красота Елены. Позже, в период формирования христианского богословия, не без влияния плотиновского неоплатонизма «харизма» становится концептом, означающим Божественную Благодать. Привычные нам по христианской иконографии нимбы святых (также имеющие свои прототипы на позднеантичных фресках, изображающих богов с сиянием вокруг головы) и золотой фон, особенно впечатляюще передаваемый смальтой, как раз символически и изображают энергию Благодати. Однако у христианских теологов и отчасти у Плотина харизма (а в латинском варианте gratia) как сакральная энергия понимается в трансцендентном, спиритуалистическом и монотеистическом ключе. И она в таковом качестве будет иметь прямое отношение к сакрализации власти христианских императоров и королей, которая имеет несколько другую мифологию (корректнее говорить о теологии) и другое ритуальное оформление, о чем речь пойдет в следующем параграфе («Парадоксы христианской теологии власти: монотеизм и амбивалентность сакрального»).
Политеистическая же мифология должна трактовать сакральное не столь однозначно позитивно-благостным образом. Как говорилось в предыдущем параграфе, Р. Кайуа настаивает на том, что политеистическое сакральное принципиально амбивалентно: оно чрезвычайно действенно, но потому и чрезвычайно опасно. Сакральная энергия неустойчива, может ситуативно менять полюсы от святости к скверне. В пределе «сакральное – то, к чему нельзя прикоснуться, не осквернившись или не осквернив»[50 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. С. 164.]. Соответственно, потому оно и табуируется. В применении к харизме, пожалуй, наиболее хрестоматийный пример – это миф о Семеле, которая, будучи любовницей Зевса, потребовала от него, чтобы он продемонстрировал ей всю полноту своего величия. Греческие боги, согласно мифам, обычно являлись смертным в обличии смертных именно потому, что их бессмертная харизма в немодерированном виде для тленного существа онтологически непереносима. Соответственно, закономерным результатом хюбристической просьбы Семелы было то, что Зевс блеском своей эпифании просто-напросто ее испепелил. В принципе, в греческой мифологии имеется масса мифов по поводу того, что происходит с теми, кто решил подсмотреть за богами[51 - Например, Тиресий, согласно одному из вариантов мифа, ослеп, поскольку увидел Афину обнаженной, но при этом получил дар прорицания, то есть энергия божественной харизмы трансформировала один тип видения в другой. Можно упомянуть и дочерей Кекропа, которые вопреки запрету Афины открыли ларец (корзину), где был спрятан змееногий младенец Эрехтоний, будущий первый царь Афин, миксантропное и сакральное существо. Зрелище заставило не в меру любопытных девиц в ужасе броситься со стен акрополя и разбиться насмерть – то есть речь идет о ритуальном самоубийстве нарушивших табу.].
Харизма – не просто сакральная энергия, это также и в более узком смысле сакральная энергия власти. Отсюда и современный разговор о харизматическом лидерстве, начатый социологами (прежде всего М. Вебером)[52 - См.: Вебер М. Харизматическое господство // Социологические исследования. – 1988. – № 5. – С. 139–147. Анализ различных подходов к проблеме харизматического лидерства представлен в статьях: Сморкалова Л. В. Харизматическое лидерство как феномен социальной жизни // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2011. – №. 5. – С. 133–141; Шкурко О. В. Харизматическое лидерство и возможность его развития у современных руководителей // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2013. – № 3. – С. 133–136. Гениндоржиева Д. Б. Харизма как составная часть трансформационного лидерства // Вестник Бурятского государственного университета. – 2014. – № 5. – С. 84–87.]. Именно данная богами харизма в качестве «энергетической добавки» позволяет героям совершать великие деяния, она же выражается в блеске славы и величии авторитета. При этом магическая тайна власти связана не только с могуществом господства, но и с энтузиазмом подчинения. Более или менее понятно, почему сильный присваивает себе право на суверенное решение по поводу чужих жизней, гораздо в большей степени интригует, почему подчиняющиеся не только подчиняются силе, но и испытывают перед ней пиетет, тем самым воспринимая власть не как насилие, а как справедливость. Как пишет на этот счет Р. Кайуа, рассматривая проблему сакрализации власти, «какого бы рода ни была власть – светской, военной или религиозной, – она существует лишь как следствие согласия с нею. Дисциплина в армии образуется не могуществом генералов, а послушанием солдат. На каждой иерархической ступени встает одна и та же проблема: как маршал, так и капрал бессильны, если их подчиненные, более многочисленные и лучше вооруженные, откажутся исполнять их приказы. Как хорошо показал Ла Боэси, рабство бывает только добровольным: у тирана для надзора за людьми есть только их же глаза и уши, а для их угнетения – только их же руки, которые они отдают ему на службу».[53 - Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. – М.: ОГИ, 2003. – С. 211–212.] В этом смысле сияющая божественной благодатью харизма и есть ключевой элемент соблазнительности власти, делающей ее «милой сердцу» и «страстно желанной», – причем явным образом желанной как для господина, так и для раба.
В качестве сакральной энергии харизма сближается с другими концептами, извлеченными антропологами из материалов архаических культур. Так, просматриваются некоторые параллели с полинезийской маной[54 - Мана в верованиях народов Меланезии и Полинезии – существующая в природе сакральная сила, носителями которой могут быть отдельные люди, животные, различные предметы, а также «духи». Манипулирование маной применялось для достижения ближайших целей: хорошей погоды, обильного урожая, излечения от болезни, успеха в любви или победы в сражении. Человек, обладающий «маной», – это тот, кто умеет и может принуждать других к повиновению. Правда, мана считается свойственной в разной степени всему существующему, харизма же характеризует только богов и людей.] и монгольским сульде[55 - «Сульде («дух», «жизненная сила»), в мифах монгольских народов одна из душ человека, с которой связана его жизненная и духовная сила. Сульде правителя является духом-хранителем народа; его материальное воплощение – знамя правителя, которое само по себе становится объектом культа, оберегается подданными. Во время войн для поднятия ратного духа армии сульде-знаменам приносились кровавые, иногда человеческие жертвы». См.: Сульде. Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 672. А также: Дмитриев С. В. Политическая культура тюрко-монгольских кочевников в историко-этнографической перспективе // Антропология власти. Т. 2. Политическая культура и политические процессы. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2007. – С. 45–56.]. Но в большей степени, конечно, в силу общности индоевропейских корней напрашиваются параллели с иранским фарном. Со значительной долей вероятности можно предположить, что у самих слов «фарн» и «харизма» буквально есть общий индоевропейский источник[56 - Как сообщает Топоров, «фарн» «восходит к древнеиран.
hvarnah-, обычно трактуемому как обозначение солнечного сияющего начала, божественного огня, его материальной эманации (ср. вед. svar, «свет», «сияние», «блеск», «солнце»), возрастающей, прибывающей, расширяющейся силы (ср. индоевроп.