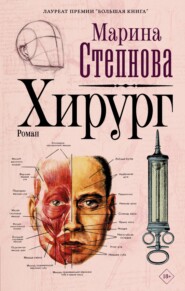По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сад
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она их не любила никогда. Своих старших детей. Теперь это было совершенно ясно. И они ее не любили – да и за что ее было любить? Родители нужны для почитания. Ее собственная мать, вспыльчивая рослая красавица, всего однажды взяла ее на руки, уже восьмилетнюю, сонную, чтобы перенести из дурно устроенной на новом месте детской, и Наденька на всю жизнь запомнила тяжелое и нежное тепло, и высокую материну шею, и сережку с румяной розовой жемчужиной, которая качалась, колыхалась сквозь плывущий сон перед ее слипающимися мокрыми ресницами. Борятинская годы потом вспоминала этот миг – острого, невозможного счастья, не счастья даже, а живой животной близости с существом, частью которого она когда-то была.
Впрочем, ей, должно быть, приснилось все это.
Они с матерью в детстве, как полагается, почти и не видались. Няня тогда ее на руки взяла. Нянечка моя любимая. Няня. Когда ее отослали из дома, как отсылали рано или поздно почти всю прислугу, – мать была гневлива, не угодить, – Наденька рыдала так, что мать избила ее тростью, с которой совершала утренний моцион. А няня только причитала – Христа ради, барыня. И еще – ласточка, ласточка моя. И все тянула руки, подсовывала, чтобы попадало по ней, только по ней. Ноготь большого пальца уродливо перекошен. Отчего у тебя, няня, этот пальчик злой? А это я, ласточка моя, дудочку себе в детстве выреза?ла, а ножик возьми и соскочи. Так что не злой этот пальчик, а горемычный.
И что же? Жизнь прошла. Теперь она сама мать. И не скверная мать. Она любит свое дитя – пусть всего одно, последнее, но Господь милосерден и не сводит такие мелкие счеты. И что с того? Что? исправила ее любовь? Чему помогла? Исцелила хоть один пальчик горемычный?
Борятинская смахнула со стола еще одну книжную башню. Она не заходила сюда с того дня, когда они с мужем… Не важно. С того самого дня. И кабинет одичал, отвык от нее и теперь прятал искомое, не то обиженно, не то в насмешку. Да где же ты, проклятая? Борятинская вдруг поняла, что не помнит, за какой книгой зашла сюда, что? вообще искала.
Графа Толстого, должно быть. “Войну и мир”. Единственный упомянул замаранные пеленки, но Надежда Александровна точно помнила, что не так. Тоже не так.
Она взяла какой-то том, потрепанный, мягкий, зачитанный. Может, Монтень? Ей всегда помогал Монтень.
“Опыты” послушно открылись на любимом месте. Впрочем, Монтень был любимым весь. Борятинская поднесла его к подсвечнику, поближе к восковому ровному теплу. Грудь распирало так, что кожа, кажется, не выдержит – лопнет.
“Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам. Страдания порождаются рассудком”.
Надежда Александровна подивилась тому, как могла верить такой глупости. Пролистала дальше, раздраженно облизав палец. Бумага была тяжелая, сырая. Неприятная. Значит, зимой в кабинете плохо топили. Пока она вынашивала свое счастье. Пока ей…
Борятинская вдруг наклонила голову, прислушиваясь. В детской было тихо – она слышала это через две двери, три просторные комнаты, даже не слышала – просто знала.
Только это было другое тихо. Не такое, как всегда. Слишком тихое.
Нет!
Борятинская уронила книгу на пол и пошла из комнат, торопясь и не замечая, что забыла подсвечник и все так же странно, набок, держит голову.
Поверженный Монтень, поразмыслив, открыл новый желтоватый разворот.
“Квинт Максим похоронил своего сына, бывшего консула, Марк Катон – своего, избранного на должность претора, а Луций Павел – двух сыновей, умерших один за другим, – и все они внешне сохраняли спокойствие и не выказывали никакой скорби”.
Контрабандой пробравшийся в дом сквознячок перевернул страницу, любопытствуя – что же дальше.
“Я сам потерял двух-трех детей, правда, в младенческом возрасте, если и не без некоторого сожаления, то, во всяком случае, без ропота”.
Сквознячок шелестнул страницами еще раз и, соскучившись, шмыгнул под гардины, прихватив с собой ближайший, самый слабый огонек.
Свечей в тяжелой жирандоли осталось три.
Скверная примета.
И тут в глубине дома, истошно, на одной ноте, закричала, срывая голос, какая-то женщина.
Перепелка была серенькая, неприметная, сидела, вжавшись в серую же траву, так что Борятинский едва не наступил на нее и шарахнулся, споткнувшись о кочку. Перепелка не шевельнулась даже, и только по прижмуренному черному глазку ясно было – живая. Ты сдурела, что ли, милая? Или голову мне морочишь? Борятинский присмотрелся – так и есть. Рядом с перепелкой лежали несколько легких комков пыли – птенцы. Тоже изо всех сил притворялись мертвыми. Борятинский наклонился, хотел тронуть одного пальцем, и перепелка немедленно раздулась, вспушила перья, пытаясь его напугать или хотя бы накрыть всех птенцов разом. Но сразу же поняла, что напрасно, не сумеет. По спинке ее прошла волна – не дрожи даже, а боли, такой видимой, ощутимой, что Борятинский отдернул руку. Пожалел. Хотя был охотник заядлый, опытный и за сезон, бывало, набивал столько дичи, что и хвастаться совестно.
Перепелка снова застыла, как будто надеялась, что Борятинский пришел не за ней или вовсе не существует, как не существует персональной смерти. Умирают ведь только чужие. А каждый из нас втайне уверен в собственном бессмертии. Борятинский некстати вспомнил особенно удачный выезд на болота, свист крыльев, азарт, приятную боль в натруженном прикладом плече и победное первобытное возвращение домой с трофеями. Наденька, уже заметно брюхатая тогда, вышла на черное крыльцо, увидела груду чирков – едва ли не вровень с верхней ступенькой. Вокруг уже суетились бабы, картаво каркал, распоряжаясь, повар-француз, а ветерок раздувал пушистые перья, тормошил их, топорщил – и гора стреляной птицы шевелилась, будто живая. Как она тогда посмотрела, Наденька. Сперва на гору эту, потом на него…
Кыш, – пробормотал Борятинский и подпихнул бестолковую перепелку носком сапога. – Кыш, пошла отсюда, глупая. И деток своих забирай.
Перепелка трепыхнулась, точно опомнилась, и выводок, то замирая и прижимаясь к земле, то суетливо попискивая, шуркнул в заросли. Будто змея проползла. От жары всё тихо, едва ощутимо звенело – словно листья на жестяном венке, и только солнце, почти невидимое, растворившееся в сером небе, казалось не только беззвучным, но и совершенно неподвижным.
Подбежал, громко пыхтя, гончак – яркий, широкогрудый. Понюхал примятые перепелкой травяные космы, заглянул виновато в глаза. Всё прошляпил, старый ты болван, – беззлобно упрекнул Борятинский, и гончак уронил разом уши и хвост. Застыдился. Борятинский погладил его по рыжей горячей голове, почесал пятно на холке – характерное, чудно?е: будто бабочка присела, расставив белые крылья, на собачью шкуру. Шерсть под пальцами была странная, неживая.
Борятинский поднял голову – и понял вдруг, что лес тоже неживой, нарисованный. Нет, не нарисованный даже, а отпечатанный на сереньком небе, будто гравюра из детской книжки. И башня на горизонте – нерусская, зубастая – тоже была из той же книжки с давно позабытым названием. Серое вокруг сгустилось, чавкнуло – ненастоящее, опасное, и гончак, словно почуяв это, прижался боком к ноге и глухо заворчал. Ну что ты, Пилат, – укорил Борятинский. Но пес, захлебываясь от страха, заворчал громче, совсем громко, с почти человеческими интонациями – конч, конч, конч…
Кончается! – сказал тоненько детский голос.
И Борятинский проснулся.
Он лежал на диване в своем кабинете, неудобно запрокинув голову, и, должно быть, храпел ужасно. Егор, камердинер, переминался в дверях, и свеча выхватывала из темноты то его седые бакенбарды, то ряды крепко стиснутых книжных корешков. Борятинский сел, потер затекшую шею, зашарил ногами в поисках домашних туфель. Да где же, будь они неладны… А! Вот. И еще одна.
Я Пилата во сне видел, Егор. Представляешь? Все-таки лучше пса у меня не было. Восемь лет замену найти не могу…
Кончается, Владимир Анатольевич, – повторил Егор виновато, не своим, тонким, дребезжащим от слез голосом. – Надежда Александровна велели…
Борятинский не дослушал, ахнул и, на ходу запахивая халат, побежал.
В детской было жарко – как в только что виденном сне, метались какие-то исступленные бабы, совсем незнакомые. Борятинский с трудом узнал растрепанную потную Танюшку, которая отталкивала одну из баб от колыбели, очень тихой, страшной. Ни звука оттуда не доносилось. Совсем ни одного. Дышать было нечем абсолютно – будто нырнул с головой под ватное одеяло. И вонь, господи! Что за вонь! Борятинский поискал глазами жену – и не нашел. Вышла? вынесли? Таня, рявкнул он, Таня, какого черта! Где Надежда Александровна? Танюшка обернулась, и баба, которую она пыталась оттащить, улучила момент, выхватила из колыбели ребенка, маленького, твердого, как полено. Совершенно очевидно – неживого.
Танюшка всплеснула руками – да что же это! Отдайте! Но баба оттолкнула ее, забилась куда-то в угол, в кресла, и, всем телом загородив ребенка, вдруг оскалилась. Сколько раз Борятинский видел такое на охоте! Это движение боком и задом. Закрыть. Защитить. Эту угрожающе вздернутую верхнюю губу. Это отчаяние, эту ярость. Этих беспомощных и страшных матерей. Волчихи, медведицы, зайчихи. Что там зайчихи – перепелка, даже та, ненастоящая, во сне, тоже была бы рада его убить. Просто не могла. Она могла только умереть. И умерла бы. Любая бы умерла. Лишь бы не…
Смертию смерть поправ, достигшее самой основы жизни. Ее сути.
Баба вдруг прошипела сквозь оскаленные, стиснутые зубы – Meisel, faites venir Meisel imme?diatement![17 - Мейзеля, Мейзеля немедленно! (фр.)] – и только теперь Борятинский ее узнал.
Это была Надя. Наденька его.
Княгиня Надежда Александровна Борятинская.
Урожденная фон Стенбок.
Кучер спросонья был особенный дурак – икал, крестился, путал постромки и не поумнел, даже когда князь крепко сунул ему в зубы. Борятинский схватил седло сам, метнулся по деннику, но Боярин, чуя кровь от ссаженных костяшек, скалился, бил копытом, а потом и вовсе надул предательски пузо, так что пришлось не по-княжески совсем, охлюпкой, но это ничего, ничего. Лишь бы успеть.
Мейзель жил в десяти верстах всего, у Боярина даже шерсть не потемнела, но Борятинскому показалось – прошла вечность, настоящая, ветхозаветная, не наполняемая ничем. Все было ночное, жуткое, незнакомое, бросалось то в глаза, то под копыта, ухало, обдавало сырыми теплыми вздохами. Хрипло, коротко, как удавленник, вскрикивала неподалеку какая-то птица и замолчала, как только Борятинский спрыгнул с коня в мокрую черную траву. Окно у Мейзеля светилось ровным ясным светом. Борятинский пошел, потом побежал на этот свет – и птица захрипела снова, как будто летела где-то рядом, в темноте, страшная, невидимая, неотвязная. И только на крыльце, колотя в дверь, когда птица не захрипела даже – заклокотала, Борятинский понял, что никакой птицы вовсе нету.
Это дышал он сам. Он сам.
Мейзель вышел сразу, свежий, спокойный, словно не спал – а может, правда не спал, сидел в комнате, нет, даже в пещере, наполненной таинственными устройствами, читал что-то умное на никому на свете, кроме него, не известном языке, размышлял. И вообразить было нельзя, чтобы человек, способный спасти Наденьку, играл в вист, кушал лапшу или прел под тяжелой периной. Борятинский растерялся, не зная, как сладить с горой нелепых светских условностей. Сударь! Нет. Милостивый государь! Нет. Не соблаговолите ли вы… Нет. Не откажете ли вы в милости… Нет. Не будете ли вы так любезны… Черт! Сначала отрекомендоваться! Борятинский вдруг понял, что стоит на чужом крыльце в халате, в мятой сорочке и домашних туфлях – растрепанный, перепуганный человек, не знающий, как обратиться за помощью к другому человеку.
Я вас узнал, князь, – сказал Мейзель просто. – Что случилось?
Борятинский попытался объяснить всё сразу, то есть вообще – всё, включая птицу, ночную езду и то, как дико, как страшно Наденька оскалилась, но снова сбился и замолчал, чувствуя себя валким косноязыким идиотом – не хуже собственного кучера. Даром что по зубам дать некому.
Всё очень скверно, – едва выдавил он. – Очень! Ради всего святого…
Мейзель помолчал несколько секунд и вдруг ушел – просто ушел, закрыв за собой дверь. И окно в доме почти сразу погасло.
Борятинский остался совершенно один, в темноте, как в детстве, и даже услышал запах только что погашенной толстыми пальцами свечи, и ровное дыхание спящих братьев, и шаги неумолимого дядьки, торопившегося к себе в комнату, к невысокому шкапчику с заветным штофом. Ужас, тогдашний, детский, никуда, оказывается, не девшийся, толкнул в горло, под коленки, лишил последних сил. Борятинский понял, что сейчас упадет, просто ляжет на крыльцо, натянет на голову халат и будет скулить, отбиваясь от невидимых демонов, пока наконец не рассветет, потому что никакой надежды не было, никакой совершенно надежды – надежды спастись, спасти жену, дочь, самого себя, даже надежды вырасти, потому что вырасти из детства оказалось просто невозможно.
Впрочем, ей, должно быть, приснилось все это.
Они с матерью в детстве, как полагается, почти и не видались. Няня тогда ее на руки взяла. Нянечка моя любимая. Няня. Когда ее отослали из дома, как отсылали рано или поздно почти всю прислугу, – мать была гневлива, не угодить, – Наденька рыдала так, что мать избила ее тростью, с которой совершала утренний моцион. А няня только причитала – Христа ради, барыня. И еще – ласточка, ласточка моя. И все тянула руки, подсовывала, чтобы попадало по ней, только по ней. Ноготь большого пальца уродливо перекошен. Отчего у тебя, няня, этот пальчик злой? А это я, ласточка моя, дудочку себе в детстве выреза?ла, а ножик возьми и соскочи. Так что не злой этот пальчик, а горемычный.
И что же? Жизнь прошла. Теперь она сама мать. И не скверная мать. Она любит свое дитя – пусть всего одно, последнее, но Господь милосерден и не сводит такие мелкие счеты. И что с того? Что? исправила ее любовь? Чему помогла? Исцелила хоть один пальчик горемычный?
Борятинская смахнула со стола еще одну книжную башню. Она не заходила сюда с того дня, когда они с мужем… Не важно. С того самого дня. И кабинет одичал, отвык от нее и теперь прятал искомое, не то обиженно, не то в насмешку. Да где же ты, проклятая? Борятинская вдруг поняла, что не помнит, за какой книгой зашла сюда, что? вообще искала.
Графа Толстого, должно быть. “Войну и мир”. Единственный упомянул замаранные пеленки, но Надежда Александровна точно помнила, что не так. Тоже не так.
Она взяла какой-то том, потрепанный, мягкий, зачитанный. Может, Монтень? Ей всегда помогал Монтень.
“Опыты” послушно открылись на любимом месте. Впрочем, Монтень был любимым весь. Борятинская поднесла его к подсвечнику, поближе к восковому ровному теплу. Грудь распирало так, что кожа, кажется, не выдержит – лопнет.
“Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам. Страдания порождаются рассудком”.
Надежда Александровна подивилась тому, как могла верить такой глупости. Пролистала дальше, раздраженно облизав палец. Бумага была тяжелая, сырая. Неприятная. Значит, зимой в кабинете плохо топили. Пока она вынашивала свое счастье. Пока ей…
Борятинская вдруг наклонила голову, прислушиваясь. В детской было тихо – она слышала это через две двери, три просторные комнаты, даже не слышала – просто знала.
Только это было другое тихо. Не такое, как всегда. Слишком тихое.
Нет!
Борятинская уронила книгу на пол и пошла из комнат, торопясь и не замечая, что забыла подсвечник и все так же странно, набок, держит голову.
Поверженный Монтень, поразмыслив, открыл новый желтоватый разворот.
“Квинт Максим похоронил своего сына, бывшего консула, Марк Катон – своего, избранного на должность претора, а Луций Павел – двух сыновей, умерших один за другим, – и все они внешне сохраняли спокойствие и не выказывали никакой скорби”.
Контрабандой пробравшийся в дом сквознячок перевернул страницу, любопытствуя – что же дальше.
“Я сам потерял двух-трех детей, правда, в младенческом возрасте, если и не без некоторого сожаления, то, во всяком случае, без ропота”.
Сквознячок шелестнул страницами еще раз и, соскучившись, шмыгнул под гардины, прихватив с собой ближайший, самый слабый огонек.
Свечей в тяжелой жирандоли осталось три.
Скверная примета.
И тут в глубине дома, истошно, на одной ноте, закричала, срывая голос, какая-то женщина.
Перепелка была серенькая, неприметная, сидела, вжавшись в серую же траву, так что Борятинский едва не наступил на нее и шарахнулся, споткнувшись о кочку. Перепелка не шевельнулась даже, и только по прижмуренному черному глазку ясно было – живая. Ты сдурела, что ли, милая? Или голову мне морочишь? Борятинский присмотрелся – так и есть. Рядом с перепелкой лежали несколько легких комков пыли – птенцы. Тоже изо всех сил притворялись мертвыми. Борятинский наклонился, хотел тронуть одного пальцем, и перепелка немедленно раздулась, вспушила перья, пытаясь его напугать или хотя бы накрыть всех птенцов разом. Но сразу же поняла, что напрасно, не сумеет. По спинке ее прошла волна – не дрожи даже, а боли, такой видимой, ощутимой, что Борятинский отдернул руку. Пожалел. Хотя был охотник заядлый, опытный и за сезон, бывало, набивал столько дичи, что и хвастаться совестно.
Перепелка снова застыла, как будто надеялась, что Борятинский пришел не за ней или вовсе не существует, как не существует персональной смерти. Умирают ведь только чужие. А каждый из нас втайне уверен в собственном бессмертии. Борятинский некстати вспомнил особенно удачный выезд на болота, свист крыльев, азарт, приятную боль в натруженном прикладом плече и победное первобытное возвращение домой с трофеями. Наденька, уже заметно брюхатая тогда, вышла на черное крыльцо, увидела груду чирков – едва ли не вровень с верхней ступенькой. Вокруг уже суетились бабы, картаво каркал, распоряжаясь, повар-француз, а ветерок раздувал пушистые перья, тормошил их, топорщил – и гора стреляной птицы шевелилась, будто живая. Как она тогда посмотрела, Наденька. Сперва на гору эту, потом на него…
Кыш, – пробормотал Борятинский и подпихнул бестолковую перепелку носком сапога. – Кыш, пошла отсюда, глупая. И деток своих забирай.
Перепелка трепыхнулась, точно опомнилась, и выводок, то замирая и прижимаясь к земле, то суетливо попискивая, шуркнул в заросли. Будто змея проползла. От жары всё тихо, едва ощутимо звенело – словно листья на жестяном венке, и только солнце, почти невидимое, растворившееся в сером небе, казалось не только беззвучным, но и совершенно неподвижным.
Подбежал, громко пыхтя, гончак – яркий, широкогрудый. Понюхал примятые перепелкой травяные космы, заглянул виновато в глаза. Всё прошляпил, старый ты болван, – беззлобно упрекнул Борятинский, и гончак уронил разом уши и хвост. Застыдился. Борятинский погладил его по рыжей горячей голове, почесал пятно на холке – характерное, чудно?е: будто бабочка присела, расставив белые крылья, на собачью шкуру. Шерсть под пальцами была странная, неживая.
Борятинский поднял голову – и понял вдруг, что лес тоже неживой, нарисованный. Нет, не нарисованный даже, а отпечатанный на сереньком небе, будто гравюра из детской книжки. И башня на горизонте – нерусская, зубастая – тоже была из той же книжки с давно позабытым названием. Серое вокруг сгустилось, чавкнуло – ненастоящее, опасное, и гончак, словно почуяв это, прижался боком к ноге и глухо заворчал. Ну что ты, Пилат, – укорил Борятинский. Но пес, захлебываясь от страха, заворчал громче, совсем громко, с почти человеческими интонациями – конч, конч, конч…
Кончается! – сказал тоненько детский голос.
И Борятинский проснулся.
Он лежал на диване в своем кабинете, неудобно запрокинув голову, и, должно быть, храпел ужасно. Егор, камердинер, переминался в дверях, и свеча выхватывала из темноты то его седые бакенбарды, то ряды крепко стиснутых книжных корешков. Борятинский сел, потер затекшую шею, зашарил ногами в поисках домашних туфель. Да где же, будь они неладны… А! Вот. И еще одна.
Я Пилата во сне видел, Егор. Представляешь? Все-таки лучше пса у меня не было. Восемь лет замену найти не могу…
Кончается, Владимир Анатольевич, – повторил Егор виновато, не своим, тонким, дребезжащим от слез голосом. – Надежда Александровна велели…
Борятинский не дослушал, ахнул и, на ходу запахивая халат, побежал.
В детской было жарко – как в только что виденном сне, метались какие-то исступленные бабы, совсем незнакомые. Борятинский с трудом узнал растрепанную потную Танюшку, которая отталкивала одну из баб от колыбели, очень тихой, страшной. Ни звука оттуда не доносилось. Совсем ни одного. Дышать было нечем абсолютно – будто нырнул с головой под ватное одеяло. И вонь, господи! Что за вонь! Борятинский поискал глазами жену – и не нашел. Вышла? вынесли? Таня, рявкнул он, Таня, какого черта! Где Надежда Александровна? Танюшка обернулась, и баба, которую она пыталась оттащить, улучила момент, выхватила из колыбели ребенка, маленького, твердого, как полено. Совершенно очевидно – неживого.
Танюшка всплеснула руками – да что же это! Отдайте! Но баба оттолкнула ее, забилась куда-то в угол, в кресла, и, всем телом загородив ребенка, вдруг оскалилась. Сколько раз Борятинский видел такое на охоте! Это движение боком и задом. Закрыть. Защитить. Эту угрожающе вздернутую верхнюю губу. Это отчаяние, эту ярость. Этих беспомощных и страшных матерей. Волчихи, медведицы, зайчихи. Что там зайчихи – перепелка, даже та, ненастоящая, во сне, тоже была бы рада его убить. Просто не могла. Она могла только умереть. И умерла бы. Любая бы умерла. Лишь бы не…
Смертию смерть поправ, достигшее самой основы жизни. Ее сути.
Баба вдруг прошипела сквозь оскаленные, стиснутые зубы – Meisel, faites venir Meisel imme?diatement![17 - Мейзеля, Мейзеля немедленно! (фр.)] – и только теперь Борятинский ее узнал.
Это была Надя. Наденька его.
Княгиня Надежда Александровна Борятинская.
Урожденная фон Стенбок.
Кучер спросонья был особенный дурак – икал, крестился, путал постромки и не поумнел, даже когда князь крепко сунул ему в зубы. Борятинский схватил седло сам, метнулся по деннику, но Боярин, чуя кровь от ссаженных костяшек, скалился, бил копытом, а потом и вовсе надул предательски пузо, так что пришлось не по-княжески совсем, охлюпкой, но это ничего, ничего. Лишь бы успеть.
Мейзель жил в десяти верстах всего, у Боярина даже шерсть не потемнела, но Борятинскому показалось – прошла вечность, настоящая, ветхозаветная, не наполняемая ничем. Все было ночное, жуткое, незнакомое, бросалось то в глаза, то под копыта, ухало, обдавало сырыми теплыми вздохами. Хрипло, коротко, как удавленник, вскрикивала неподалеку какая-то птица и замолчала, как только Борятинский спрыгнул с коня в мокрую черную траву. Окно у Мейзеля светилось ровным ясным светом. Борятинский пошел, потом побежал на этот свет – и птица захрипела снова, как будто летела где-то рядом, в темноте, страшная, невидимая, неотвязная. И только на крыльце, колотя в дверь, когда птица не захрипела даже – заклокотала, Борятинский понял, что никакой птицы вовсе нету.
Это дышал он сам. Он сам.
Мейзель вышел сразу, свежий, спокойный, словно не спал – а может, правда не спал, сидел в комнате, нет, даже в пещере, наполненной таинственными устройствами, читал что-то умное на никому на свете, кроме него, не известном языке, размышлял. И вообразить было нельзя, чтобы человек, способный спасти Наденьку, играл в вист, кушал лапшу или прел под тяжелой периной. Борятинский растерялся, не зная, как сладить с горой нелепых светских условностей. Сударь! Нет. Милостивый государь! Нет. Не соблаговолите ли вы… Нет. Не откажете ли вы в милости… Нет. Не будете ли вы так любезны… Черт! Сначала отрекомендоваться! Борятинский вдруг понял, что стоит на чужом крыльце в халате, в мятой сорочке и домашних туфлях – растрепанный, перепуганный человек, не знающий, как обратиться за помощью к другому человеку.
Я вас узнал, князь, – сказал Мейзель просто. – Что случилось?
Борятинский попытался объяснить всё сразу, то есть вообще – всё, включая птицу, ночную езду и то, как дико, как страшно Наденька оскалилась, но снова сбился и замолчал, чувствуя себя валким косноязыким идиотом – не хуже собственного кучера. Даром что по зубам дать некому.
Всё очень скверно, – едва выдавил он. – Очень! Ради всего святого…
Мейзель помолчал несколько секунд и вдруг ушел – просто ушел, закрыв за собой дверь. И окно в доме почти сразу погасло.
Борятинский остался совершенно один, в темноте, как в детстве, и даже услышал запах только что погашенной толстыми пальцами свечи, и ровное дыхание спящих братьев, и шаги неумолимого дядьки, торопившегося к себе в комнату, к невысокому шкапчику с заветным штофом. Ужас, тогдашний, детский, никуда, оказывается, не девшийся, толкнул в горло, под коленки, лишил последних сил. Борятинский понял, что сейчас упадет, просто ляжет на крыльцо, натянет на голову халат и будет скулить, отбиваясь от невидимых демонов, пока наконец не рассветет, потому что никакой надежды не было, никакой совершенно надежды – надежды спастись, спасти жену, дочь, самого себя, даже надежды вырасти, потому что вырасти из детства оказалось просто невозможно.