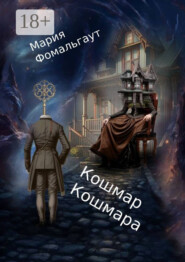По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вечномечтовые
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Улицы расступились – за ночь с них содрали тенты и старые мешки, улицы казались обнаженными, стыдливо прятались от солнца за стенами домов. Я узнал свою машину – кто-то пригнал ее сюда, кто-то уже под завязку наполнил баки. Так показалось мне. Ленд Ровер притулился среди барханов, ткнулся носом куда-то в песок, как верблюд на водопое. Ждал меня.
– Спасибо, – я подошел к машине: отсюда, с пустоши виднелись руины башни, я остановился, чтобы еще раз посмотреть на них. Может, сделать еще один снимок на память. И остолбенел.
Люди все так же возились вокруг обломков, как вчера: тот же муравьиный бег, то же мерное копошение, десять человек волокли по песчаной горке огромный каменный монолит. Стучали молотки, визжали дрели, завывали пилы, хрипели усталые голоса. Башня росла – еще незаметно, еще совсем чуть-чуть, но она росла. Потихонечку – до самых небес.
– А что это вы… – я указал на руины, – заняться больше нечем?
Аваз молчал, как будто ему было неловко за своих.
– Что делаете-то? – повторил я, – вы сами хотели избавиться от башни, от этой каторги… а теперь делаете то же самое?
– А что прикажешь? – он хлопнул меня горячей рукой, – больше мы ничего не умеем. Думаешь, так легко отучиться строить башню, если ты строил ее две тысячи лет? Проще бросить курить, ей-богу… Это же вся жизнь была… старую-то жизнь кончили, а новой еще не придумали. Не успели.
– Да, в начале всегда бывает сложно, – согласился я. Все еще не верил, что все кончилось так странно.
– В каком начале? Тю-ю! – Аваз горько засмеялся, – мы тут знаешь, в который раз эту Башню рушим? Еще мой прадед тут революцию учинил, тоже поломали эту шарагу к чертям. И знаешь, как было-то, он в бою в самой каше был, целехонький остался, а потом, когда уже за столы сели, из развалин выползает Подвижник – кажется, последнего не добили. У самого кровища хлещет, трясется весь, а пистолет еще держит, собака. Р-раз! – и нет прадеда. И сам умер. Прабабка-то потом как выла…
– Ваш прадед… первым поднял восстание?
– Тю-ю, первым! Первый раз, когда языки смешались, кончилось все. Потом в ноль первом году. Нет, не две тысячи, а просто… от Рождества Христова. Тоже восстание было, порушили башню, она втрое выше была, чем ты видел… потом, когда Карл Великий был, потом Чингисхан тут гулял, мы под шумок Башню развалили, сказали, что это чингисханово войско прошло. Подвижники поверили, прикинь? Тамерлан, правда, сам все развалил, камня на камне не оставил. Руины на сто километров и горка черепов посередине. Любил он груды черепов…
– И сколько раз разрушали Башню? – не выдержал я.
– Да раз сто, наверное. Может, больше. Хочешь, летопись посмотрю, там валяется в архиве, пылищи с них…
– Рушили Башню… и всякий раз возводили ее снова? Да?
– Ну а то. Знаешь, когда падает Башня, всегда надеешься, что уж теперь-то ее никто не построит. И что все будет по-новому. Как-то само собой. Люди добрее, женщины красивее, утром встанешь, и начнется что-то интересное… А потом мы просыпаемся и не знаем, что делать. И снова строим Башню.
– Нельзя же так, – я оставил машину, зашагал к башне, – надо же пересилить себя, раз и навсегда сказать себе, что вы этого не хотите. Начать жить по-новому…
– Тю-ю, думаешь, кто-то тебя послушает? Ты вот что: тебе бензин дали? Дали. Езжай. А со своим уставом в чужой монастырь… знаешь…
Я уже и сам понимал, что не мне, чужому человеку менять здесь что-то. Они не поймут меня, и вчерашние друзья станут врагами, может, сожгут меня, как еретика, где-нибудь на площади. Я сел в машину и помахал Авазу, и пустил Ленд Ровер через пески, дальше, дальше, оставляя за собой пепелища и руины. Как Чингисхан. Пустыня спала, как будто тоже выдохлась вчера, на горизонте мелькало что-то призрачное, дымчатое, стоило посмотреть на него – и оно исчезало.
Они больно врезались мне в память – странные люди, которые не могли забыть свое прошлое. И еще врезались мне последние слова Аваза – он сказал это, наклонившись к машине.
– Знаешь, парень, еще, почему не бросаем? Вот мы порушили башню, вон руины лежат, напьешься, нарадуешься, а потом посмотришь на эти камни и думаешь: А если, правда? А если вот еще камень-другой положить, и вот тебе, небо и Бог сидит? А вдруг? Так и мечемся туда-сюда, как маятники.
Хотелось сказать им, чтобы они не валяли дурака, и выбирали что-то одно. Или сиди на земле, или карабкайся в небо. Но я ничего не сказал, мне уже было не до них.
Я остановил Ленд Ровер посреди пустыни, где не было видно никого и ничего. Вышел, захлопнул дверцу, машина исчезла. Кажется, все. Можно возвращаться на небо.
Легко и быстро я взмываю ввысь, пустыня изгибается, как чаша, наполненная пустотой. Потом выгибается обратно, вокруг меня стадами сбиваются облака. Земной шар удаляется, он похож на кружочек кофе в чашке – и сливочная пена облаков. Ее хочется размешать. И выпить до дна.
Люди… их много. Они не знают, что я – их Бог. Боги редко опускаются на землю вровень с людьми – только для того, чтобы люди не поднялись на небо вровень с Богами. Интересно, сколько они еще будут строить свою башню, и сколько мне еще придется поднимать бунты?
Там, среди звезд меня встречает Джамиль. Мне придется сказать ему, что он не вернется к своей невесте. По крайней мере, не сейчас, только через сорок лет, она еще выйдет замуж, у нее будет трое детей. А потом она умрет, и два человека снова встретятся. Я увижу, как они встретятся. Это всегда немножко радостно. И немножко больно.
2009 г
Ведро тепла
– Вызывали?
Ненавижу.
Кого?
Всех. Их. Которые ходят сюда. Неважно, зачем. Думаю, никого не трогаю, перебываю в покое, тут на тебе, ввалятся какие-то, и не выгонишь. Чесслово, были бы руки, швырнул бы чем-нибудь, да посильнее.
– Вызывали?
Хочу сказать – не вызывал. Тут же спохватываюсь, а ну да, конечно, вызывали… вызывали…
Мужчина. Молодой. Молодой сейчас редкость. Мужчина – редкость еще большая. Вваливается, как к себе домой, хоть бы сапожищи снял для приличия, да фиг с два, не царское это дело, сапожищи снимать…
– Сообщение какое-то выходит…
– Какое какое-то?
Не отвечаю. Откуда я знаю, какое, не я программер, а этот, который пришел…
Программер смотрит. Проверяет что-то. Не знаю, что он там проверяет, и знать не хочу.
Ненавижу.
Его.
И всех.
Особенно всех. Нет, в этот момент – особенно его.
– Это кто ж вам такое поставил…
Не знаю, что там такое. Не хочу знать.
– Мастер. Кто до вас был.
– Руки мастеру оторвать. И голову туда же. Это менять надо…
– Сколько?
Он называет сумму. Вздрагиваю.
– Разорите вы меня… а эту оставить нельзя?
– Смеетесь? Нет, бога ради, хоть насовсем штуку эту оставляйте, только она у вас через минуту снова полетит…
– Спасибо, – я подошел к машине: отсюда, с пустоши виднелись руины башни, я остановился, чтобы еще раз посмотреть на них. Может, сделать еще один снимок на память. И остолбенел.
Люди все так же возились вокруг обломков, как вчера: тот же муравьиный бег, то же мерное копошение, десять человек волокли по песчаной горке огромный каменный монолит. Стучали молотки, визжали дрели, завывали пилы, хрипели усталые голоса. Башня росла – еще незаметно, еще совсем чуть-чуть, но она росла. Потихонечку – до самых небес.
– А что это вы… – я указал на руины, – заняться больше нечем?
Аваз молчал, как будто ему было неловко за своих.
– Что делаете-то? – повторил я, – вы сами хотели избавиться от башни, от этой каторги… а теперь делаете то же самое?
– А что прикажешь? – он хлопнул меня горячей рукой, – больше мы ничего не умеем. Думаешь, так легко отучиться строить башню, если ты строил ее две тысячи лет? Проще бросить курить, ей-богу… Это же вся жизнь была… старую-то жизнь кончили, а новой еще не придумали. Не успели.
– Да, в начале всегда бывает сложно, – согласился я. Все еще не верил, что все кончилось так странно.
– В каком начале? Тю-ю! – Аваз горько засмеялся, – мы тут знаешь, в который раз эту Башню рушим? Еще мой прадед тут революцию учинил, тоже поломали эту шарагу к чертям. И знаешь, как было-то, он в бою в самой каше был, целехонький остался, а потом, когда уже за столы сели, из развалин выползает Подвижник – кажется, последнего не добили. У самого кровища хлещет, трясется весь, а пистолет еще держит, собака. Р-раз! – и нет прадеда. И сам умер. Прабабка-то потом как выла…
– Ваш прадед… первым поднял восстание?
– Тю-ю, первым! Первый раз, когда языки смешались, кончилось все. Потом в ноль первом году. Нет, не две тысячи, а просто… от Рождества Христова. Тоже восстание было, порушили башню, она втрое выше была, чем ты видел… потом, когда Карл Великий был, потом Чингисхан тут гулял, мы под шумок Башню развалили, сказали, что это чингисханово войско прошло. Подвижники поверили, прикинь? Тамерлан, правда, сам все развалил, камня на камне не оставил. Руины на сто километров и горка черепов посередине. Любил он груды черепов…
– И сколько раз разрушали Башню? – не выдержал я.
– Да раз сто, наверное. Может, больше. Хочешь, летопись посмотрю, там валяется в архиве, пылищи с них…
– Рушили Башню… и всякий раз возводили ее снова? Да?
– Ну а то. Знаешь, когда падает Башня, всегда надеешься, что уж теперь-то ее никто не построит. И что все будет по-новому. Как-то само собой. Люди добрее, женщины красивее, утром встанешь, и начнется что-то интересное… А потом мы просыпаемся и не знаем, что делать. И снова строим Башню.
– Нельзя же так, – я оставил машину, зашагал к башне, – надо же пересилить себя, раз и навсегда сказать себе, что вы этого не хотите. Начать жить по-новому…
– Тю-ю, думаешь, кто-то тебя послушает? Ты вот что: тебе бензин дали? Дали. Езжай. А со своим уставом в чужой монастырь… знаешь…
Я уже и сам понимал, что не мне, чужому человеку менять здесь что-то. Они не поймут меня, и вчерашние друзья станут врагами, может, сожгут меня, как еретика, где-нибудь на площади. Я сел в машину и помахал Авазу, и пустил Ленд Ровер через пески, дальше, дальше, оставляя за собой пепелища и руины. Как Чингисхан. Пустыня спала, как будто тоже выдохлась вчера, на горизонте мелькало что-то призрачное, дымчатое, стоило посмотреть на него – и оно исчезало.
Они больно врезались мне в память – странные люди, которые не могли забыть свое прошлое. И еще врезались мне последние слова Аваза – он сказал это, наклонившись к машине.
– Знаешь, парень, еще, почему не бросаем? Вот мы порушили башню, вон руины лежат, напьешься, нарадуешься, а потом посмотришь на эти камни и думаешь: А если, правда? А если вот еще камень-другой положить, и вот тебе, небо и Бог сидит? А вдруг? Так и мечемся туда-сюда, как маятники.
Хотелось сказать им, чтобы они не валяли дурака, и выбирали что-то одно. Или сиди на земле, или карабкайся в небо. Но я ничего не сказал, мне уже было не до них.
Я остановил Ленд Ровер посреди пустыни, где не было видно никого и ничего. Вышел, захлопнул дверцу, машина исчезла. Кажется, все. Можно возвращаться на небо.
Легко и быстро я взмываю ввысь, пустыня изгибается, как чаша, наполненная пустотой. Потом выгибается обратно, вокруг меня стадами сбиваются облака. Земной шар удаляется, он похож на кружочек кофе в чашке – и сливочная пена облаков. Ее хочется размешать. И выпить до дна.
Люди… их много. Они не знают, что я – их Бог. Боги редко опускаются на землю вровень с людьми – только для того, чтобы люди не поднялись на небо вровень с Богами. Интересно, сколько они еще будут строить свою башню, и сколько мне еще придется поднимать бунты?
Там, среди звезд меня встречает Джамиль. Мне придется сказать ему, что он не вернется к своей невесте. По крайней мере, не сейчас, только через сорок лет, она еще выйдет замуж, у нее будет трое детей. А потом она умрет, и два человека снова встретятся. Я увижу, как они встретятся. Это всегда немножко радостно. И немножко больно.
2009 г
Ведро тепла
– Вызывали?
Ненавижу.
Кого?
Всех. Их. Которые ходят сюда. Неважно, зачем. Думаю, никого не трогаю, перебываю в покое, тут на тебе, ввалятся какие-то, и не выгонишь. Чесслово, были бы руки, швырнул бы чем-нибудь, да посильнее.
– Вызывали?
Хочу сказать – не вызывал. Тут же спохватываюсь, а ну да, конечно, вызывали… вызывали…
Мужчина. Молодой. Молодой сейчас редкость. Мужчина – редкость еще большая. Вваливается, как к себе домой, хоть бы сапожищи снял для приличия, да фиг с два, не царское это дело, сапожищи снимать…
– Сообщение какое-то выходит…
– Какое какое-то?
Не отвечаю. Откуда я знаю, какое, не я программер, а этот, который пришел…
Программер смотрит. Проверяет что-то. Не знаю, что он там проверяет, и знать не хочу.
Ненавижу.
Его.
И всех.
Особенно всех. Нет, в этот момент – особенно его.
– Это кто ж вам такое поставил…
Не знаю, что там такое. Не хочу знать.
– Мастер. Кто до вас был.
– Руки мастеру оторвать. И голову туда же. Это менять надо…
– Сколько?
Он называет сумму. Вздрагиваю.
– Разорите вы меня… а эту оставить нельзя?
– Смеетесь? Нет, бога ради, хоть насовсем штуку эту оставляйте, только она у вас через минуту снова полетит…