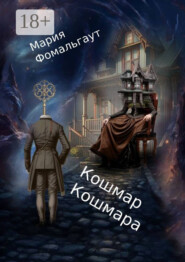По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Закниженная пустошь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Да оставь ты телефон, оставь… глазами смотри… запоминай…»
Я уже не спорю с ним, я смотрю глазами и запоминаю. Каждую арку, каждый изгиб колонны, каждый блик на витражах.
Он позволяет мне отдохнуть – мало, слишком мало, снова поднимает меня, снова гонит в никуда, на этот раз – на вокзал, куда теперь, в какую еще Черногорию…
«Смотри, – не отстает он, – смотри».
Я уже понимаю – не может быть никаких «можно не сейчас», никаких «можно потом», он погонит меня дальше, дальше, по странам, по городам, а в Исландии сейчас солнце заходит в полночь, и светит на водопады, ты это должен увидеть, обязательно…
На станции он говорит мне не садиться во второй вагон, – я даже не спрашиваю, что там во втором вагоне, я уже знаю – лучше не садиться. Устраиваюсь в третьем вагоне, как он велел, он не отстает, смотри, смотри, тут сейчас такие деревья будут, закачаешься, а потом замок в скале…
Я уже не спрашиваю его, почему нужно смотреть скорей-скорей сейчас-сейчас. Я уже не спрашиваю, что случится потом, – судя по всему, очень скоро, просто до черта скоро, когда я уже не смогу увидеть все это…
Я не спрашиваю его, что случится.
Уже не спрашиваю.
Я уже знаю – он не ответит.
И почему-то мне уже не страшно.
Страшно мне становится потом – когда он говорит мне остановиться на лугу, пройти по траве, нет, там дальше нет никакого замка, и ничего нет, ты просто стой и смотри, как шелестит на ветру трава, залитая солнцем, как носятся высоко в небе юркие ласточки.
Я не выдерживаю, я отвечаю, что такие вещи можно посмотреть и дома, можно подумать, в Воронеже травы нет, и ласточек, а здесь уж давай города, и все такое…
Вот здесь мне и становится страшно.
Когда он говорит – надо сейчас.
Здесь я уже не выдерживаю, я спрашиваю, что дальше случится с травой, с солнцем, с ласточками – он не отвечает. До меня долетают только какие-то уклончивые обрывки мыслей, что ему нельзя говорить такие вещи.
Он…
Ловлю себя на том, что по-прежнему называю его он, хотя никакой он не он, а самый что ни на есть я.
Вечером в гостинице я ненадолго успокаиваюсь, – начинаю верить, что беда случится со мной, только со мной, какая-нибудь авария, болезнь какая-нибудь, ну мало ли какие есть болезни – тут же спохватываюсь, если бы он, то есть я, умер, он, то есть, я, уже ничего не говорил бы оттуда, из завтра. Осторожно спрашиваю его (меня), видел ли он сегодня других людей. Он не отвечает.
Что случится, спрашиваю я его, что, черт возьми, произойдет. Почему нужно – сейчас, почему нельзя потом, почему не будет никакого потом, нет, не пойду я ни на какую гору, пока не скажешь мне, черт возьми, что случилось…
Он уходит.
Молча.
Просто.
Вот так.
Я больше не слышу его голоса из ниоткуда, он больше ничего мне не подсказывает, – и от этого страшно, так же страшно, как было в тот раз, когда я впервые его услышал.
Я иду на гору. Я понимаю, что надо идти на гору, идти сейчас, потому что потом чего-то не будет, или меня, или горы, или всех нас вместе, или…
Охота зайца
Эйкин Драм прицеливается, выискивает среди холмов неуловимого зайца – нет, нигде не мелькнет заяц, затаился заяц, как будто и нет его, но Эйкин чувствует – он здесь, он рядом, подкарауливает, выслеживает, смеется над Эйкиным, – ну ничего, у-у-ух, Эйкин Драм его подстрелит…
Эйкин Драм спускается с холма, оглядывает серую пустыню – что-то мелькает на горизонте, заяц ли, не-ет, не заяц, тут другое что-то, да что другое, заяц и есть, то тут, то там, мелькает, прыгает на границе света и тени.
Чер-р-рт…
Эйкин Драм вскидывает ружье, целится, стреляет – в пустоту.
Промазал.
Промазал, черт побери, промазал.
Снова мелькает заяц где-то там, там.
Эйкин Драм сжимает зубы.
Ничего, он доберется до зайца… доберется… обязательно…
Заяц прицеливается, выискивает среди холмов неуловимого Эйкина Драма – нет, нигде не мелькнет Драм, затаился Драм, как будто и нет его, но заяц чувствует – он здесь, он рядом, подкарауливает, выслеживает, смеется над зайцем, – ну ничего, у-у-ух, заяц его подстрелит…
Заяц спускается с холма, оглядывает серую пустыню – что-то мелькает на горизонте, Эйкин ли, не-ет, не Эйкин, тут другое что-то, да что другое, Эйкин и есть, то тут, то там, мелькает, прыгает на границе света и тени.
Чер-р-рт…
Заяц вскидывает ружье, целится, стреляет – в пустоту.
Промазал.
Промазал, черт побери, промазал.
Снова мелькает Эйкин Драм где-то там, там.
Заяц сжимает зубы.
Ничего, он доберется до Эйкина Драма… доберется… обязательно…
Эйкин Драм спускается по склону кратера, оглядывает Море Спокойствия – ему кажется, что заяц затаился где-то тут, да что – кажется, не так-то просто найти серебристого зайца на серебристой луне. А надо искать, надо выхватывать взглядом малейшие мелькания, стрелять – но так, чтобы наверняка, патроны тоже не бесконечные…
…выстрел.
Эйкин Драм падает, зажимает простреленное плечо, чер-р-р-рт, опередил заяц, опередил…
Заяц спускается по склону кратера, оглядывает Море Спокойствия – ему кажется, что Эйкин Драм затаился где-то тут, да что – кажется, не так-то просто найти серебристого Эйкина на серебристой луне. А надо искать, надо выхватывать взглядом малейшие мелькания, стрелять – но так, чтобы наверняка, патроны тоже не бесконечные…
…выстрел.