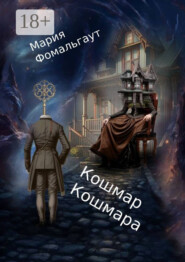По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На краю Самхейна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Враг, враг – где он может быть, этот враг, а если он спрятался в самом городе, да что значит, если, так оно и есть, может, в этом доме, или вот здесь, в зарослях заброшенного городского парка, или в старой ратуше, где живут совы, или…
Мощным ударом хвоста разбиваю ратушу, – совы взмывают в небо с обиженным гуканьем. Новый удар – рушится стена старого купеческого дома, вспышка пламени – яркий костер взмывает в небо там, где был парк.
Враг, враг… будь я проклят, если не найду врага…
Пылает город.
Люди в панике бегут куда-то.
Уже не могу сдержать ярость, – сыплются удары хвоста, рассыпается город, трещит по швам. Враг, враг, где он, это враг, две завитушки и крест, две завитушки и крест, две зави…
Складываю крылья.
Камнем обрушиваюсь в бескрайнее море, увожу самого себя от города, который чуть не разрушил.
Вижу своё отражение в шумящих волнах, в свете луны.
Две завитушки…
…и крест…
…две завитушки…
…и крест.
На краю Самхейна
Тетушка Луна считала наш дом самым плохим в округе – и считала весьма справедливо. Правда, если быть честными до конца, плохим был не дом, а место его расположения. Когда владельцы богатых домов начинали жаловаться, что живут за краем Лугнасада, а то и вовсе поближе к Мабону, а если аренду поднимут, то придется переехать за пятнадцатое сентября, совсем-совсем в осень – тут же кто-нибудь говорил, что им грех жаловаться, есть дома и похуже.
Под домами похуже подразумевался наш особняк, названный Самхейном – потому что он стоял на самом краю тридцать первого октября.
Когда тетушка Луна зажигала огонь в камине и горестно вздыхала, что стоит-то наш дом на самом краю осени, дядюшка тут же говорил в утешение, что платить-то за него надо всего-ничего – три мечты в месяц, да горсточку снов – но это, это было слабое утешение.
Впрочем, мы не ударили лицом в грязь – украсили свой дом на славу, не дом, а настоящий замок, развесили резные тыквы, вырезали из картона летучих мышей, зажигали по вечерам фонари, отчего холмы, где стоял дом, выглядели не такими уж мрачными.
Чтобы подбодрить тетушку Луну, дядюшка упоминал деревушку на краю Имболка, где всегда лежит снег – но тут же и сам понимал, что наш мрачный Самхейн никак не может сравниться с веселым Имболком.
Когда меня спрашивали, где я живу, я всегда с гордостью отвечал – в Самхейн-холле, да еще и пожимал плечами, дескать, а что такого. Да, я гордился, что живу на краю тьмы, и мне нравилось, когда другие мальчишки изумленно ахали, узнав, где я живу. Пару раз, правда, приходилось драться с забияками – кое-где в Белтейне жило поверье, что люди, живущие на краю тьмы, сами порождение мрака, что было, разумеется, неправдой.
Но больше всего я мечтал переехать – хотя бы в черничный Лугнасад или в благодатные земли между Литой и Лугнасадом. Раза два я пытался устроиться пахарем, но вспоминал про тетушку Луну и дядюшку – и понимал, что не могу их бросить. Вряд ли простой пахарь смог бы разбогатеть настолько, чтобы построить дом и перевезти туда своих родных.
Окна тетушкиной и дядюшкиной комнат выходили на лето, и если утром отдернуть шторы, можно было увидеть багрянец рябин Мабона и залитые солнцем луга Лугнасада вдалеке. Окна же большого зала на первом этаже и моей комнаты выходили на зиму, и вечером я пораньше задергивал шторы, чтобы не видеть темных равнин, подернутых густым туманом и первым снегом. Иногда в тумане виднелись огни, мелькали силуэты, настолько расплывчатые, что я даже не понимал, были они или нет. Очень-очень редко – по пальцам можно перечесть такие вечера – за пеленой тумана в темноте виднелся огонек, и я верил, что это огни Йоля, где ветви омелы, и яркие свечи, и праздничное дерево.
Когда меня посылали за хворостом для очага, я нарочно шел в сторону осени, хоть в этом не было никакой необходимости – мне нравилось чувствовать себя храбрым, ужасно храбрым, балансировать на грани жизни и смерти, на грани тьмы и света, на грани зимы и осени. Я подбирал высохшие ветви, смотрел на черные голые деревья, и мне казалось, что за мной неустанно следят чьи-то зловещие глаза. Но я никогда не переходил на ту сторону маленького ручья по полуразрушенному мосту – что-то подсказывало мне, что там начинается нечто настолько зловещее, что человеку там делать нечего.
История, о которой я готовлюсь поведать, случилась в праздник Настоящего. Ни один день в году я не ждал с таким же нетерпением, как празднество, когда огромное Настоящее прокатится мимо нашего дома. Еще за две недели до праздника я смотрел в бинокль на золотисто-желтые деревья Мабона, куда уже пришло Настоящее, и где его встречали корзинами плодов. В самый день праздника даже выходил пораньше на улицу и подметал дорожку, по которой катилось Настоящее, – как будто Настоящее могло оценить мои старания.
Тетушка Луна готовила тыквенный пирог, а мы с дядюшкой вырезали Тыквенного Джека и зажигали свечи. И когда со стороны осени приходила ночная тьма, мимо нашего дома торжественно катилось Настоящее – чудный мир с чужим городами и огнями чужих домов…
До сих пор толком не понимаю, что произошло – просто в какой-то момент что-то светлое отделилось от громадины Настоящего и упало в пожелтевшую траву. Я бросился к блеклому пятну, но тетушка тут же осадила меня – мало ли там что, а когда я увидел, что непонятное сияние слабо шевелится.
Её звали Джекет.
Так она сказала мне в первый вечер, когда я спросил, как её зовут. Вернее, не спросил, сначала ткнул пальцем себе в грудь, назвал своё имя – Сателлит, потом указал на неё, она ответила:
– Джекет.
В первый вечер…
– Так ты заблудилась?
Это я спросил уже потом, после коротких сбивчивых вопросов и ответов, как называется по-ихнему хлеб, а вино, а дом, а трава, а луна, а солнце, а вино, а лю… нет, нет, про Люблю я её не спрашивал.
– Так ты заблудилась?
Нет, она не заблудилась, всё оказалось банальнее, – торопилась в город, ехала в повозке, возвращалась из гостей, вроде как разругалась с кем-то, поэтому ехала одна, а с повозкой что-то случилось, то ли колесо она сломала, то ли что – Джекет пришлось идти пешком, не успела в город к полуночи, еще видела, как закрываются ворота вдалеке.
– А лошадь? – спросил я, – лошадь?
– Лошадь? – Джекет изумленно уставилась на вороного Брауни, который пасся за воротами.
– У тебя сломался экипаж, но ведь у тебя была лошадь, которая везла повозку.
– Нет, – Джекет помотала головой, – не было лошади.
Я ничего не понимал. Я представить себе не мог, что хрупкая Джекет тащила на себе повозку, хотя, быть может, это была маленькая тачка, груженая урожаем или еще там чем. У тачки отвалилось колесо, треснула ось, и надо было всё бросить и спешить в город – но глупая Джекет кинулась поправлять ось, потеряла драгоценное время до захода солнца или до полуночи…
– Ты везла повозку? – догадался я.
– Нет-нет, что ты, – Джекет замотала головой, – я ехала в повозке.
Я ничего не понял, да мне и не надо было ничего понимать. Сегодня предстояло немало дел – разгрести хлам в комнатке на чердаке и устроить там спальню для Джекет. А еще надо было вырезать парочку тыкв и зажечь в них свечи, чтобы Джекет было светло.
– Ты… ты чего?
Я обернулся и увидел, что тонкие плечи Джекет вздрагивают, – я догадался, что она плачет, да я бы тоже плакал, если бы потерял свой дом и оказался в неведомых краях безо всякой возможности вернуться домой.
– Ну что ты, – я обнял Джекет за плечи, – мы… мы догоним настоящее, и…
Я тут же понял, что сболтнул глупость. Немыслимо было догнать Настоящее, не стоило даже и пытаться. Я не говорю уже о том, что пришлось бы идти через темные времена после Самхейна, что было подобно смерти.
– Я… а я знаю, что делать… через год Настоящее вернется сюда, и ты снова в него вернешься.
– Джекет недоверчиво всхлипнула.
– Я дам тебе самого быстрого вороного коня, ты поскачешь в нем в свой город… ты успеешь…
Тут же я сам спохватился, что Джекет может и не успеть, слишком коротко время между началом Самхейна и закатом солнца, когда нужно одолеть огромное расстояние между Безвременьем и Настоящим, успеть в город до того, как закроют ворота и зажгут фонари.