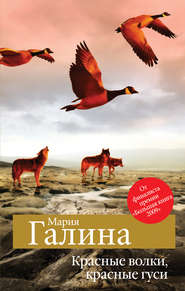По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Малая Глуша
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Завотделением был шикарный мужчина, в крахмальном халате, смуглый, с тонкой полоской усов. Халат нарочно, подумала Петрищенко, накинут на плечи так, чтобы был виден румынский костюм, асфальтово-серый в тонкую светлую полоску… В нагрудном кармане ручка, и наверняка с золотым пером… Надо же, какое хлебное место – психушка! Вот и надо было специализироваться по психиатрии, сказала она себе…
От завотделением пахло хорошим одеколоном.
Совершенно бесполезный малахитовый чернильный прибор на столе и часы такие же, зелененькие… очень солидно. Наверняка у него в сейфе стоит дорогой коньяк, может быть, даже привозной. А если я сейчас ему предложу выпить по рюмочке? Интересно, что он скажет?
Держал себя завотделением любезно и понимающе, словно с потенциальным пациентом. Впрочем, каждый человек ведь и есть его потенциальный пациент.
– Ригиден, – прочла она вслух, – на раздражители реагирует слабо, наблюдаются навязчивые стереотипные движения и высказывания. Диагноз: острый маниакально-депрессивный психоз с последующим распадом личности…
– Товарищ доктор, а по-нашему, по-простому нельзя? – встрял Вася. – Нам че, мы в институтах не обучались. Ты бы перевел…
Этого она и боялась. Вася начал опрощаться. Его раздражал напомаженный доктор. Вася решил, что доктор сноб и вообще враждебный классовый элемент. Иногда на Васю ни с того ни с сего находило.
Петрищенко попробовала пнуть Васю под столом ногой, но ушибла палец о ножку стола.
Завотделением посмотрел на него сквозь очки, обрамленные тонкой золотистой оправой.
– Если применить обыденную лексику, – сказал он вежливо, поскольку Васино опрощение на него никакого впечатления не произвело, – то Бабкин свихнулся. Сидит и раскачивается на койке. И долбит, как попугай.
У завотделением был едва уловимый иностранный акцент. Тоже выделывается, подумала Петрищенко.
– Че долбит-то? – напирал Вася, который уже не мог выйти из образа.
– Вася, хватит, – прошипела углом рта Петрищенко и с ужасом ощутила знакомый характерный зуд; наверняка шея пошла красными пятнами.
– Я – проклятый пожиратель моха! – сказал завотделением.
– Что? – переспросил Вася нормальным голосом.
Он решил, что психиатр рехнулся. Прямо у них на глазах, в кабинете. У них, у психиатров, это обычное дело.
– Я – проклятый пожиратель моха, – с удовольствием повторил врач. – Так он говорит… хотя «моха» по-моему, неправильная форма. Надо бы «мха». Вы как полагаете?
– Понятия не имею, – растерянно сказал Вася, – хотя да, скорее «мха». А что это значит?
– А вот это вы должны мне сказать, – сказал психиатр, доброжелательно наблюдая за стремительной Васиной эволюцией, – вы ведь СЭС-2, разве нет? Мне из Пароходства звонили. Из первого отдела. Кто-то из ваших гуляет?
– Похоже на то. К сожалению, – согласилась Петрищенко.
Она полагала, что раз уж ей так не повезло быть начальником, то всякие неприятные разговоры надо брать на себя. И хотя она об этом и не знала, именно за это редкое качество придирчивый и брезгливый Вася ее уважал и любил. Сама она полагала, он ее презирает за мягкотелость.
– Плохо. Ваши практически неизлечимы. Тех, с семьдесят второго, до сих пор держим… кто еще жив, понятное дело.
Он нажал на кнопку селектора.
– И еще – у меня допуск, а у лечащего врача нет. Теперь я сам буду его вести.
– Извините, – сказал вдруг Вася, – спросить можно?
– Да, молодой человек, – устало сказал врач, и вдруг стало понятно, что он старик. И волосы, вдруг осенило Петрищенко, у него крашеные. Вон, кожа прокрасилась на висках.
– Откуда у вас этот акцент? Ну, такой…
– Меня аннексировали вместе с Бессарабией, – объяснил психиатр, – я вообще до восьми лет русского не знал. А что?
– Да нет, ничего.
– Мама коммунисткой была, – пожаловался врач, – в застенках Сигуранцы сидела… в первую отсидку. И назвала меня Эрнст, в честь Тельмана. Ух и били же меня в школе. Ладно, пойдемте, коллеги, посмотрим на вашего Бабкина.
– А мне можно спросить? – не выдержала Петрищенко.
– И вам можно, – печально сказал завотделением.
– А какой коньяк у вас в сейфе стоит?
– «Наполеон», – удивился врач.
– Настоящий французский?
– Да. Пациент подарил. А что?
– Да нет, – покачала головой Петрищенко, – нет. Ничего.
* * *
– Может, все-таки не наш, – с надеждой сказал Вася.
Бабкин сидел на койке и раскачивался. Вася хмыкнул; он ожидал смирительной рубашки и вообще всяких ужасов, но Бабкин был в длинном фланелевом халате…
На столике стояла эмалированная кружка с торчащей из нее алюминиевой столовой ложкой и лежал полуочищенный одинокий апельсин.
– Вот он, Бабкин-то. – Дежурный врач, в кармане халата которого торчал свернутый в трубку журнал «За рулем», при завотделением сохранял кислую вежливую мину. – Амитриптилин, мелипрамин, электрошок… стандартные процедуры. Только он вам ничего не скажет. Неконтактен. Неадекватен.
– Я – проклятый пожиратель моха, – сообщил Бабкин.
– Да, да, – согласился дежурный врач, – уже знаем. Есть он, кстати, отказывается. Насильно приходится кормить.
– Я – проклятый пожиратель моха, – вновь сказал Бабкин.
– Ясно, – опять согласился врач.
– Звать-то тебя как, мужик? – дружелюбно спросил Вася.
– Проклятый…
– Вася, ты же видишь, он зациклился.
Больница больше не вызывала у Петрищенко ностальгии. Ей хотелось уйти отсюда поскорее, пока больница не засосала ее, как она в конце концов делает со всеми.