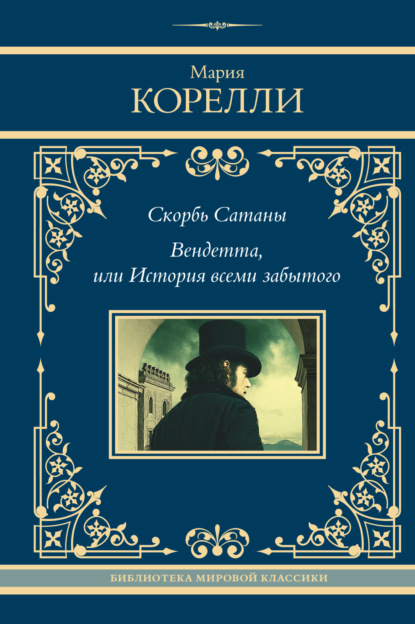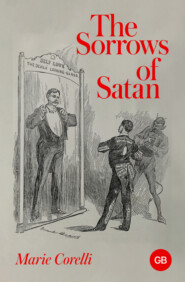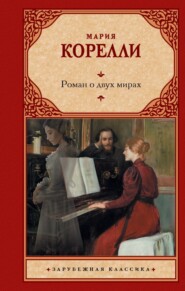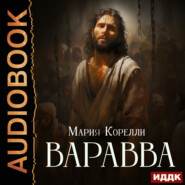По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Скорбь Сатаны. Вендетта, или История всеми забытого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пожалуйста, не сочтите меня грубияном! – сказал я. – Но дело в том, что я распечатал ваше письмо лишь несколько минут назад, прежде чем мог все привести в порядок, чтоб принять вас. Лампа погасла так некстати, что я принужден теперь приветствовать вас, против правил общества, в темноте, которая даже мешает нам пожать друг другу руки.
– Попробуем? – спросил мой гость, и звук его голоса смягчился, придавая особенную прелесть его словам. – Моя рука здесь; если в вашей есть немного дружелюбия, они встретятся совершенно наудачу, безо всякого управления.
Я протянул свою руку, и она тотчас же почувствовала теплое и несколько властное пожатие. В этот момент комната осветилась: квартирная хозяйка вошла, неся, как она говорила, «свою лучшую лампу», и поставила ее на стол. Я думаю, при виде меня она воскликнула от удивления, быть может, даже сказала что-нибудь, – но я не слыхал и не обращал внимания, так как был поражен и очарован наружностью человека, чья сильная тонкая рука все еще держала мою. Я сам довольно высокого роста, но он был на полголовы, если не более, выше, и, когда я смотрел прямо на него, я думал, что мне никогда не приходилось видеть столько красоты и ума, соединенных в одном человеческом существе! Прекрасной формы голова указывала на силу и ум и благородно держалась на плечах, достойных Геркулеса. Лицо его имело форму безупречного овала и было довольно бледным, что придавало почти огненный блеск его темным глазам, имевшим удивительно обаятельный взгляд, в котором соединялись одновременно веселье и страдание. Самой замечательной чертой его лица был рот: несмотря на безупречно красивый изгиб, он был тверд и решителен и не слишком мал. Я заметил, что в спокойном состоянии он отражал горечь, презрение и даже жестокость. Но когда улыбка озаряла его, он выражал – или даже казалось, что выражал – нечто более утонченное, чем страсть, и с быстротой молнии у меня мелькнула мысль, чем могло быть это мистическое необъяснимое нечто. При одном взгляде я заметил эти главные подробности в пленительной наружности моего нового знакомого и, когда он выпустил мою руку, почувствовал, словно знал его всю жизнь! И теперь, лицом к лицу с ним, при свете лампы, я вспомнил об окружавшей меня обстановке: холодная, плохо освещенная комната с низким потолком, черная сажа на полу, мое потертое платье и жалкий вид в сравнении с царственно державшимся человеком, явно обладавшим несметными богатствами. Его длинное пальто было подбито и оторочено великолепными русскими соболями; он расстегнул его и швырнул небрежно, смотря на меня и улыбаясь.
– Я знаю, что пришел не вовремя! – сказал он. – Со мною так всегда! Это мое особенное несчастье! Воспитанные люди никогда не вторгаются туда, где им не рады, и потому я боюсь, что мои манеры оставляют желать лучшего. Если можете, то простите меня ради этого. – И он вынул адресованное мне письмо, написанное знакомой рукой моего друга Кэррингтона. – И позвольте мне сесть, пока вы будете читать этот документ. – Он придвинул стул и сел.
Я смотрел на его красивое лицо и свободную позу с еще большим восхищением.
– Не нужно мне никакого документа! – сказал я со всей искренностью, какую теперь действительно чувствовал. – Я уже получил письмо от Кэррингтона, где он говорит о вас в самых теплых и признательных выражениях. Но тот факт, что… В самом деле, князь, вы должны извинить меня, если я кажусь сконфуженным или удивленным… Я ожидал встретить совершенного старика…
И я в замешательстве остановился от острого взгляда его блестящих глаз, пристально смотревших на меня.
– В наше время никто не стар, дорогой сэр, – заявил он. – Даже бабушки и дедушки бывают бодрее в пятьдесят лет, чем они были в пятнадцать. Теперь совершенно не говорят о годах в высшем обществе: это неучтиво, даже грубо. То, что непристойно, не упоминается, а годы сделались непристойностью, поэтому о них избегают говорить. Вы говорите, что ожидали увидеть старика? Хорошо, вы не разочарованы, я – стар. В сущности, вы даже не можете себе представить, как я стар!
Я рассмеялся этой нелепости.
– Вы моложе, чем я, или, по крайней мере, так выглядите.
– Ах, мой вид обманчив! – возразил он весело. – Я, как многие известные модные красавицы, старше, чем кажусь. Но прочтите же рекомендательное послание, что я принес вам. Я до тех пор не буду удовлетворен.
Желая любезностью загладить свою прежнюю грубость, я тотчас распечатал письмо моего друга и прочел следующее:
Дорогой Джеффри!
Податель сего, князь Риманец, весьма знатный и образованный джентльмен, происходит из одной из древнейших фамилий Европы, а значит, и мира. Тебе, как любителю древней истории, будет интересно узнать, что его предки были халдейскими принцами, которые потом поселились в Тире, откуда перешли в Этрурию, где и оставались несколько столетий. Он последний потомок этого дома, чрезвычайно одаренная и гениальная личность, и его, как моего хорошего друга, с удовольствием поручаю твоему вниманию. Некоторые тягостные обстоятельства заставили его покинуть родную провинцию и лишиться большей части своих владений, так что он – странник на значительном протяжении земли. Он много путешествовал и много видел и отлично разбирается в людях и делах. Он – поэт и очень талантливый музыкант, и, хотя занимается искусствами только для собственного удовольствия, я думаю, что ты найдешь его практическое познание в литературных делах весьма полезным для твоей непростой карьеры. Я должен прибавить, что во всех отраслях науки он безусловный знаток. Желаю для вас обоих сердечной дружбы, остаюсь, дорогой Джеффри,
искренне твой
Джон Кэррингтон.
На этот раз он счел неуместным подписаться «Баффлз», что меня почему-то глупо оскорбило. В этом письме было что-то натянутое и формальное, как если бы оно было написано под диктовку и по настоянию. Что навело меня на эту мысль – не знаю. Я украдкой взглянул на моего безмолвного собеседника, он поймал мой нечаянный взгляд и возвратил его с особенной серьезностью. Опасаясь, чтобы внезапное смутное недоверие к нему не отразилось в моих глазах, я поспешно сказал:
– Это письмо, князь, усиливает мой стыд и сожаление, что я так дурно встретил вас. Никакое оправдание не способно загладить мою неучтивость, но вы не можете себе вообразить, как я огорчен, что вынужден принимать вас в этой нищенской конуре: совершенно не так я бы хотел приветствовать вас!..
И я остановился из-за вернувшегося раздражения, вспомнив, что теперь действительно был богат, но, вопреки этому, был вынужден казаться бедным.
Между тем князь легким движением руки прервал мои замечания.
– Зачем огорчаться? – спросил он. – Вам следует скорее гордиться, что вы можете избавиться от пошлых принадлежностей роскоши. Гений вырастает на чердаке, а умирает во дворце. Не есть ли это общепринятая теория?
– Я думаю, скорее избитая и неправильная, – ответил я. – Гению не мешало бы хоть раз пожить во дворце, но он, как правило, умирает с голода.
– Верно! Но только представьте себе, сколько глупцов разжиреют на их голодной смерти потом! И это есть проявление вечной мудрости природы. Шуберт погиб от нужды, но посмотрите, сколько выгоды принесли его сочинения нотным издателям! Таков прекраснейший закон распределения: честные люди должны жертвовать собой, чтоб позволить существовать мошенникам.
– Вы говорите, конечно, саркастически? – спросил я. – В действительности вы не верите в это?
– О, верю ли я! – воскликнул он, блестя своими красивыми глазами. – Если б я мог не верить в то, чему научил меня мой опыт, что бы мне осталось? Во всем нужно покоряться необходимости, как говорит старая поговорка. Нужно покориться, когда дьявол погоняет. Действительно, нельзя найти возражения на это верное замечание. Дьявол погоняет мир кнутом, зажатым в руке, и, что довольно странно (принимая во внимание, что люди верят в существование Бога), чрезвычайно преуспевает в управлении своей упряжкой!.. – Его брови сдвинулись, горькая линия у рта стала глубже и резче, но он вдруг опять светло улыбнулся и продолжал: – Однако не будем морализировать: мораль вызывает тошноту; каждый рассудительный человек ненавидит, когда ему говорят, кем он мог бы быть и кто он есть. Я пришел для того, чтобы сделаться вашим другом, если вы позволите. И, чтоб покончить с церемониями, поедем ко мне в отель, где я заказал ужин.
Тем временем я совершенно очаровался его свободным обращением, красивой внешностью и мелодичным голосом; его сатирическое настроение подходило к моему. Я чувствовал, что мы отлично сойдемся с ним, и первоначальная досада на то, что он застал меня в таких бедственных обстоятельствах, как-то ослабела.
– С удовольствием! – ответил я. – Но прежде позвольте мне немного объяснить вам положение дел. Вы много слышали обо мне от моего друга Джона Кэррингтона, и я знаю из его письма ко мне, что вы пришли сюда из доброты и желания мне помочь. Благодарю вас за это великодушное намерение! Я знаю, вы ожидали найти бедняка литератора, борющегося с ужасной нищетой и отчаянием, и часа два назад ваши ожидания вполне оправдались бы. Но теперь обстоятельства изменились: я получил известие, которое совершенно меняет мое положение; я получил сегодня вечером удивительный сюрприз…
– Надеюсь, приятный? – осведомился мягко мой собеседник.
Я улыбнулся.
– Судите сами! – И я протянул ему письмо от адвокатов, которое уведомляло меня о неожиданно доставшемся мне богатстве.
Он бросил на него быстрый взгляд, затем сложил и возвратил мне письмо с вежливым поклоном.
– Я должен поздравить вас, – сказал он, – что я и делаю. Хотя, конечно, это богатство, которое, по-видимому, радует вас, для меня кажется мелочью. Оно проживется в каких-нибудь восемь лет или менее. Чтобы быть богатым, по-настоящему богатым, в моем понимании этого слова, нужно иметь около миллиона в год. Тогда можно надеяться избежать богадельни.
Он засмеялся, а я глупо уставился на него, не зная, как принять его слова: как правду или как праздное хвастовство. Пять миллионов называть мелочью!
Он продолжал, по-видимому, не замечая моего изумления:
– Неисчерпаемая алчность человека, мой дорогой сэр, никогда не может быть удовлетворена. Если он получит одно, он желает другое, и его вкусы вообще очень дороги. Например, несколько хорошеньких женщин, которым чужды предрассудки, скоро освободят вас от ваших пяти миллионов в погоне за одними бриллиантами. Скачки сделают это еще скорее. Нет-нет, вы не богаты – вы еще бедны, просто нужда не давит на вас так, как прежде. И, признаюсь, я этим разочарован, поскольку направлялся к вам с надеждой сделать добро хоть раз в жизни и стать крестным отцом для восходящего гения, но и здесь меня, по обыкновению, опередили. Странно, но тем не менее это факт: куда бы я ни пришел с особыми намерениями в отношении какого-то человека, меня всегда опережают! Это действительно тяжело!
Он остановился и поднял голову, прислушиваясь.
– Что это такое? – спросил он.
Это был скрипач в соседней комнате, игравший «Аве Мария».
– Как жалобно! – сказал он, презрительно пожав плечами. – Итак, миллионер и будущий знаменитый светский лев, я надеюсь, что к предполагаемому ужину препятствий нет? И, может быть, потом в мюзик-холл, если будет настроение? Что вы на это скажете?
Он дружески хлопнул меня по плечу и посмотрел мне прямо в лицо; его изумительные глаза, заключавшие в себе и слезы, и огонь, глядели на меня светлым властным взглядом, который окончательно покорил меня. Я не пытался сопротивляться той особенной силе, притягивающей меня теперь к этому человеку, которого я только что встретил; ощущение было слишком сильно и приятно, чтобы бороться с ним. Только один момент я колебался, осматривая свое потертое платье.
– Я не в состоянии сопровождать вас, князь, – сказал я. – Я выгляжу скорее бродягой, чем миллионером.
– Вы правы! – согласился он. – Но будьте довольны! В этом отношении вы похожи на многих других крезов. Только гордые бедняки беспокоятся о хорошем платье; они и милые «легкомысленные» дамы скупают обыкновенно все красивое и элегантное. Плохо сидящий сюртук часто покрывает спину первого министра, и если вы увидите женщину, одетую в платье дурного покроя и цвета, вы можете быть уверены, что она страшно добродетельна, известна благими делами и, вероятно, герцогиня! – Он встал и потянул к себе свои соболя. – Какое дело до платья, если кошелек полон! – продолжал он весело. – Пусть только в газетах напишут, что вы миллионер, и, без сомнения, какой-нибудь предприимчивый портной изобретет новый дождевой плащ а-ля Темпест такого же мягко-зеленого художественно-линялого цвета, как ваш теперешний. А теперь поедем! Известие от ваших поверенных должно пробудить у вас хороший аппетит, и я хочу, чтобы вы отдали должное моему ужину. Со мной здесь мой повар, а он не лишен искусства. Кстати, я надеюсь, что вы окажете мне услугу, позволив быть вашим банкиром, пока ваше дело не будет рассмотрено и утверждено законным порядком.
Это предложение было сделано так деликатно и дружески, что я не мог не принять его с благодарностью, так как оно освобождало меня от временных затруднений. Я поспешно написал несколько строк квартирной хозяйке, извещая ее, что причитающиеся ей деньги будут высланы по почте на следующий день; затем, спрятав отвергнутую рукопись, мое единственное имущество, в боковой карман, потушил лампу и с новым, так неожиданно обретенным другом покинул навсегда мое жалкое жилище и связанную с ним нищету. Я не думал тогда, что придет время, когда я оглянусь на дни, проведенные в этой маленькой невзрачной комнате, как на лучший период моей жизни, когда посмотрю на испытанную мною горькую бедность как на руль, которым святые ангелы направляли меня к высоким и благородным целям, – когда в отчаянии буду молиться с безумными слезами, чтобы снова быть тем, кем был тогда! Я не знаю, хорошо или дурно, что наше будущее закрыто от нас. Стали бы мы уклоняться от зла, если бы знали его результаты? Вряд ли есть ответ на этот вопрос; во всяком случае, в ту минуту я действительно находился в блаженном неведении. Я весело вышел из мрачного дома, где знал лишь разочарования и трудности, повернув теперь к ним спину с таким чувством облегчения, которое не может быть выражено словами, – и последнее, что я слышал, был жалобный вопль мирной мелодии, словно прощальный крик неизвестного и невидимого скрипача.
IV
Перед подъездом нас ожидала карета князя, запряженная парой горячих вороных в серебряной сбруе. Великолепные чистокровные рысаки били землю и грызли удила от нетерпения; при виде хозяина щегольской ливрейный лакей открыл дверцы, почтительно дотронувшись до шляпы; по настоянию моего спутника я вошел первым и, опустившись на мягкие подушки, почувствовал приятное сознание роскоши и могущества в такой силе, что казалось, будто я уже давно оставил позади себя дни невзгод и печали. Ощущения голода и счастия боролись во мне, и я находился в неопределенном и легкомысленном состоянии, как во время долгого поста, когда абсолютно все кажется недействительным или неосязаемым. Я знал, что не смогу ощутить достоверности моего изумительного счастья, пока мои физические нужды не будут удовлетворены, и снова находился, так сказать, в колеблющемся состоянии. Мой мозг кружился вихрем, мои мысли были смутны и бессвязны, и сам пребывал в каком-то причудливом сне, от которого должен был немедленно пробудиться.
Карета бесшумно катилась на резиновых шинах, только слышался стук копыт быстро мчавшихся лошадей.
Я видел в полумраке блестящие темные глаза моего нового друга, смотревшие на меня с особенно напряженным вниманием.
– Не чувствуете ли вы, что свет уже у ваших ног, подобно мячу в ожидании удара? – спросил он полуиронически. – Свет так легко приводится в движение. Умные люди во все века старались сделать его менее абсурдным, с тем лишь результатом, что он продолжает предпочитать мудрости безрассудство. Как мяч или, скажем, как волан, готовый полететь куда угодно и как угодно, лишь бы ракетка была из золота!
– Вы говорите с какой-то горечью, князь, – сказал я. – Но, без сомнения, вы хорошо разбираетесь в людях?
– Хорошо, – повторил он выразительно. – Мое царство очень обширно.
– Попробуем? – спросил мой гость, и звук его голоса смягчился, придавая особенную прелесть его словам. – Моя рука здесь; если в вашей есть немного дружелюбия, они встретятся совершенно наудачу, безо всякого управления.
Я протянул свою руку, и она тотчас же почувствовала теплое и несколько властное пожатие. В этот момент комната осветилась: квартирная хозяйка вошла, неся, как она говорила, «свою лучшую лампу», и поставила ее на стол. Я думаю, при виде меня она воскликнула от удивления, быть может, даже сказала что-нибудь, – но я не слыхал и не обращал внимания, так как был поражен и очарован наружностью человека, чья сильная тонкая рука все еще держала мою. Я сам довольно высокого роста, но он был на полголовы, если не более, выше, и, когда я смотрел прямо на него, я думал, что мне никогда не приходилось видеть столько красоты и ума, соединенных в одном человеческом существе! Прекрасной формы голова указывала на силу и ум и благородно держалась на плечах, достойных Геркулеса. Лицо его имело форму безупречного овала и было довольно бледным, что придавало почти огненный блеск его темным глазам, имевшим удивительно обаятельный взгляд, в котором соединялись одновременно веселье и страдание. Самой замечательной чертой его лица был рот: несмотря на безупречно красивый изгиб, он был тверд и решителен и не слишком мал. Я заметил, что в спокойном состоянии он отражал горечь, презрение и даже жестокость. Но когда улыбка озаряла его, он выражал – или даже казалось, что выражал – нечто более утонченное, чем страсть, и с быстротой молнии у меня мелькнула мысль, чем могло быть это мистическое необъяснимое нечто. При одном взгляде я заметил эти главные подробности в пленительной наружности моего нового знакомого и, когда он выпустил мою руку, почувствовал, словно знал его всю жизнь! И теперь, лицом к лицу с ним, при свете лампы, я вспомнил об окружавшей меня обстановке: холодная, плохо освещенная комната с низким потолком, черная сажа на полу, мое потертое платье и жалкий вид в сравнении с царственно державшимся человеком, явно обладавшим несметными богатствами. Его длинное пальто было подбито и оторочено великолепными русскими соболями; он расстегнул его и швырнул небрежно, смотря на меня и улыбаясь.
– Я знаю, что пришел не вовремя! – сказал он. – Со мною так всегда! Это мое особенное несчастье! Воспитанные люди никогда не вторгаются туда, где им не рады, и потому я боюсь, что мои манеры оставляют желать лучшего. Если можете, то простите меня ради этого. – И он вынул адресованное мне письмо, написанное знакомой рукой моего друга Кэррингтона. – И позвольте мне сесть, пока вы будете читать этот документ. – Он придвинул стул и сел.
Я смотрел на его красивое лицо и свободную позу с еще большим восхищением.
– Не нужно мне никакого документа! – сказал я со всей искренностью, какую теперь действительно чувствовал. – Я уже получил письмо от Кэррингтона, где он говорит о вас в самых теплых и признательных выражениях. Но тот факт, что… В самом деле, князь, вы должны извинить меня, если я кажусь сконфуженным или удивленным… Я ожидал встретить совершенного старика…
И я в замешательстве остановился от острого взгляда его блестящих глаз, пристально смотревших на меня.
– В наше время никто не стар, дорогой сэр, – заявил он. – Даже бабушки и дедушки бывают бодрее в пятьдесят лет, чем они были в пятнадцать. Теперь совершенно не говорят о годах в высшем обществе: это неучтиво, даже грубо. То, что непристойно, не упоминается, а годы сделались непристойностью, поэтому о них избегают говорить. Вы говорите, что ожидали увидеть старика? Хорошо, вы не разочарованы, я – стар. В сущности, вы даже не можете себе представить, как я стар!
Я рассмеялся этой нелепости.
– Вы моложе, чем я, или, по крайней мере, так выглядите.
– Ах, мой вид обманчив! – возразил он весело. – Я, как многие известные модные красавицы, старше, чем кажусь. Но прочтите же рекомендательное послание, что я принес вам. Я до тех пор не буду удовлетворен.
Желая любезностью загладить свою прежнюю грубость, я тотчас распечатал письмо моего друга и прочел следующее:
Дорогой Джеффри!
Податель сего, князь Риманец, весьма знатный и образованный джентльмен, происходит из одной из древнейших фамилий Европы, а значит, и мира. Тебе, как любителю древней истории, будет интересно узнать, что его предки были халдейскими принцами, которые потом поселились в Тире, откуда перешли в Этрурию, где и оставались несколько столетий. Он последний потомок этого дома, чрезвычайно одаренная и гениальная личность, и его, как моего хорошего друга, с удовольствием поручаю твоему вниманию. Некоторые тягостные обстоятельства заставили его покинуть родную провинцию и лишиться большей части своих владений, так что он – странник на значительном протяжении земли. Он много путешествовал и много видел и отлично разбирается в людях и делах. Он – поэт и очень талантливый музыкант, и, хотя занимается искусствами только для собственного удовольствия, я думаю, что ты найдешь его практическое познание в литературных делах весьма полезным для твоей непростой карьеры. Я должен прибавить, что во всех отраслях науки он безусловный знаток. Желаю для вас обоих сердечной дружбы, остаюсь, дорогой Джеффри,
искренне твой
Джон Кэррингтон.
На этот раз он счел неуместным подписаться «Баффлз», что меня почему-то глупо оскорбило. В этом письме было что-то натянутое и формальное, как если бы оно было написано под диктовку и по настоянию. Что навело меня на эту мысль – не знаю. Я украдкой взглянул на моего безмолвного собеседника, он поймал мой нечаянный взгляд и возвратил его с особенной серьезностью. Опасаясь, чтобы внезапное смутное недоверие к нему не отразилось в моих глазах, я поспешно сказал:
– Это письмо, князь, усиливает мой стыд и сожаление, что я так дурно встретил вас. Никакое оправдание не способно загладить мою неучтивость, но вы не можете себе вообразить, как я огорчен, что вынужден принимать вас в этой нищенской конуре: совершенно не так я бы хотел приветствовать вас!..
И я остановился из-за вернувшегося раздражения, вспомнив, что теперь действительно был богат, но, вопреки этому, был вынужден казаться бедным.
Между тем князь легким движением руки прервал мои замечания.
– Зачем огорчаться? – спросил он. – Вам следует скорее гордиться, что вы можете избавиться от пошлых принадлежностей роскоши. Гений вырастает на чердаке, а умирает во дворце. Не есть ли это общепринятая теория?
– Я думаю, скорее избитая и неправильная, – ответил я. – Гению не мешало бы хоть раз пожить во дворце, но он, как правило, умирает с голода.
– Верно! Но только представьте себе, сколько глупцов разжиреют на их голодной смерти потом! И это есть проявление вечной мудрости природы. Шуберт погиб от нужды, но посмотрите, сколько выгоды принесли его сочинения нотным издателям! Таков прекраснейший закон распределения: честные люди должны жертвовать собой, чтоб позволить существовать мошенникам.
– Вы говорите, конечно, саркастически? – спросил я. – В действительности вы не верите в это?
– О, верю ли я! – воскликнул он, блестя своими красивыми глазами. – Если б я мог не верить в то, чему научил меня мой опыт, что бы мне осталось? Во всем нужно покоряться необходимости, как говорит старая поговорка. Нужно покориться, когда дьявол погоняет. Действительно, нельзя найти возражения на это верное замечание. Дьявол погоняет мир кнутом, зажатым в руке, и, что довольно странно (принимая во внимание, что люди верят в существование Бога), чрезвычайно преуспевает в управлении своей упряжкой!.. – Его брови сдвинулись, горькая линия у рта стала глубже и резче, но он вдруг опять светло улыбнулся и продолжал: – Однако не будем морализировать: мораль вызывает тошноту; каждый рассудительный человек ненавидит, когда ему говорят, кем он мог бы быть и кто он есть. Я пришел для того, чтобы сделаться вашим другом, если вы позволите. И, чтоб покончить с церемониями, поедем ко мне в отель, где я заказал ужин.
Тем временем я совершенно очаровался его свободным обращением, красивой внешностью и мелодичным голосом; его сатирическое настроение подходило к моему. Я чувствовал, что мы отлично сойдемся с ним, и первоначальная досада на то, что он застал меня в таких бедственных обстоятельствах, как-то ослабела.
– С удовольствием! – ответил я. – Но прежде позвольте мне немного объяснить вам положение дел. Вы много слышали обо мне от моего друга Джона Кэррингтона, и я знаю из его письма ко мне, что вы пришли сюда из доброты и желания мне помочь. Благодарю вас за это великодушное намерение! Я знаю, вы ожидали найти бедняка литератора, борющегося с ужасной нищетой и отчаянием, и часа два назад ваши ожидания вполне оправдались бы. Но теперь обстоятельства изменились: я получил известие, которое совершенно меняет мое положение; я получил сегодня вечером удивительный сюрприз…
– Надеюсь, приятный? – осведомился мягко мой собеседник.
Я улыбнулся.
– Судите сами! – И я протянул ему письмо от адвокатов, которое уведомляло меня о неожиданно доставшемся мне богатстве.
Он бросил на него быстрый взгляд, затем сложил и возвратил мне письмо с вежливым поклоном.
– Я должен поздравить вас, – сказал он, – что я и делаю. Хотя, конечно, это богатство, которое, по-видимому, радует вас, для меня кажется мелочью. Оно проживется в каких-нибудь восемь лет или менее. Чтобы быть богатым, по-настоящему богатым, в моем понимании этого слова, нужно иметь около миллиона в год. Тогда можно надеяться избежать богадельни.
Он засмеялся, а я глупо уставился на него, не зная, как принять его слова: как правду или как праздное хвастовство. Пять миллионов называть мелочью!
Он продолжал, по-видимому, не замечая моего изумления:
– Неисчерпаемая алчность человека, мой дорогой сэр, никогда не может быть удовлетворена. Если он получит одно, он желает другое, и его вкусы вообще очень дороги. Например, несколько хорошеньких женщин, которым чужды предрассудки, скоро освободят вас от ваших пяти миллионов в погоне за одними бриллиантами. Скачки сделают это еще скорее. Нет-нет, вы не богаты – вы еще бедны, просто нужда не давит на вас так, как прежде. И, признаюсь, я этим разочарован, поскольку направлялся к вам с надеждой сделать добро хоть раз в жизни и стать крестным отцом для восходящего гения, но и здесь меня, по обыкновению, опередили. Странно, но тем не менее это факт: куда бы я ни пришел с особыми намерениями в отношении какого-то человека, меня всегда опережают! Это действительно тяжело!
Он остановился и поднял голову, прислушиваясь.
– Что это такое? – спросил он.
Это был скрипач в соседней комнате, игравший «Аве Мария».
– Как жалобно! – сказал он, презрительно пожав плечами. – Итак, миллионер и будущий знаменитый светский лев, я надеюсь, что к предполагаемому ужину препятствий нет? И, может быть, потом в мюзик-холл, если будет настроение? Что вы на это скажете?
Он дружески хлопнул меня по плечу и посмотрел мне прямо в лицо; его изумительные глаза, заключавшие в себе и слезы, и огонь, глядели на меня светлым властным взглядом, который окончательно покорил меня. Я не пытался сопротивляться той особенной силе, притягивающей меня теперь к этому человеку, которого я только что встретил; ощущение было слишком сильно и приятно, чтобы бороться с ним. Только один момент я колебался, осматривая свое потертое платье.
– Я не в состоянии сопровождать вас, князь, – сказал я. – Я выгляжу скорее бродягой, чем миллионером.
– Вы правы! – согласился он. – Но будьте довольны! В этом отношении вы похожи на многих других крезов. Только гордые бедняки беспокоятся о хорошем платье; они и милые «легкомысленные» дамы скупают обыкновенно все красивое и элегантное. Плохо сидящий сюртук часто покрывает спину первого министра, и если вы увидите женщину, одетую в платье дурного покроя и цвета, вы можете быть уверены, что она страшно добродетельна, известна благими делами и, вероятно, герцогиня! – Он встал и потянул к себе свои соболя. – Какое дело до платья, если кошелек полон! – продолжал он весело. – Пусть только в газетах напишут, что вы миллионер, и, без сомнения, какой-нибудь предприимчивый портной изобретет новый дождевой плащ а-ля Темпест такого же мягко-зеленого художественно-линялого цвета, как ваш теперешний. А теперь поедем! Известие от ваших поверенных должно пробудить у вас хороший аппетит, и я хочу, чтобы вы отдали должное моему ужину. Со мной здесь мой повар, а он не лишен искусства. Кстати, я надеюсь, что вы окажете мне услугу, позволив быть вашим банкиром, пока ваше дело не будет рассмотрено и утверждено законным порядком.
Это предложение было сделано так деликатно и дружески, что я не мог не принять его с благодарностью, так как оно освобождало меня от временных затруднений. Я поспешно написал несколько строк квартирной хозяйке, извещая ее, что причитающиеся ей деньги будут высланы по почте на следующий день; затем, спрятав отвергнутую рукопись, мое единственное имущество, в боковой карман, потушил лампу и с новым, так неожиданно обретенным другом покинул навсегда мое жалкое жилище и связанную с ним нищету. Я не думал тогда, что придет время, когда я оглянусь на дни, проведенные в этой маленькой невзрачной комнате, как на лучший период моей жизни, когда посмотрю на испытанную мною горькую бедность как на руль, которым святые ангелы направляли меня к высоким и благородным целям, – когда в отчаянии буду молиться с безумными слезами, чтобы снова быть тем, кем был тогда! Я не знаю, хорошо или дурно, что наше будущее закрыто от нас. Стали бы мы уклоняться от зла, если бы знали его результаты? Вряд ли есть ответ на этот вопрос; во всяком случае, в ту минуту я действительно находился в блаженном неведении. Я весело вышел из мрачного дома, где знал лишь разочарования и трудности, повернув теперь к ним спину с таким чувством облегчения, которое не может быть выражено словами, – и последнее, что я слышал, был жалобный вопль мирной мелодии, словно прощальный крик неизвестного и невидимого скрипача.
IV
Перед подъездом нас ожидала карета князя, запряженная парой горячих вороных в серебряной сбруе. Великолепные чистокровные рысаки били землю и грызли удила от нетерпения; при виде хозяина щегольской ливрейный лакей открыл дверцы, почтительно дотронувшись до шляпы; по настоянию моего спутника я вошел первым и, опустившись на мягкие подушки, почувствовал приятное сознание роскоши и могущества в такой силе, что казалось, будто я уже давно оставил позади себя дни невзгод и печали. Ощущения голода и счастия боролись во мне, и я находился в неопределенном и легкомысленном состоянии, как во время долгого поста, когда абсолютно все кажется недействительным или неосязаемым. Я знал, что не смогу ощутить достоверности моего изумительного счастья, пока мои физические нужды не будут удовлетворены, и снова находился, так сказать, в колеблющемся состоянии. Мой мозг кружился вихрем, мои мысли были смутны и бессвязны, и сам пребывал в каком-то причудливом сне, от которого должен был немедленно пробудиться.
Карета бесшумно катилась на резиновых шинах, только слышался стук копыт быстро мчавшихся лошадей.
Я видел в полумраке блестящие темные глаза моего нового друга, смотревшие на меня с особенно напряженным вниманием.
– Не чувствуете ли вы, что свет уже у ваших ног, подобно мячу в ожидании удара? – спросил он полуиронически. – Свет так легко приводится в движение. Умные люди во все века старались сделать его менее абсурдным, с тем лишь результатом, что он продолжает предпочитать мудрости безрассудство. Как мяч или, скажем, как волан, готовый полететь куда угодно и как угодно, лишь бы ракетка была из золота!
– Вы говорите с какой-то горечью, князь, – сказал я. – Но, без сомнения, вы хорошо разбираетесь в людях?
– Хорошо, – повторил он выразительно. – Мое царство очень обширно.