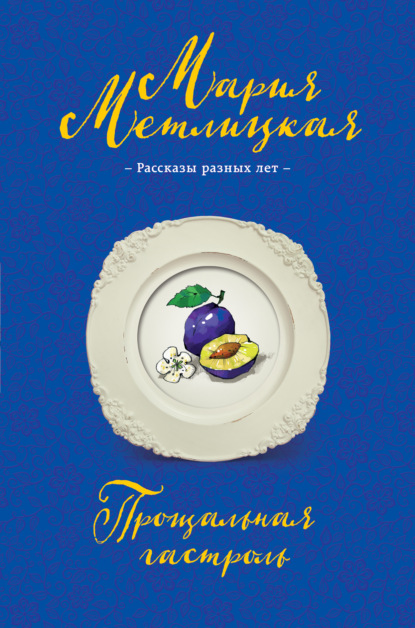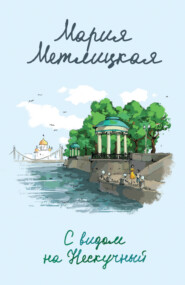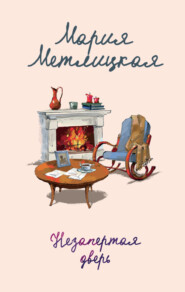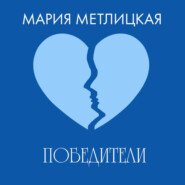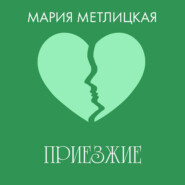По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прощальная гастроль
Автор
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прощальная гастроль
Мария Метлицкая
За чужими окнами
«…Продавщица Зинаида из близлежащего гастронома – стерва такая, что терялись и генералы, и ее коллеги-продавцы – с такими же соломенными «халами» на головах и красными перстнями на огромных руках. Он всегда этому удивлялся. Зинаида эта была дьяволом, всемирным злом: хамка, истеричка и, безусловно, воровка. Причем воровка наглая, циничная, не боящаяся ничего и никого. А вот с его женой, улыбчивой и уступчивой, она замолкала. Останавливалась в секунду, вмиг, едва заметив Зою возле прилавка.
Пыталась даже улыбнуться. Улыбка, конечно, скорее напоминала крокодилий оскал, но она улыбалась! Кивала и улыбалась…»
Мария Метлицкая
Прощальная гастроль
Зоя ушла в понедельник рано утром, едва забрезжил рассвет. Апрельский день обещал быть теплым – уже в семь утра загорелось по-летнему яркое солнце и осветило комнату. Теперь ее комнату – раньше, до ее болезни, эта комната была их общей спальней. Семейной спальней – почти тридцать пять лет.
Когда Зоя окончательно слегла, Александр переехал в комнату сына, которую по привычке все еще называли «детская».
Переехать туда, в детскую, его попросила она.
Согласился он сразу и, кажется, с облегчением – совместные ночи были уже тягостны и безнравственны, что ли… Он не спал, она мучилась. Зачем? К тому же человеком Зоя была рациональным, без всяких лирических глупостей и обид – другая бы точно обиделась: сбежал от больной жены.
Но – не она. Конечно, он теперь высыпался. Это было необходимо – предстоял обычный долгий и трудный день. И еще много долгих и трудных дней, похожих друг на друга, как бусинки одного размера, плотно посаженные на нитку.
Спустя три года в голове, как короткая молния, вспыхивала фраза, которой он невыносимо стыдился. Казалось бы, что было такого необычного в ней, в этой фразе? Обычная фраза, житейское дело: «Когда-нибудь кончается все».
Кошмарная фраза, ужасная фраза. Невыносимая в своей правдивости и определенности. А в их случае – особенно. В случае, когда медленно, по миллиграмму, по миллиметру, по секунде уходит дорогой тебе человек. Кончается, иссыхает, словно из него испаряется жизнь.
Оправдывал себя тем, что Зоя отмучается. Да-да, именно она! При чем тут он? Он-то сладит, привыкнет. Честно говоря, к этой мысли он уже приноровился.
Но, положа руку на сердце, он и сам чувствовал, как и из него уходят жизненные силы, словно пересыхает от густого и долгого зноя земля. Он тоже слабел. Усталость, возраст.
Но разве сравнишь? Ему, по крайней мере, было не больно.
Странно, думал он. Его жена всю жизнь была легким человеком. Наилегчайшим просто. Зоя ладила со всеми, он и припомнить не мог даже какой-нибудь мелкий бытовой конфликт. Даже с его родней – матерью и сестрицей – ухитрялась поддерживать дипломатические отношения. А уж характеры там были… Не приведи боже.
Однажды он слышал, как сестрица ехидно и едко сказала матери:
– А ты личной жизнью сына и невестки займись, поучаствуй! Им поуказывай, с ними поспорь! Оставь меня наконец в покое! Или хотя бы дай передохнуть!
Ответ матери его удивил еще больше, чем гневная и, наверное, справедливая речь сестры.
– А с ними неинтересно! – засмеялась мать. – Шурка вообще неконфликтный. А Зоя такая пресная и спокойная. О чем с ней спорить, к чему прицепиться?
Это, конечно, была шутка, матери вполне хватало участия в жизни дочери. Тем более что жизнь эта была бурная, непростая и действительно неудачливая. А у невестки и сына – размеренная и спокойная. Обычная счастливая семейная жизнь – ничего интересного.
Но Александр удивился и подумал, что это чистая правда! С его женой не то что поругаться было сложно – невозможно было даже поспорить.
Зоя не поддавалась на провокации, которые он, пребывая в плохом настроении, ей иногда устраивал.
«Удивительно легкий характер, – в очередной раз думал он. – Как же мне повезло».
И самое главное – Зоя ни разу не пожаловалась ему на его родню. А ведь могла бы! Ох, сколько бы женщин на ее месте сладостно бы копили, взращивали, удобряли и окучивали эти обиды! Но – не она, его Зоя. Он удивлялся этому, восхищался и был безгранично ей за это благодарен. Все ее любили – соседи, коллеги, случайные знакомцы на курортах, женщины, рожавшие с ней «сто лет назад», тетеньки, лежавшие с ней в больницах.
Продавщица Зинаида из близлежащего гастронома – стерва такая, что терялись и генералы, и ее коллеги-продавцы – с такими же соломенными «халами» на головах и красными перстнями на огромных руках. Он всегда этому удивлялся. Зинаида эта была дьяволом, всемирным злом: хамка, истеричка и, безусловно, воровка. Причем воровка наглая, циничная, не боящаяся ничего и никого. А вот с его женой, улыбчивой и уступчивой, она замолкала. Останавливалась в секунду, вмиг, едва заметив Зою возле прилавка.
Пыталась даже улыбнуться. Улыбка, конечно, скорее напоминала крокодилий оскал, но она улыбалась! Кивала и улыбалась:
– Ой, Зоечка Иванна, вы!
Радовалась ей, как первой любви. Очередь замирала.
А «Зоечка Иванна», ласково улыбнувшись, интересовалась делами крокодилицы: как старенькая мама, как сынок?
Очередь, громко и тревожно сглатывая слюну, с дрожью в ногах наблюдала за этой сценой. Не дай бог, что-нибудь пропустить! Вот, например, когда Зинка выльет черпак сметаны на голову этой смелой Зоечке Иванне.
И никто и не замечал, что за этим душевным разговором крокодилица Зинка ловко заворачивала в хрустящий пергамент постную ветчину, серединку, не «попку», «Любительской», кусок «Швейцарского» – тонкая восковая корочка с одной стороны, а не с трех. И, воровато оглянувшись и наклонившись под прилавок, двигала ногой бидон со сметаной «для своих» – то есть не разбавленной молоком или, того хуже, водой.
Зоя Иванна благодарила крокодилицу и желала «всего самого-самого! Главное – здоровье, Зиночка! А все остальное – приложится!».
Зина молча кивала и, как завороженная, провожала «подругу» немигающими крокодильими глазами. Очередь молча следила за обеими. Наконец Зина приходила в себя, начинала злобно вращать глазами и открывала ярко-малиновый рот, полный золотых зубов. Очередь привычно вздрагивала и готовилась к бою. Начиналась нормальная жизнь.
* * *
Улыбка у Зои была замечательной – открытой, широкой, бесхитростной, доброжелательной, белоснежной. Когда она улыбалась, на щеках у нее появлялись очаровательные ямочки. От Зоиной улыбки, кстати, немного робкой и беззащитной, люди терялись, теплели, добрели, смущались и радовались. «Сильное оружие», – смеялся он.
Александр тоже очень любил эту улыбку, которая отражала всю Зоину суть – человеком она была милым, спокойным, доброжелательным и совершенно бесконфликтным. Не жена, а подарок небес. Дорогой подарок, он это отлично понимал. А уж когда оглядывался по сторонам… Эх, думал, бедные мужики! И как они справляются со своими Зинаидами и прочими крокодилами?
Мать его была человеком резким – всю жизнь считала себя правдолюбкой и очень этим гордилась. А кому нужна была ее правда, собственно говоря? Люди не хотят знать о себе правду, да и об окружающих зачастую тоже. А мать лепила правду-матку в глаза. Недобрый был у нее язык, ядовитый. «Ядовитый плющ», – смеялась сестра, тоже, кстати, далеко не ангел: острый язычок переняла от маман, плюс к этому добавился сварливый характер, вечные ко всем претензии, капризность и мнительность. Избалованная, она с трудом примирялась с действительностью. Тем самым, конечно, усложняя свою женскую судьбу.
В тот день, когда он привел домой Зою, объявив ее своей невестой, домашние уже заранее были «в настрое». Хихикали и шипели: «Ну можем себе представить, кого он приведет!»
А его тихая Зоя покорила их сразу – через какие-то полчаса они сидели друг напротив друга, увлеченные обычной женской трепотней, и, кажется, смотрели на нее почти с нежностью и любовью.
Первые три года жили у него, в квартире его родителей. Прекрасная, надо сказать, была квартира. Ах, как жалко было оттуда съезжать! Но он понимал: его молодой жене все дается не так-то легко. Да и хозяйкой побыть хочется – женщина.
И эти три года совместного проживания не были омрачены ни одним скандалом, ни одной взаимной обидой. Квартира на «Динамо». Туда, на «Динамо», его, трехлетнего Шурку Краснова, привезли из коммуналки на Цветном, у старого цирка. Он помнил огромные жестяные тазы в темной ванной с облупленной плиткой, кухонный чад, капустный кислый запах, к которому примешивались запахи подгорелой каши и молока. В Первомай накрывали на общей кухне стол – точнее, сдвинутые столы, уставляли их разновеликими шаткими мисками и мисочками со всяческой снедью – от каждой хозяйки по способностям. Помнил пирожки с вязким и темным повидлом, липнувшим к зубам, их пекла, точнее, жарила в масле на огромной чугунной сковороде Паша-хромоножка. Глухонемая и добрая Паша, потерявшая в войну трех сыновей.
Помнил он и Риву Исааковну, фронтового хирурга, вдову, потерявшую на войне глаз, – затянутую в серый потертый халат, с клочковатой седой стрижкой, с вечной папироской в прокуренных и желтых зубах, сухую, с жилистыми, мужскими руками необычайной силы. Именно Рива открывала самые неоткрываемые банки и пробки, когда не справлялись мужчины. На кухне она бывала коротко – сварит овсянку, и к себе. К ней ходил полюбовник, как говорили старухи, еще фронтовой – полковник, симпатичный, довольно моложавый, семейный. Квартира удивлялась, что он ходит к Риве. К Риве-старухе. А Риве было тогда лет сорок пять.
Еще были Галушки – симпатичные, пухлые и одинаковые Галушки – мать, отец и три дочери, Ганка, Оленка и Сонька. В младшую, Соньку, он был влюблен еще с тех пор, когда они на пару сидели рядом на горшках в коридоре.
Галушки варили борщ – и ничего другого. Старый борщ кончался и начинался новый. «Та другогу и не едять! – смеялась Галушка-мать. – Жруть три разу на дню, борьщ, борьщ, борьщ! Ну и еще сало!»
Сало Галушка солила сама: приносила кусок жирной свинины, натирала солью и перцем, тыкала в мякоть, как семечки, острые дольки чеснока, заворачивала в чистую тряпицу и засовывала между рамами – доходить.
Иногда сало воровали. Галушка принималась горько плакать: «Зачем же воровати? Я шо, и так не дала б? Да шо у вас народ за такой, у вашей Москве?»
Галушек «пригнали» из Полтавы, где «все у них було» – «коровка, бычок, порося и хорошая белая хатка». А речка какая! Синяя вода, прозрачная – пили из нее! Солнышко доброе, люди добрые. А какие сады! Вишня цветет – как невеста! Поля, огород и простор – вольница! Мужа Галушку повысили «через партию», по словам его жены. Но кажется, это их радовало мало. «Тута, – Галушка принималась плакать, – тута у вас мрак и темно».
Свою комнату он помнил плохо – темные обои и вечное недовольство матери: «переклеить, переклеить!» А отец отнекивался: «Скоро дадут квартиру, Вера! К чему здесь разводить?» Мать раздражалась и, кажется, мужу не верила.
Мария Метлицкая
За чужими окнами
«…Продавщица Зинаида из близлежащего гастронома – стерва такая, что терялись и генералы, и ее коллеги-продавцы – с такими же соломенными «халами» на головах и красными перстнями на огромных руках. Он всегда этому удивлялся. Зинаида эта была дьяволом, всемирным злом: хамка, истеричка и, безусловно, воровка. Причем воровка наглая, циничная, не боящаяся ничего и никого. А вот с его женой, улыбчивой и уступчивой, она замолкала. Останавливалась в секунду, вмиг, едва заметив Зою возле прилавка.
Пыталась даже улыбнуться. Улыбка, конечно, скорее напоминала крокодилий оскал, но она улыбалась! Кивала и улыбалась…»
Мария Метлицкая
Прощальная гастроль
Зоя ушла в понедельник рано утром, едва забрезжил рассвет. Апрельский день обещал быть теплым – уже в семь утра загорелось по-летнему яркое солнце и осветило комнату. Теперь ее комнату – раньше, до ее болезни, эта комната была их общей спальней. Семейной спальней – почти тридцать пять лет.
Когда Зоя окончательно слегла, Александр переехал в комнату сына, которую по привычке все еще называли «детская».
Переехать туда, в детскую, его попросила она.
Согласился он сразу и, кажется, с облегчением – совместные ночи были уже тягостны и безнравственны, что ли… Он не спал, она мучилась. Зачем? К тому же человеком Зоя была рациональным, без всяких лирических глупостей и обид – другая бы точно обиделась: сбежал от больной жены.
Но – не она. Конечно, он теперь высыпался. Это было необходимо – предстоял обычный долгий и трудный день. И еще много долгих и трудных дней, похожих друг на друга, как бусинки одного размера, плотно посаженные на нитку.
Спустя три года в голове, как короткая молния, вспыхивала фраза, которой он невыносимо стыдился. Казалось бы, что было такого необычного в ней, в этой фразе? Обычная фраза, житейское дело: «Когда-нибудь кончается все».
Кошмарная фраза, ужасная фраза. Невыносимая в своей правдивости и определенности. А в их случае – особенно. В случае, когда медленно, по миллиграмму, по миллиметру, по секунде уходит дорогой тебе человек. Кончается, иссыхает, словно из него испаряется жизнь.
Оправдывал себя тем, что Зоя отмучается. Да-да, именно она! При чем тут он? Он-то сладит, привыкнет. Честно говоря, к этой мысли он уже приноровился.
Но, положа руку на сердце, он и сам чувствовал, как и из него уходят жизненные силы, словно пересыхает от густого и долгого зноя земля. Он тоже слабел. Усталость, возраст.
Но разве сравнишь? Ему, по крайней мере, было не больно.
Странно, думал он. Его жена всю жизнь была легким человеком. Наилегчайшим просто. Зоя ладила со всеми, он и припомнить не мог даже какой-нибудь мелкий бытовой конфликт. Даже с его родней – матерью и сестрицей – ухитрялась поддерживать дипломатические отношения. А уж характеры там были… Не приведи боже.
Однажды он слышал, как сестрица ехидно и едко сказала матери:
– А ты личной жизнью сына и невестки займись, поучаствуй! Им поуказывай, с ними поспорь! Оставь меня наконец в покое! Или хотя бы дай передохнуть!
Ответ матери его удивил еще больше, чем гневная и, наверное, справедливая речь сестры.
– А с ними неинтересно! – засмеялась мать. – Шурка вообще неконфликтный. А Зоя такая пресная и спокойная. О чем с ней спорить, к чему прицепиться?
Это, конечно, была шутка, матери вполне хватало участия в жизни дочери. Тем более что жизнь эта была бурная, непростая и действительно неудачливая. А у невестки и сына – размеренная и спокойная. Обычная счастливая семейная жизнь – ничего интересного.
Но Александр удивился и подумал, что это чистая правда! С его женой не то что поругаться было сложно – невозможно было даже поспорить.
Зоя не поддавалась на провокации, которые он, пребывая в плохом настроении, ей иногда устраивал.
«Удивительно легкий характер, – в очередной раз думал он. – Как же мне повезло».
И самое главное – Зоя ни разу не пожаловалась ему на его родню. А ведь могла бы! Ох, сколько бы женщин на ее месте сладостно бы копили, взращивали, удобряли и окучивали эти обиды! Но – не она, его Зоя. Он удивлялся этому, восхищался и был безгранично ей за это благодарен. Все ее любили – соседи, коллеги, случайные знакомцы на курортах, женщины, рожавшие с ней «сто лет назад», тетеньки, лежавшие с ней в больницах.
Продавщица Зинаида из близлежащего гастронома – стерва такая, что терялись и генералы, и ее коллеги-продавцы – с такими же соломенными «халами» на головах и красными перстнями на огромных руках. Он всегда этому удивлялся. Зинаида эта была дьяволом, всемирным злом: хамка, истеричка и, безусловно, воровка. Причем воровка наглая, циничная, не боящаяся ничего и никого. А вот с его женой, улыбчивой и уступчивой, она замолкала. Останавливалась в секунду, вмиг, едва заметив Зою возле прилавка.
Пыталась даже улыбнуться. Улыбка, конечно, скорее напоминала крокодилий оскал, но она улыбалась! Кивала и улыбалась:
– Ой, Зоечка Иванна, вы!
Радовалась ей, как первой любви. Очередь замирала.
А «Зоечка Иванна», ласково улыбнувшись, интересовалась делами крокодилицы: как старенькая мама, как сынок?
Очередь, громко и тревожно сглатывая слюну, с дрожью в ногах наблюдала за этой сценой. Не дай бог, что-нибудь пропустить! Вот, например, когда Зинка выльет черпак сметаны на голову этой смелой Зоечке Иванне.
И никто и не замечал, что за этим душевным разговором крокодилица Зинка ловко заворачивала в хрустящий пергамент постную ветчину, серединку, не «попку», «Любительской», кусок «Швейцарского» – тонкая восковая корочка с одной стороны, а не с трех. И, воровато оглянувшись и наклонившись под прилавок, двигала ногой бидон со сметаной «для своих» – то есть не разбавленной молоком или, того хуже, водой.
Зоя Иванна благодарила крокодилицу и желала «всего самого-самого! Главное – здоровье, Зиночка! А все остальное – приложится!».
Зина молча кивала и, как завороженная, провожала «подругу» немигающими крокодильими глазами. Очередь молча следила за обеими. Наконец Зина приходила в себя, начинала злобно вращать глазами и открывала ярко-малиновый рот, полный золотых зубов. Очередь привычно вздрагивала и готовилась к бою. Начиналась нормальная жизнь.
* * *
Улыбка у Зои была замечательной – открытой, широкой, бесхитростной, доброжелательной, белоснежной. Когда она улыбалась, на щеках у нее появлялись очаровательные ямочки. От Зоиной улыбки, кстати, немного робкой и беззащитной, люди терялись, теплели, добрели, смущались и радовались. «Сильное оружие», – смеялся он.
Александр тоже очень любил эту улыбку, которая отражала всю Зоину суть – человеком она была милым, спокойным, доброжелательным и совершенно бесконфликтным. Не жена, а подарок небес. Дорогой подарок, он это отлично понимал. А уж когда оглядывался по сторонам… Эх, думал, бедные мужики! И как они справляются со своими Зинаидами и прочими крокодилами?
Мать его была человеком резким – всю жизнь считала себя правдолюбкой и очень этим гордилась. А кому нужна была ее правда, собственно говоря? Люди не хотят знать о себе правду, да и об окружающих зачастую тоже. А мать лепила правду-матку в глаза. Недобрый был у нее язык, ядовитый. «Ядовитый плющ», – смеялась сестра, тоже, кстати, далеко не ангел: острый язычок переняла от маман, плюс к этому добавился сварливый характер, вечные ко всем претензии, капризность и мнительность. Избалованная, она с трудом примирялась с действительностью. Тем самым, конечно, усложняя свою женскую судьбу.
В тот день, когда он привел домой Зою, объявив ее своей невестой, домашние уже заранее были «в настрое». Хихикали и шипели: «Ну можем себе представить, кого он приведет!»
А его тихая Зоя покорила их сразу – через какие-то полчаса они сидели друг напротив друга, увлеченные обычной женской трепотней, и, кажется, смотрели на нее почти с нежностью и любовью.
Первые три года жили у него, в квартире его родителей. Прекрасная, надо сказать, была квартира. Ах, как жалко было оттуда съезжать! Но он понимал: его молодой жене все дается не так-то легко. Да и хозяйкой побыть хочется – женщина.
И эти три года совместного проживания не были омрачены ни одним скандалом, ни одной взаимной обидой. Квартира на «Динамо». Туда, на «Динамо», его, трехлетнего Шурку Краснова, привезли из коммуналки на Цветном, у старого цирка. Он помнил огромные жестяные тазы в темной ванной с облупленной плиткой, кухонный чад, капустный кислый запах, к которому примешивались запахи подгорелой каши и молока. В Первомай накрывали на общей кухне стол – точнее, сдвинутые столы, уставляли их разновеликими шаткими мисками и мисочками со всяческой снедью – от каждой хозяйки по способностям. Помнил пирожки с вязким и темным повидлом, липнувшим к зубам, их пекла, точнее, жарила в масле на огромной чугунной сковороде Паша-хромоножка. Глухонемая и добрая Паша, потерявшая в войну трех сыновей.
Помнил он и Риву Исааковну, фронтового хирурга, вдову, потерявшую на войне глаз, – затянутую в серый потертый халат, с клочковатой седой стрижкой, с вечной папироской в прокуренных и желтых зубах, сухую, с жилистыми, мужскими руками необычайной силы. Именно Рива открывала самые неоткрываемые банки и пробки, когда не справлялись мужчины. На кухне она бывала коротко – сварит овсянку, и к себе. К ней ходил полюбовник, как говорили старухи, еще фронтовой – полковник, симпатичный, довольно моложавый, семейный. Квартира удивлялась, что он ходит к Риве. К Риве-старухе. А Риве было тогда лет сорок пять.
Еще были Галушки – симпатичные, пухлые и одинаковые Галушки – мать, отец и три дочери, Ганка, Оленка и Сонька. В младшую, Соньку, он был влюблен еще с тех пор, когда они на пару сидели рядом на горшках в коридоре.
Галушки варили борщ – и ничего другого. Старый борщ кончался и начинался новый. «Та другогу и не едять! – смеялась Галушка-мать. – Жруть три разу на дню, борьщ, борьщ, борьщ! Ну и еще сало!»
Сало Галушка солила сама: приносила кусок жирной свинины, натирала солью и перцем, тыкала в мякоть, как семечки, острые дольки чеснока, заворачивала в чистую тряпицу и засовывала между рамами – доходить.
Иногда сало воровали. Галушка принималась горько плакать: «Зачем же воровати? Я шо, и так не дала б? Да шо у вас народ за такой, у вашей Москве?»
Галушек «пригнали» из Полтавы, где «все у них було» – «коровка, бычок, порося и хорошая белая хатка». А речка какая! Синяя вода, прозрачная – пили из нее! Солнышко доброе, люди добрые. А какие сады! Вишня цветет – как невеста! Поля, огород и простор – вольница! Мужа Галушку повысили «через партию», по словам его жены. Но кажется, это их радовало мало. «Тута, – Галушка принималась плакать, – тута у вас мрак и темно».
Свою комнату он помнил плохо – темные обои и вечное недовольство матери: «переклеить, переклеить!» А отец отнекивался: «Скоро дадут квартиру, Вера! К чему здесь разводить?» Мать раздражалась и, кажется, мужу не верила.