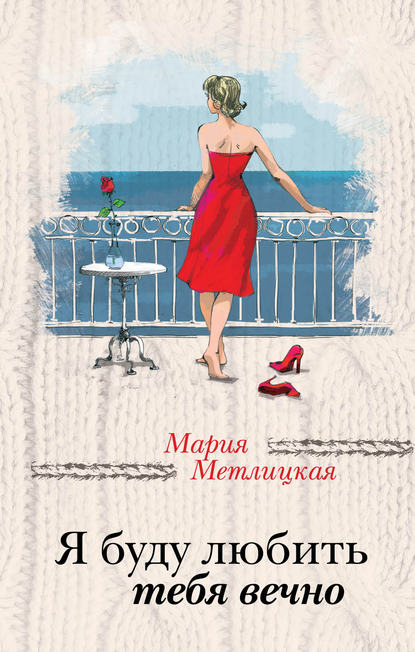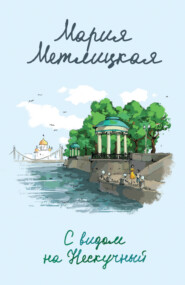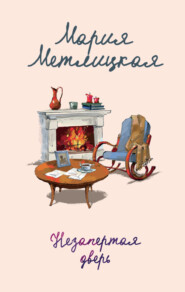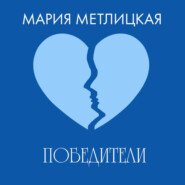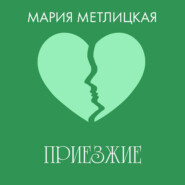По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я буду любить тебя вечно (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На ужин обычно была каша – перловая или пшенная. Или картошка. После зарплаты – с куском колбасы или рыбы. Рыба воняла, от жирной колбасы болел живот. Иногда «подавались» макароны – серые, клейкие. Но – посыпанные сахаром. Их Милочка ела. Отодвинув тарелку с недоеденной кашей, она резко вставала со стула.
– Не нравится, барышня? – Бабка Нюра сверлила ее злобным взглядом. – Ишь, королева!
– Оставь ее, – коротко бросала мать. – Не хочет, да бог с ней! Проголодается – холодное съест.
Но Милочка не ела – на десять копеек покупала себе булочку с маком. Запивала газировкой из автомата. Да пропадите вы пропадом с вашими кашами!
Пенсию свою бабка Нюра копила, не отдавала. Оплачивала только «квартирные»: «Я у вас тут не за просто так – я на законных!» Но мать молчала – тетка и стирала, и гладила, и толкалась в очередях за продуктами. И как-никак, а готовила. Называла она Милочку Люськой. Так и орала в окно: «Люська, ты где?» Милочка злилась. Имя «Люська» казалось ей простым, каким-то шалавистым – что это за Люська? То ли дело Милочка! Настаивала на Милочке, а вредная бабка смеялась: «Милочка? Да так в деревне коров кличут! Выдумала чего – Милочка!»
А однажды… Стерва эта старая навсегда перечеркнула светлые Милочкины мечты – недобро усмехнувшись и глядя ей в глаза, вдруг выдала:
– Папашу своего ждешь?
Милочка затаила дыхание.
– А ты не жди, девка! Сгинул твой папаша – тю-тю! В тюрьме подох. Собаке – собачья смерть!
– В тюрьме? – глухо спросила Милочка. – В какой тюрьме, баба Нюра?
– В какой, какой? В обныкновенной! Куда людей содят! Нет, не людей – убийц и воров! Вот и папаша твой – убийца!
– Почему? – еще тише спросила Милочка. – Почему он убийца?
– А я почем знаю? – разозлилась Нюра. – Брата своего укокошил! Вот и сел, сволочь такая!
Милочка медленно встала из-за стола и вышла из комнаты.
Бабку Нюру она теперь ненавидела.
И самым страшным было то, что в тот день навсегда рухнули светлые Милочкины мечты. Мечты о том, что отец, папа, папочка, заберет ее из этого ада и пригласит, поведет в новую счастливую жизнь.
Нюра умерла, когда Милочке было двенадцать. Мать горевала: во-первых – единственная и последняя родня, а во-вторых – помощница. У самой сил ни на что не было – камволка забирала все.
Но задышалось им с Милочкой после этого легче. Нюрины накопления нашлись через полгода, когда наконец собрались выкидывать старую кровать. Нычку увидела Милочка – грубый шов на обратной стороне матраса.
Вспороли легко – а там… Куча денег! Красная от возбуждения мать в который раз пересчитывала потертые купюры и не верила своему счастью: «Дочь, а мы ж теперь богачи!»
И принималась мечтать:
– Купим кровать – тебе, новую! А я уж посплю на твоей! Поедем в Москву и справим пальто – мне и тебе, а? А давай холодильник? – вскрикивала мать, улегшись в постель. – А, Милунь? Надоело уж за окно! И будем как люди! А может, – мать замирала, словно боялась это произнести, – может, на море? Как думаешь, дочь?
Милочка громко вздыхала и, не отвечая, переворачивалась на другой бок. А что изменится, господи? Ну пальто. Ну холодильник. Ну даже море! И там они будут как… Нищенки. Считать копейки, отказывать себе во всем. Обедать в душной столовке теми же щами. Жить в таком же бараке.
Потом мать начинала сетовать:
– А как мы будем без Нюры? Мы же с тобой совсем ни к чему не приспособленные!
Конечно, это была полная глупость, потому что зажили они без бабки Нюры хорошо. Не просто хорошо – отлично зажили! Правда, денег им теперь всегда не хватало, то есть кончались они моментально, спустя пару дней после зарплаты. Вести хозяйство мать с Милочкой не умели. Зато теперь они покупали себе все, что хотели, – кексы с изюмом, вафельные тортики, шоколадки, мороженое, докторскую колбасу и шпроты в масле – если удавалось достать. И еще – сгущенное молоко, Милочка его обожала.
Мать приходила с работы и, растерянно улыбаясь, выкладывала из сумки все эти вкусности. Так и ужинали – шпроты с хлебом и чай с тортиком. Красота! И никто больше не ворчал, не шипел, не ругал маму и не обзывал ее бестолковой неумехой, дурочкой и транжирой.
Мать, кстати, тоже словно освободилась от вечного бабкиного ворчания и скандалов («Я тута пашу на вас, а вы?»), сбросила с плеч тяжелый груз, стала улыбаться и даже изредка что-то напевать себе под нос. Правда, когда теперь она раскрывала кошелек, то сразу расстраивалась и бледнела.
– Как же так, Милочка? – удивлялась она. – И как мы дотянем до зарплаты?
Милочка беспечно махала рукой:
– С голоду не помрем! Как-нибудь, мам!
– Как-нибудь, – повторяла та и заметно грустнела.
С голоду, разумеется, не помирали – на картошку и макароны всегда хватало. Ели пустую картошку и смеялись.
– Вот она, расплата за удовольствие! – шутила мама. – Нет, все-таки Нюра была права: я жуткая неумеха и совсем безголовая!
– А ты мне такой нравишься, мам! – отвечала Милочка.
И мать улыбалась и молодела.
Без Нюры была свобода: гуляй – не хочу! Никто не заглядывал в тетрадки с уроками, никто не зудел за плечом. Не заставлял есть перловую кашу.
В пятнадцать лет Милочка поняла, что она красавица. Как поняла? Да очень просто – на нее обращали внимание, оборачивались. Сосед Пал Васильич при ее появлении громко крякал и сильно краснел, с испугом оглядываясь на свою суровую супружницу Галю. Галя сводила брови и грозила пальцем:
– Я тебе! Старый хрен! Ишь, разохотился! – И тут же начинала смеяться. – Ну посмотри, посмотри! Чё тебе еще остается? Только глазками твоими бесстыжими и лупать! А потомушта… Сам знаешь, почему!
Пал Васильич белел и быстро скрывался за своей дверью.
– От же старая кобелина! – теперь уже грустно вздыхала Галя. – Всю жизнь ведь… Никого, сволочь, не пропускал.
Одноклассники не давали Милочке проходу – подкладывали в портфель записки, оставляли в парте шоколадки или открытки, караулили ее у школы и торчали под ее окнами.
В девятом классе она увлеклась шитьем – девчонки передавали друг другу выкройки, срисованные из «Крестьянки», «Работницы», «Силуэта». Шить у нее получалось лучше всех в классе – даже вредная учительница труда ее хвалила: «Талант у тебя, Иванова! Просто талант!»
За тканями девчонки ездили в столицу. Иногда удавалось «урвать» что-нибудь из косметики: польскую помаду, ленинградскую тушь, лак для волос. А там заодно и гуляли – парк Горького, Сокольники, ВДНХ. Ели мороженое, пили сладкую воду.
Теперь Милочка, по словам матери, «была одета» – появились платья в горох и в полоску, пышные, на подкладке юбки, блузочки в талию. А уж талия у Милочки была будь здоров – всем на зависть!
Подводила только обувь – и дорого, и не достать.
– И в кого она такая? – удивлялись соседки. – Вон, Вера-то совсем обыкновенная! – Они провожали взглядом Милочкину мать. – А Милка у нее – высший класс!
Милочка разглядывала себя в зеркале.
– Да, ничего, – скромничала она.
Но «ничего» – это было не совсем то слово, которое было уместно. Была она хороша фантастически – карие, с рыжинкой глаза, изящный и тонкий носик, пухлые губы и нежная смугловатая кожа. Густые, мягкой волной, русые волосы, тонюсенькая талия и высокая, большая, не по годам, грудь. Ну и стройные, очень стройные и красивые, длинные ноги.
Училась Милочка средне – науки были ей неинтересны – ни точные, ни гуманитарные. Читать она не любила, к музыке была равнодушна. Увлечения девчонок стихами не понимала и не разделяла, считая все это полными глупостями. Она вообще ко всему была равнодушна. Ко всему и ко всем. О чем она мечтала? Да она бы и сама сформулировала это с трудом. О любви? Да как-то… Не очень. О хорошем муже, о детях? Нет, замуж ей не хотелось, дети раздражали. А, вот! Милочка мечтала жить красиво. Безбедно, сытно, нарядно.
– Не нравится, барышня? – Бабка Нюра сверлила ее злобным взглядом. – Ишь, королева!
– Оставь ее, – коротко бросала мать. – Не хочет, да бог с ней! Проголодается – холодное съест.
Но Милочка не ела – на десять копеек покупала себе булочку с маком. Запивала газировкой из автомата. Да пропадите вы пропадом с вашими кашами!
Пенсию свою бабка Нюра копила, не отдавала. Оплачивала только «квартирные»: «Я у вас тут не за просто так – я на законных!» Но мать молчала – тетка и стирала, и гладила, и толкалась в очередях за продуктами. И как-никак, а готовила. Называла она Милочку Люськой. Так и орала в окно: «Люська, ты где?» Милочка злилась. Имя «Люська» казалось ей простым, каким-то шалавистым – что это за Люська? То ли дело Милочка! Настаивала на Милочке, а вредная бабка смеялась: «Милочка? Да так в деревне коров кличут! Выдумала чего – Милочка!»
А однажды… Стерва эта старая навсегда перечеркнула светлые Милочкины мечты – недобро усмехнувшись и глядя ей в глаза, вдруг выдала:
– Папашу своего ждешь?
Милочка затаила дыхание.
– А ты не жди, девка! Сгинул твой папаша – тю-тю! В тюрьме подох. Собаке – собачья смерть!
– В тюрьме? – глухо спросила Милочка. – В какой тюрьме, баба Нюра?
– В какой, какой? В обныкновенной! Куда людей содят! Нет, не людей – убийц и воров! Вот и папаша твой – убийца!
– Почему? – еще тише спросила Милочка. – Почему он убийца?
– А я почем знаю? – разозлилась Нюра. – Брата своего укокошил! Вот и сел, сволочь такая!
Милочка медленно встала из-за стола и вышла из комнаты.
Бабку Нюру она теперь ненавидела.
И самым страшным было то, что в тот день навсегда рухнули светлые Милочкины мечты. Мечты о том, что отец, папа, папочка, заберет ее из этого ада и пригласит, поведет в новую счастливую жизнь.
Нюра умерла, когда Милочке было двенадцать. Мать горевала: во-первых – единственная и последняя родня, а во-вторых – помощница. У самой сил ни на что не было – камволка забирала все.
Но задышалось им с Милочкой после этого легче. Нюрины накопления нашлись через полгода, когда наконец собрались выкидывать старую кровать. Нычку увидела Милочка – грубый шов на обратной стороне матраса.
Вспороли легко – а там… Куча денег! Красная от возбуждения мать в который раз пересчитывала потертые купюры и не верила своему счастью: «Дочь, а мы ж теперь богачи!»
И принималась мечтать:
– Купим кровать – тебе, новую! А я уж посплю на твоей! Поедем в Москву и справим пальто – мне и тебе, а? А давай холодильник? – вскрикивала мать, улегшись в постель. – А, Милунь? Надоело уж за окно! И будем как люди! А может, – мать замирала, словно боялась это произнести, – может, на море? Как думаешь, дочь?
Милочка громко вздыхала и, не отвечая, переворачивалась на другой бок. А что изменится, господи? Ну пальто. Ну холодильник. Ну даже море! И там они будут как… Нищенки. Считать копейки, отказывать себе во всем. Обедать в душной столовке теми же щами. Жить в таком же бараке.
Потом мать начинала сетовать:
– А как мы будем без Нюры? Мы же с тобой совсем ни к чему не приспособленные!
Конечно, это была полная глупость, потому что зажили они без бабки Нюры хорошо. Не просто хорошо – отлично зажили! Правда, денег им теперь всегда не хватало, то есть кончались они моментально, спустя пару дней после зарплаты. Вести хозяйство мать с Милочкой не умели. Зато теперь они покупали себе все, что хотели, – кексы с изюмом, вафельные тортики, шоколадки, мороженое, докторскую колбасу и шпроты в масле – если удавалось достать. И еще – сгущенное молоко, Милочка его обожала.
Мать приходила с работы и, растерянно улыбаясь, выкладывала из сумки все эти вкусности. Так и ужинали – шпроты с хлебом и чай с тортиком. Красота! И никто больше не ворчал, не шипел, не ругал маму и не обзывал ее бестолковой неумехой, дурочкой и транжирой.
Мать, кстати, тоже словно освободилась от вечного бабкиного ворчания и скандалов («Я тута пашу на вас, а вы?»), сбросила с плеч тяжелый груз, стала улыбаться и даже изредка что-то напевать себе под нос. Правда, когда теперь она раскрывала кошелек, то сразу расстраивалась и бледнела.
– Как же так, Милочка? – удивлялась она. – И как мы дотянем до зарплаты?
Милочка беспечно махала рукой:
– С голоду не помрем! Как-нибудь, мам!
– Как-нибудь, – повторяла та и заметно грустнела.
С голоду, разумеется, не помирали – на картошку и макароны всегда хватало. Ели пустую картошку и смеялись.
– Вот она, расплата за удовольствие! – шутила мама. – Нет, все-таки Нюра была права: я жуткая неумеха и совсем безголовая!
– А ты мне такой нравишься, мам! – отвечала Милочка.
И мать улыбалась и молодела.
Без Нюры была свобода: гуляй – не хочу! Никто не заглядывал в тетрадки с уроками, никто не зудел за плечом. Не заставлял есть перловую кашу.
В пятнадцать лет Милочка поняла, что она красавица. Как поняла? Да очень просто – на нее обращали внимание, оборачивались. Сосед Пал Васильич при ее появлении громко крякал и сильно краснел, с испугом оглядываясь на свою суровую супружницу Галю. Галя сводила брови и грозила пальцем:
– Я тебе! Старый хрен! Ишь, разохотился! – И тут же начинала смеяться. – Ну посмотри, посмотри! Чё тебе еще остается? Только глазками твоими бесстыжими и лупать! А потомушта… Сам знаешь, почему!
Пал Васильич белел и быстро скрывался за своей дверью.
– От же старая кобелина! – теперь уже грустно вздыхала Галя. – Всю жизнь ведь… Никого, сволочь, не пропускал.
Одноклассники не давали Милочке проходу – подкладывали в портфель записки, оставляли в парте шоколадки или открытки, караулили ее у школы и торчали под ее окнами.
В девятом классе она увлеклась шитьем – девчонки передавали друг другу выкройки, срисованные из «Крестьянки», «Работницы», «Силуэта». Шить у нее получалось лучше всех в классе – даже вредная учительница труда ее хвалила: «Талант у тебя, Иванова! Просто талант!»
За тканями девчонки ездили в столицу. Иногда удавалось «урвать» что-нибудь из косметики: польскую помаду, ленинградскую тушь, лак для волос. А там заодно и гуляли – парк Горького, Сокольники, ВДНХ. Ели мороженое, пили сладкую воду.
Теперь Милочка, по словам матери, «была одета» – появились платья в горох и в полоску, пышные, на подкладке юбки, блузочки в талию. А уж талия у Милочки была будь здоров – всем на зависть!
Подводила только обувь – и дорого, и не достать.
– И в кого она такая? – удивлялись соседки. – Вон, Вера-то совсем обыкновенная! – Они провожали взглядом Милочкину мать. – А Милка у нее – высший класс!
Милочка разглядывала себя в зеркале.
– Да, ничего, – скромничала она.
Но «ничего» – это было не совсем то слово, которое было уместно. Была она хороша фантастически – карие, с рыжинкой глаза, изящный и тонкий носик, пухлые губы и нежная смугловатая кожа. Густые, мягкой волной, русые волосы, тонюсенькая талия и высокая, большая, не по годам, грудь. Ну и стройные, очень стройные и красивые, длинные ноги.
Училась Милочка средне – науки были ей неинтересны – ни точные, ни гуманитарные. Читать она не любила, к музыке была равнодушна. Увлечения девчонок стихами не понимала и не разделяла, считая все это полными глупостями. Она вообще ко всему была равнодушна. Ко всему и ко всем. О чем она мечтала? Да она бы и сама сформулировала это с трудом. О любви? Да как-то… Не очень. О хорошем муже, о детях? Нет, замуж ей не хотелось, дети раздражали. А, вот! Милочка мечтала жить красиво. Безбедно, сытно, нарядно.