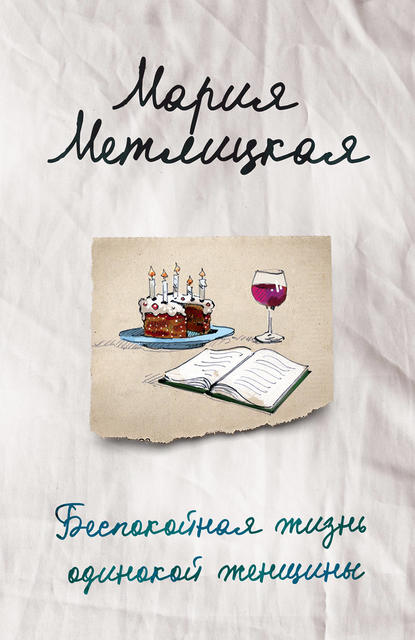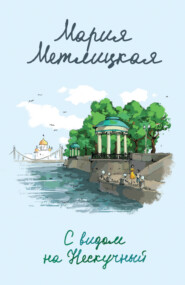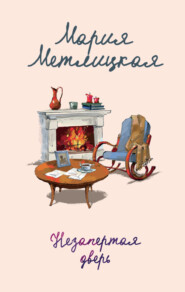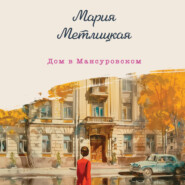По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Беспокойная жизнь одинокой женщины (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну и мудохайся дальше. Каждый выбирает по себе, – многозначительно добавляю я.
Имея в виду, конечно, себя, прекрасную. Он ловит этот мячик и, притворно горестно вздыхая, говорит:
– Таких, как ты, больше нет. Что же мне теперь делать?
После этих слов я, естественно, смягчаюсь и начинаю давать умные советы. По крайней мере, мне кажется, что умные. Ему вроде бы тоже – он ведь вполне доволен. Бывший муж интересуется здоровьем своего преемника.
– Тебе интересно – сам позвони. Это же твой друг, – продолжаю острить я.
Потом он спрашивает, как дела у сына. Я его не гружу, знаю, что ему в принципе все равно. Главное, что сын здоров. Про Наташку он никогда ничего не спрашивает. Принципиально. То, что я ушла от него к другому мужику, с годами он смог пережить, а вот то, что я от этого мужика родила ребенка… Этого он пережить не может до сих пор. Смешно, ей-богу. Вид меня, беременной Наташкой, потряс его до основания. Помню его глаза тогда. Это странно, но факт.
Терпеливо объясняю бывшему мужу, как надо жить дальше. Кладу трубку и чувствую себя практически матерью Терезой. Потом вспоминаю, что надо заполнить квартирные счета. Наверное, все-таки со мной что-то не так. Что-то мне все время мешает. И больше всего то, что я не могу все это отодвинуть и наконец заняться своим главным делом. Или мне кажется, что это мое главное дело. Плохо то, что я в этом сомневаюсь.
Я беру чистый лист и долго смотрю в окно. Пейзаж захватывает дух. Во-первых, семнадцатый этаж, во-вторых, под окном березовая роща. Сейчас она графичная, черно-белая – зима. Но бывает разной – и изумрудно-свежей, и радостно-золотой, и ржавой, и печальной. В зависимости от времени года. За границей, наверное, за этот вид брали бы отдельные деньги. А тут – почти бесплатно. Все включено в квартплату. Пытаюсь сосредоточиться. Но очередной телефонный звонок сообщает мне: эй, спустись на землю! В покое мы тебя вряд ли оставим!
Я спускаюсь, не очень-то успев подняться. Мама. Соскучилась.
– Работаешь? – осторожно интересуется она.
– Поработаешь с вами! – рычу я.
Мама слегка обижается, но виду не подает. Ну ладно, пока я еще на земле, вспоминаю о том, что надо позвонить Анечке и успокоить ее. Анечка мне рада – ну, так, во всяком случае, мне кажется. Я что-то плету про генетику, про то, как все было у меня и как мой благоразумный сынок пожалел меня и повернулся перед родами головкой. Анечка внимательно слушает и, по-моему, веселеет. Что и требовалось доказать. Потом я спрашиваю, чего бы ей хотелось съесть, и она жалобно говорит, что хочет куриных котлет и клюквенного киселя. Желание беременной женщины – закон. Я чмокаю ее в трубку и достаю из морозилки куриное филе и клюкву. Какая же я все-таки запасливая, радуюсь я. Ну вот, пока это все подтает, я могу и… Как же! Разбежалась! Муж. На сей раз – действующий. Голос – патока. Ясно. Хочет жрать. И уже на подъезде к дому.
– Ну? – грозно спрашиваю я.
– Как дела, малыш?
Так, «малыш». Видно, жрать хочет очень.
– Плохо! – рявкаю я.
– Соскучилась? – Голос-интим. Как после третьего свидания, а не двадцати пяти лет совместной жизни. Черт возьми, а меня это по-прежнему волнует. Я уже почти не злюсь. Понимаю, что после такого стажа семейной жизни дела у нас не так уж плохи.
– Готов к принятию пищи? – со вздохом интересуюсь я.
– Уже у подъезда, – доверительно сообщает он. И дальше уже повелительным тоном: – Грей обед.
Властелин, блин! А кто тогда я? Я собираю свои сиротские листки и освобождаю стол. Естественно, обеденный. Другого у меня еще нет. Не по ранжиру, наверное. Я ставлю на стол винегрет, селедку и квашеную капусту с клюквой и антоновскими яблоками. Остаюсь вполне довольна натюрмортом. Все-таки обычные житейские вещи радуют меня не меньше творческих успехов. Наверное, жаль, что я не тщеславна. Грею борщ и наливаю холодный компот из мороженой вишни. Пока муж моет руки, мне звонит Аля. Аля – тоже из новых и приятных приобретений. Подружились мы с ней, гуляя с собаками. Наши вечерние прогулки – ритуал, приятный для нас обеих. С Алей мы обсуждаем политические новости, ругаем дурацкие сериалы (а сами их же и смотрим), возмущаемся по поводу бешеных цен, критикуем детей и мужей – так, слегка. Аля умная – не говорит ничего лишнего, только то, что я хочу услышать. Идеальный собеседник. И еще она – красавица: тонкая, изящная блондинка с зелеными глазами. Она так же грациозна и хрупка, как и ее собака – красавица афганская борзая. Говорят, что собаки похожи на своих хозяев – это точно про Алю. У меня, кстати, чау-чау. Почувствуйте разницу. А заодно и сделайте выводы. Еще мы с Алей слегка тоскуем по прошлой жизни, но это уже похоже на старческое брюзжание. Хотя… Я – за перемены. Но такие перемены мне тоже не по душе. Слишком много «но». С Алей мы быстро сворачиваемся – начинается священнодействие: кормление мужа. Мои ритуальные танцы вокруг плиты и стола. Муж ест и помалкивает. Вообще кормить его неинтересно – никакой душевной отдачи.
– Как суп? – подобострастно спрашиваю я.
– Горячий, – отвечает муж.
– А компот?
– Холодный.
Что ж, коротко и более чем ясно. Ей-богу, краткость – сестра хамства. Сколько лет я это слышу, а все равно обидно. Это у него, наверное, от его матери и дочери Наташки – воспринимать все как должное. Хотя, по большому счету, он мной очень гордится. Катюша говорит, что я сама виновата – тотально избаловала всех, вот и получи. Вот и получаю. Мне обидно – столько потрачено времени и труда. Я человек благодарный и хочу благодарности от других. Наверное, это неправильно. В итоге же все равно, если задуматься, все делаешь для себя. Ну, в смысле, что тебе так спокойнее и комфортнее. И все же простое человеческое спасибо еще никто не отменял. Я не обедаю вместе с мужем, знаю, что потом захочется спать – ночью я явно недобрала. Удивляюсь и завидую некоторым. Проснулись в шесть утра – и сразу писать. А я заснула в четыре. Если проснусь в шесть, то как минимум всех пошлю, а как максимум – поубиваю. Поэтому я и не обедаю, а варю себе крепкий кофе с корицей и кардамоном и опять замираю у окна. Ловлю мысль. Только поймала – пришлось отпустить, потому что позвонила Юлька, а это важнее работы. Юлька – это подруга, почти сестра. Мы вплетены друг в друга, как стебли вьюна. Если бы в быту уже существовала видеосвязь, то мы могли бы не общаться вербально, а просто смотреть друг другу в глаза. Как марсиане в старых советских фильмах. Но видеосвязи пока у нас нет, и мы с упоением говорим на родном языке. Можем час, а можем и два. Три, правда, не пробовали. Хотя, нет, наверное, бывало и три – в пору моего сумасшедшего романа с будущим вторым мужем. Тогда я мучила не только себя, но и Юльку вполне основательно. Мало не покажется. Но Юлька выдержала и это испытание. Как все и всегда – с честью. Ни разу меня не послав. Тогда она забросила и сына, и мужа, не говоря уже про кастрюли. Часами слушала мои рыдания, абсолютно наплевав на свою семейную жизнь. Слава богу, они не развелись и даже, утверждает Юлька, как тогда, у них с мужем не было давно – я простимулировала их скучную семейную интимную жизнь.
С Юлькой нам никогда не бывает скучно. Она жутко воспитанная и все время спрашивает, не мешает ли творческому процессу. Конечно же, нет, тем более что этот процесс еще и не начинался. Юлька знает обо мне все, и даже больше, чем все. Мы жалуемся друг другу на плохую погоду и, как следствие, на самочувствие (при этом смолим, не переставая), перечисляем претензии к мужьям и детям, смеемся над перлами свекровей (хотя и сами уже свекрови, и, наверное, неидеальные), вспоминаем себя молодых и здоровых и высказываем свое неудовольствие по поводу себя нынешних. В итоге мы приходим к выводу, что мы еще вполне молодухи и красавицы, обещаем друг другу не жрать по ночам и меньше курить, хотя вряд ли это выполним. Но на душе становится легче.
С Юлькой мы дружим с шестого класса – с тех пор, как я перешла в новую школу. Сначала она мне показалась очень надменной и высокомерной, и еще меня возмутили ее черные, как смоль, густо накрашенные ресницы. Впоследствии оказалось, что ресницы натуральные, просто сказочно густые и черные от природы, а Юлька не воображала, а сдержанная и одинокая. Дружить мы начали сразу и взапой – гуляли вечерами вокруг школы, поедая из картонной коробки мороженые болгарские персики. Влюблялись, прогуливали школу, обе одинаково ни черта не соображали в точных науках и вместе обожали литературу и английский. Далее росли, взрослели, закалялись в жизненной борьбе, выходили замуж, рожали детей, разводились и влюблялись опять. Хоронили близких. И всегда оставались родными людьми, даже когда стали совсем редко видеться.
Юлька уехала жить на природу. Там завела трех собак, развела сказочный цветник и стала писать дивные прозрачные акварели. Наша дружба с годами стала только прочнее, и знаю точно – ей уже ничто не грозит. Да, еще у Юльки есть удивительная и редкая способность абсолютно искренне радоваться чужим удаче и успеху. Не все так умеют. Сочувствовать проще: во-первых, когда сочувствуешь, ощущаешь себя благородным человеком, а во-вторых, собственные печали и заботы как-то меркнут и отступают. Становится легче.
Все, свернулись и с Юлькой. Совесть уже не мучит, а просто грызет. И еще ужасно хочется спать. Зеваю. Собрать мысли как-то сложновато. Нет, все-таки по первому своему призванию я точно домохозяйка. С этими утешительными мыслями брякаюсь на диван. Стыдно, но очень сладко. Закрываю глаза.
Полчаса, успокаиваю я свою совесть. Всего полчаса. Все равно после двенадцати, когда наконец все угомонятся и оставят меня в покое, начну колобродить. А сколько я успею сделать! Часов до трех-четырех утра. Это – мое время. Время, когда на другом конце Москвы уснет мой встревоженный и ответственный сын, обняв любимую беременную жену, заснет и моя неблагодарная красавица дочь на широкой груди любимого (дай бог!) мужчины, а завтра, может быть, все-таки вспомнит обо мне. Часам к двум успокоится мама, обязательно приняв снотворное, повздыхав о каждом из нас. За стеной будет мирно похрапывать самый любимый и единственный муж на свете. И я сяду и, наверное, что-нибудь напишу. И кто-то прочтет это когда-нибудь. И если не с удовольствием и интересом, то хотя бы – надеюсь – без отвращения. И ночью мне опять захочется съесть горбушку черного хлеба с куском колбасы. И дай бог, чтобы захотелось! И я опять засну, когда будет светать. И сон мой будет беспокойный и тревожный – ну, это уж как водится, потому, что я буду думать о своих близких, которых я так люблю. И дай бог, чтобы они, все вышеперечисленные, мне опять позвонили завтра, даже если расстроят меня. И пусть жалуются на жизнь и здоровье. И просят что-нибудь сварить или спечь. Это будет означать только одно: я им нужна и они меня любят. И еще то, что я жива и жизнь продолжается. Такая сложная, извилистая, жесткая, но все же восхитительная жизнь. И я в который раз пойму, что в моей жизни первично. И это не расстроит меня, а, скорее всего, обрадует. В общем, все как обычно.
Мои университеты
Моя первая свекровь, Регина Борисовна, была из актрис. Точнее – из бывших актрис. Еще точнее – из бывших актрис Театра оперетты. Тяжелый, густой и страшный замес кровей: польской, литовской и грузинской – давал о себе знать, играя затейливыми гранями. Безусловная красавица – тогда ей было лет пятьдесят, и мне она казалась красавицей бывшей, – к быту она относилась пренебрежительно. Женщины, варящие борщ, вызывали у нее презрение, брезгливость и жалость. В ней замечательно уживался грузинский темперамент, литовское спокойствие и польская расчетливость – в зависимости от ситуации.
Была Регина Борисовна высока, стройна, кареглаза и темноволоса. Естественно, мужчин в ее жизни имелось множество, и все они отличались внушительностью и значительностью – и внешне, и по положению. В общем, под стать ей самой. Все были небедны и оставляли после себя неплохую память. Свекровь с удовольствием демонстрировала знаки любви и внимания, преподнесенные ими в период их отношений.
Ее единственный сын Герман стал моим первым мужем. К сыну Регина Борисовна относилась с легким пренебрежением – уж точно не материнство она считала главным увлечением своей жизни.
Сын Герман тоже был красавец. И бездельник. И непризнанный гений – так считал он, но еще сильнее уверена в этом была я. И верила, свято верила в его счастливую звезду. Был он художником. Работать не любил, хотя, наверное, талант у него имелся. Зато любил пить, гулять и веселиться – словом, тусоваться.
Поженились мы странно и скоропалительно. Оба сильно удивились полному взаимопониманию и совпадению в интимной сфере – в молодости казалось, что это важнее всего. И верили, что на этом можно построить брак. Но что мы понимали тогда? Два двадцатилетних избалованных ребенка, которым никто не объяснил, что такое семейная жизнь. Да и стали бы мы кого-нибудь слушать тогда? Вряд ли. Влюбленные до обморока и измученные бессонными ночами, мы неумело начали строить свою семью. Вернее, это начала делать я одна. Гера в этом участия не принимал. Собственно, его жизнь фактически не изменилась. Он остался в собственной квартире, так же вставал в двенадцать дня, долго пил кофе, курил, вяло перебрехивался с мамашей и уходил в свою жизнь. Или снова ложился спать. Собственно, вариантов было два.
Я пыталась как-то прибраться, что-то приготовить и бежала в институт. Через некоторое время обнаружила, что беременна. Регина Борисовна уговаривала меня сделать аборт. Она не была злодейкой, нет, она в этом была абсолютно искренна.
– Господи! – заводила она очи к небу. – Какие дети! Вам самим еще надо жопы вытирать! С ума сошли! Один – бездельник, другая – студентка. Чистой воды безумие! – Она выпускала тонкую струю дыма, а я бежала в туалет. Блевать.
Когда родилась дочка, Герман удивился. Потом он продолжал удивляться дальше. С удвоенной силой. Дочка просила есть, с ней надо было гулять, мыть ей попу и купать ее в ванночке с чередой, в воде определенной температуры, а еще – кипятить бутылочки, бегать на молочную кухню и стирать пеленки. Он стоял над ее кроваткой, и на его лице читалось выражение священного ужаса. Конечно, мы начали ругаться. Это теперь я понимаю, что было смешно требовать от такого человека ответственности. В двадцать лет. Правда, сейчас ему пятьдесят, и он остался таким же, как в юности. Трудности его пугают, проблемы выводят из себя, заботы настораживают.
Но тогда я, замученная, тощая и бледная, пыталась приобщить его к процессу. Свекровь пожалела меня (или нас?) – отнесла в антикварный браслет и наняла няню. Мне стало чуть легче, но на отношения с мужем это благотворно не повлияло. Бурная интимная жизнь, так привлекавшая нас, отпала сама собой, как болячка, – была и нет. Без следа. А больше ничего, как оказалось, нас не связывало. Не считая дочки. Герман пропадал где-то с утра до поздней ночи. Няня помогала с ребенком, а свекровь учила меня жить.
– Посмотри на себя. – Регина Борисовна брала меня за плечо и подводила к старинному мутноватому зеркалу в тяжелой золоченой раме. – Даже такой дурак, как Герман, от тебя сбежал.
Видимо, она была права. Я была похожа на призрак замка Морисвиль. Бледная, зачуханная, с хвостом на затылке, в старом, выцветшем халате. Зрелище не для слабонервных. Рядом со мной в зеркале отражалась прекрасная стройная дама с прической, макияжем и маникюром. В фиолетовом пеньюаре и с кольцами на пальцах. Несмотря на мой юный возраст, счет был явно не в мою пользу.
– Что вы хотите? – возмущалась я. – У меня грудной ребенок, сессия, уборка, обед, магазины!
– Наплевать, – отрезала свекровь, – пока ты не полюбишь себя, тебя не полюбит никто. Бог с ним, с Геркой. Он тебе не нужен. Но ты должна сделать себя и свою жизнь.
Свекровь вызвала на дом свою маникюршу, отвела меня на Калининский в «Чародейку», у своей подружки – спекулянтки Марго – купила мне французское платье-чехол, лодочки на шпильке, белый плащ и красные лаковые сапоги. Дома она вытащила из шкафа шелковый халат лимонного цвета. Мои старые клетчатые тапки, ковбойки и джинсы полетели в помойку. Свекровь предложила мне быть красавицей, только получалось у меня плоховато. Дочка срыгивала на шелковый халат, белый плащ в автобусе автоматически превращался в серый за два дня, лаковые сапоги не выдерживали глубину луж у метро и мгновенно промокали, а маникюр испарился на второй день – я стирала ползунки и пеленки. Но все-таки я старалась. И даже если у меня все пока получалось неважно, выводы сделать ума хватало.
Дочку Марину свекровь полюбила – ну, так, как умела. Называла она ее Маритой. Так к ней и приклеилось – она и до сегодняшнего дня для всех близких и друзей Марита. Нянчить внучку Регина Борисовна не помогала, да я и не обижалась. Свекровь объясняла, что младенцы ей непонятны и неинтересны. А вот подрастет – она ее всему научит!
«Всему, пожалуй, не стоит», – возражала я про себя.
Поучала, кстати, она ее со страстью. Моя дочь оказалась способнее меня – бабкины гены.
От Германа я ушла, когда дочке было три года. Думаю, он это даже не очень-то и заметил. Хотя, нет, наверное, в квартире все же стало тише. Он продолжал жить своей веселой жизнью. Мы с ним остались друзьями. Женился он, по-моему, еще раз пять. Последний раз вполне удачно – на француженке, старше его лет на пятнадцать. Она и вывезла его во Францию и даже продала какие-то его работы. Моя дочь съездила к отцу в Париж, он подарил ей свою картину, мы посмеялись и повесили картину на даче. Его жена Сесиль отдала Марите свою старую сумку от «Гермес» – в ней мы хранили документы и бумаги. Также Марите перепала старая норковая шуба, доставшаяся Сесиль от богемной матушки. Шуба эта повидала на свете многое, местами она была вытерта до кожи, да и та кожа была отполирована временем до блеска. Словом, раритет и антиквариат – единственный в нашем с Маритой доме. Из спинки многострадального манто мы вырезали наиболее сохранный кусок, и из него получился чудный коврик для нашего кота Бенвенутто.
Свекровь дожила до глубокой старости.
Имея в виду, конечно, себя, прекрасную. Он ловит этот мячик и, притворно горестно вздыхая, говорит:
– Таких, как ты, больше нет. Что же мне теперь делать?
После этих слов я, естественно, смягчаюсь и начинаю давать умные советы. По крайней мере, мне кажется, что умные. Ему вроде бы тоже – он ведь вполне доволен. Бывший муж интересуется здоровьем своего преемника.
– Тебе интересно – сам позвони. Это же твой друг, – продолжаю острить я.
Потом он спрашивает, как дела у сына. Я его не гружу, знаю, что ему в принципе все равно. Главное, что сын здоров. Про Наташку он никогда ничего не спрашивает. Принципиально. То, что я ушла от него к другому мужику, с годами он смог пережить, а вот то, что я от этого мужика родила ребенка… Этого он пережить не может до сих пор. Смешно, ей-богу. Вид меня, беременной Наташкой, потряс его до основания. Помню его глаза тогда. Это странно, но факт.
Терпеливо объясняю бывшему мужу, как надо жить дальше. Кладу трубку и чувствую себя практически матерью Терезой. Потом вспоминаю, что надо заполнить квартирные счета. Наверное, все-таки со мной что-то не так. Что-то мне все время мешает. И больше всего то, что я не могу все это отодвинуть и наконец заняться своим главным делом. Или мне кажется, что это мое главное дело. Плохо то, что я в этом сомневаюсь.
Я беру чистый лист и долго смотрю в окно. Пейзаж захватывает дух. Во-первых, семнадцатый этаж, во-вторых, под окном березовая роща. Сейчас она графичная, черно-белая – зима. Но бывает разной – и изумрудно-свежей, и радостно-золотой, и ржавой, и печальной. В зависимости от времени года. За границей, наверное, за этот вид брали бы отдельные деньги. А тут – почти бесплатно. Все включено в квартплату. Пытаюсь сосредоточиться. Но очередной телефонный звонок сообщает мне: эй, спустись на землю! В покое мы тебя вряд ли оставим!
Я спускаюсь, не очень-то успев подняться. Мама. Соскучилась.
– Работаешь? – осторожно интересуется она.
– Поработаешь с вами! – рычу я.
Мама слегка обижается, но виду не подает. Ну ладно, пока я еще на земле, вспоминаю о том, что надо позвонить Анечке и успокоить ее. Анечка мне рада – ну, так, во всяком случае, мне кажется. Я что-то плету про генетику, про то, как все было у меня и как мой благоразумный сынок пожалел меня и повернулся перед родами головкой. Анечка внимательно слушает и, по-моему, веселеет. Что и требовалось доказать. Потом я спрашиваю, чего бы ей хотелось съесть, и она жалобно говорит, что хочет куриных котлет и клюквенного киселя. Желание беременной женщины – закон. Я чмокаю ее в трубку и достаю из морозилки куриное филе и клюкву. Какая же я все-таки запасливая, радуюсь я. Ну вот, пока это все подтает, я могу и… Как же! Разбежалась! Муж. На сей раз – действующий. Голос – патока. Ясно. Хочет жрать. И уже на подъезде к дому.
– Ну? – грозно спрашиваю я.
– Как дела, малыш?
Так, «малыш». Видно, жрать хочет очень.
– Плохо! – рявкаю я.
– Соскучилась? – Голос-интим. Как после третьего свидания, а не двадцати пяти лет совместной жизни. Черт возьми, а меня это по-прежнему волнует. Я уже почти не злюсь. Понимаю, что после такого стажа семейной жизни дела у нас не так уж плохи.
– Готов к принятию пищи? – со вздохом интересуюсь я.
– Уже у подъезда, – доверительно сообщает он. И дальше уже повелительным тоном: – Грей обед.
Властелин, блин! А кто тогда я? Я собираю свои сиротские листки и освобождаю стол. Естественно, обеденный. Другого у меня еще нет. Не по ранжиру, наверное. Я ставлю на стол винегрет, селедку и квашеную капусту с клюквой и антоновскими яблоками. Остаюсь вполне довольна натюрмортом. Все-таки обычные житейские вещи радуют меня не меньше творческих успехов. Наверное, жаль, что я не тщеславна. Грею борщ и наливаю холодный компот из мороженой вишни. Пока муж моет руки, мне звонит Аля. Аля – тоже из новых и приятных приобретений. Подружились мы с ней, гуляя с собаками. Наши вечерние прогулки – ритуал, приятный для нас обеих. С Алей мы обсуждаем политические новости, ругаем дурацкие сериалы (а сами их же и смотрим), возмущаемся по поводу бешеных цен, критикуем детей и мужей – так, слегка. Аля умная – не говорит ничего лишнего, только то, что я хочу услышать. Идеальный собеседник. И еще она – красавица: тонкая, изящная блондинка с зелеными глазами. Она так же грациозна и хрупка, как и ее собака – красавица афганская борзая. Говорят, что собаки похожи на своих хозяев – это точно про Алю. У меня, кстати, чау-чау. Почувствуйте разницу. А заодно и сделайте выводы. Еще мы с Алей слегка тоскуем по прошлой жизни, но это уже похоже на старческое брюзжание. Хотя… Я – за перемены. Но такие перемены мне тоже не по душе. Слишком много «но». С Алей мы быстро сворачиваемся – начинается священнодействие: кормление мужа. Мои ритуальные танцы вокруг плиты и стола. Муж ест и помалкивает. Вообще кормить его неинтересно – никакой душевной отдачи.
– Как суп? – подобострастно спрашиваю я.
– Горячий, – отвечает муж.
– А компот?
– Холодный.
Что ж, коротко и более чем ясно. Ей-богу, краткость – сестра хамства. Сколько лет я это слышу, а все равно обидно. Это у него, наверное, от его матери и дочери Наташки – воспринимать все как должное. Хотя, по большому счету, он мной очень гордится. Катюша говорит, что я сама виновата – тотально избаловала всех, вот и получи. Вот и получаю. Мне обидно – столько потрачено времени и труда. Я человек благодарный и хочу благодарности от других. Наверное, это неправильно. В итоге же все равно, если задуматься, все делаешь для себя. Ну, в смысле, что тебе так спокойнее и комфортнее. И все же простое человеческое спасибо еще никто не отменял. Я не обедаю вместе с мужем, знаю, что потом захочется спать – ночью я явно недобрала. Удивляюсь и завидую некоторым. Проснулись в шесть утра – и сразу писать. А я заснула в четыре. Если проснусь в шесть, то как минимум всех пошлю, а как максимум – поубиваю. Поэтому я и не обедаю, а варю себе крепкий кофе с корицей и кардамоном и опять замираю у окна. Ловлю мысль. Только поймала – пришлось отпустить, потому что позвонила Юлька, а это важнее работы. Юлька – это подруга, почти сестра. Мы вплетены друг в друга, как стебли вьюна. Если бы в быту уже существовала видеосвязь, то мы могли бы не общаться вербально, а просто смотреть друг другу в глаза. Как марсиане в старых советских фильмах. Но видеосвязи пока у нас нет, и мы с упоением говорим на родном языке. Можем час, а можем и два. Три, правда, не пробовали. Хотя, нет, наверное, бывало и три – в пору моего сумасшедшего романа с будущим вторым мужем. Тогда я мучила не только себя, но и Юльку вполне основательно. Мало не покажется. Но Юлька выдержала и это испытание. Как все и всегда – с честью. Ни разу меня не послав. Тогда она забросила и сына, и мужа, не говоря уже про кастрюли. Часами слушала мои рыдания, абсолютно наплевав на свою семейную жизнь. Слава богу, они не развелись и даже, утверждает Юлька, как тогда, у них с мужем не было давно – я простимулировала их скучную семейную интимную жизнь.
С Юлькой нам никогда не бывает скучно. Она жутко воспитанная и все время спрашивает, не мешает ли творческому процессу. Конечно же, нет, тем более что этот процесс еще и не начинался. Юлька знает обо мне все, и даже больше, чем все. Мы жалуемся друг другу на плохую погоду и, как следствие, на самочувствие (при этом смолим, не переставая), перечисляем претензии к мужьям и детям, смеемся над перлами свекровей (хотя и сами уже свекрови, и, наверное, неидеальные), вспоминаем себя молодых и здоровых и высказываем свое неудовольствие по поводу себя нынешних. В итоге мы приходим к выводу, что мы еще вполне молодухи и красавицы, обещаем друг другу не жрать по ночам и меньше курить, хотя вряд ли это выполним. Но на душе становится легче.
С Юлькой мы дружим с шестого класса – с тех пор, как я перешла в новую школу. Сначала она мне показалась очень надменной и высокомерной, и еще меня возмутили ее черные, как смоль, густо накрашенные ресницы. Впоследствии оказалось, что ресницы натуральные, просто сказочно густые и черные от природы, а Юлька не воображала, а сдержанная и одинокая. Дружить мы начали сразу и взапой – гуляли вечерами вокруг школы, поедая из картонной коробки мороженые болгарские персики. Влюблялись, прогуливали школу, обе одинаково ни черта не соображали в точных науках и вместе обожали литературу и английский. Далее росли, взрослели, закалялись в жизненной борьбе, выходили замуж, рожали детей, разводились и влюблялись опять. Хоронили близких. И всегда оставались родными людьми, даже когда стали совсем редко видеться.
Юлька уехала жить на природу. Там завела трех собак, развела сказочный цветник и стала писать дивные прозрачные акварели. Наша дружба с годами стала только прочнее, и знаю точно – ей уже ничто не грозит. Да, еще у Юльки есть удивительная и редкая способность абсолютно искренне радоваться чужим удаче и успеху. Не все так умеют. Сочувствовать проще: во-первых, когда сочувствуешь, ощущаешь себя благородным человеком, а во-вторых, собственные печали и заботы как-то меркнут и отступают. Становится легче.
Все, свернулись и с Юлькой. Совесть уже не мучит, а просто грызет. И еще ужасно хочется спать. Зеваю. Собрать мысли как-то сложновато. Нет, все-таки по первому своему призванию я точно домохозяйка. С этими утешительными мыслями брякаюсь на диван. Стыдно, но очень сладко. Закрываю глаза.
Полчаса, успокаиваю я свою совесть. Всего полчаса. Все равно после двенадцати, когда наконец все угомонятся и оставят меня в покое, начну колобродить. А сколько я успею сделать! Часов до трех-четырех утра. Это – мое время. Время, когда на другом конце Москвы уснет мой встревоженный и ответственный сын, обняв любимую беременную жену, заснет и моя неблагодарная красавица дочь на широкой груди любимого (дай бог!) мужчины, а завтра, может быть, все-таки вспомнит обо мне. Часам к двум успокоится мама, обязательно приняв снотворное, повздыхав о каждом из нас. За стеной будет мирно похрапывать самый любимый и единственный муж на свете. И я сяду и, наверное, что-нибудь напишу. И кто-то прочтет это когда-нибудь. И если не с удовольствием и интересом, то хотя бы – надеюсь – без отвращения. И ночью мне опять захочется съесть горбушку черного хлеба с куском колбасы. И дай бог, чтобы захотелось! И я опять засну, когда будет светать. И сон мой будет беспокойный и тревожный – ну, это уж как водится, потому, что я буду думать о своих близких, которых я так люблю. И дай бог, чтобы они, все вышеперечисленные, мне опять позвонили завтра, даже если расстроят меня. И пусть жалуются на жизнь и здоровье. И просят что-нибудь сварить или спечь. Это будет означать только одно: я им нужна и они меня любят. И еще то, что я жива и жизнь продолжается. Такая сложная, извилистая, жесткая, но все же восхитительная жизнь. И я в который раз пойму, что в моей жизни первично. И это не расстроит меня, а, скорее всего, обрадует. В общем, все как обычно.
Мои университеты
Моя первая свекровь, Регина Борисовна, была из актрис. Точнее – из бывших актрис. Еще точнее – из бывших актрис Театра оперетты. Тяжелый, густой и страшный замес кровей: польской, литовской и грузинской – давал о себе знать, играя затейливыми гранями. Безусловная красавица – тогда ей было лет пятьдесят, и мне она казалась красавицей бывшей, – к быту она относилась пренебрежительно. Женщины, варящие борщ, вызывали у нее презрение, брезгливость и жалость. В ней замечательно уживался грузинский темперамент, литовское спокойствие и польская расчетливость – в зависимости от ситуации.
Была Регина Борисовна высока, стройна, кареглаза и темноволоса. Естественно, мужчин в ее жизни имелось множество, и все они отличались внушительностью и значительностью – и внешне, и по положению. В общем, под стать ей самой. Все были небедны и оставляли после себя неплохую память. Свекровь с удовольствием демонстрировала знаки любви и внимания, преподнесенные ими в период их отношений.
Ее единственный сын Герман стал моим первым мужем. К сыну Регина Борисовна относилась с легким пренебрежением – уж точно не материнство она считала главным увлечением своей жизни.
Сын Герман тоже был красавец. И бездельник. И непризнанный гений – так считал он, но еще сильнее уверена в этом была я. И верила, свято верила в его счастливую звезду. Был он художником. Работать не любил, хотя, наверное, талант у него имелся. Зато любил пить, гулять и веселиться – словом, тусоваться.
Поженились мы странно и скоропалительно. Оба сильно удивились полному взаимопониманию и совпадению в интимной сфере – в молодости казалось, что это важнее всего. И верили, что на этом можно построить брак. Но что мы понимали тогда? Два двадцатилетних избалованных ребенка, которым никто не объяснил, что такое семейная жизнь. Да и стали бы мы кого-нибудь слушать тогда? Вряд ли. Влюбленные до обморока и измученные бессонными ночами, мы неумело начали строить свою семью. Вернее, это начала делать я одна. Гера в этом участия не принимал. Собственно, его жизнь фактически не изменилась. Он остался в собственной квартире, так же вставал в двенадцать дня, долго пил кофе, курил, вяло перебрехивался с мамашей и уходил в свою жизнь. Или снова ложился спать. Собственно, вариантов было два.
Я пыталась как-то прибраться, что-то приготовить и бежала в институт. Через некоторое время обнаружила, что беременна. Регина Борисовна уговаривала меня сделать аборт. Она не была злодейкой, нет, она в этом была абсолютно искренна.
– Господи! – заводила она очи к небу. – Какие дети! Вам самим еще надо жопы вытирать! С ума сошли! Один – бездельник, другая – студентка. Чистой воды безумие! – Она выпускала тонкую струю дыма, а я бежала в туалет. Блевать.
Когда родилась дочка, Герман удивился. Потом он продолжал удивляться дальше. С удвоенной силой. Дочка просила есть, с ней надо было гулять, мыть ей попу и купать ее в ванночке с чередой, в воде определенной температуры, а еще – кипятить бутылочки, бегать на молочную кухню и стирать пеленки. Он стоял над ее кроваткой, и на его лице читалось выражение священного ужаса. Конечно, мы начали ругаться. Это теперь я понимаю, что было смешно требовать от такого человека ответственности. В двадцать лет. Правда, сейчас ему пятьдесят, и он остался таким же, как в юности. Трудности его пугают, проблемы выводят из себя, заботы настораживают.
Но тогда я, замученная, тощая и бледная, пыталась приобщить его к процессу. Свекровь пожалела меня (или нас?) – отнесла в антикварный браслет и наняла няню. Мне стало чуть легче, но на отношения с мужем это благотворно не повлияло. Бурная интимная жизнь, так привлекавшая нас, отпала сама собой, как болячка, – была и нет. Без следа. А больше ничего, как оказалось, нас не связывало. Не считая дочки. Герман пропадал где-то с утра до поздней ночи. Няня помогала с ребенком, а свекровь учила меня жить.
– Посмотри на себя. – Регина Борисовна брала меня за плечо и подводила к старинному мутноватому зеркалу в тяжелой золоченой раме. – Даже такой дурак, как Герман, от тебя сбежал.
Видимо, она была права. Я была похожа на призрак замка Морисвиль. Бледная, зачуханная, с хвостом на затылке, в старом, выцветшем халате. Зрелище не для слабонервных. Рядом со мной в зеркале отражалась прекрасная стройная дама с прической, макияжем и маникюром. В фиолетовом пеньюаре и с кольцами на пальцах. Несмотря на мой юный возраст, счет был явно не в мою пользу.
– Что вы хотите? – возмущалась я. – У меня грудной ребенок, сессия, уборка, обед, магазины!
– Наплевать, – отрезала свекровь, – пока ты не полюбишь себя, тебя не полюбит никто. Бог с ним, с Геркой. Он тебе не нужен. Но ты должна сделать себя и свою жизнь.
Свекровь вызвала на дом свою маникюршу, отвела меня на Калининский в «Чародейку», у своей подружки – спекулянтки Марго – купила мне французское платье-чехол, лодочки на шпильке, белый плащ и красные лаковые сапоги. Дома она вытащила из шкафа шелковый халат лимонного цвета. Мои старые клетчатые тапки, ковбойки и джинсы полетели в помойку. Свекровь предложила мне быть красавицей, только получалось у меня плоховато. Дочка срыгивала на шелковый халат, белый плащ в автобусе автоматически превращался в серый за два дня, лаковые сапоги не выдерживали глубину луж у метро и мгновенно промокали, а маникюр испарился на второй день – я стирала ползунки и пеленки. Но все-таки я старалась. И даже если у меня все пока получалось неважно, выводы сделать ума хватало.
Дочку Марину свекровь полюбила – ну, так, как умела. Называла она ее Маритой. Так к ней и приклеилось – она и до сегодняшнего дня для всех близких и друзей Марита. Нянчить внучку Регина Борисовна не помогала, да я и не обижалась. Свекровь объясняла, что младенцы ей непонятны и неинтересны. А вот подрастет – она ее всему научит!
«Всему, пожалуй, не стоит», – возражала я про себя.
Поучала, кстати, она ее со страстью. Моя дочь оказалась способнее меня – бабкины гены.
От Германа я ушла, когда дочке было три года. Думаю, он это даже не очень-то и заметил. Хотя, нет, наверное, в квартире все же стало тише. Он продолжал жить своей веселой жизнью. Мы с ним остались друзьями. Женился он, по-моему, еще раз пять. Последний раз вполне удачно – на француженке, старше его лет на пятнадцать. Она и вывезла его во Францию и даже продала какие-то его работы. Моя дочь съездила к отцу в Париж, он подарил ей свою картину, мы посмеялись и повесили картину на даче. Его жена Сесиль отдала Марите свою старую сумку от «Гермес» – в ней мы хранили документы и бумаги. Также Марите перепала старая норковая шуба, доставшаяся Сесиль от богемной матушки. Шуба эта повидала на свете многое, местами она была вытерта до кожи, да и та кожа была отполирована временем до блеска. Словом, раритет и антиквариат – единственный в нашем с Маритой доме. Из спинки многострадального манто мы вырезали наиболее сохранный кусок, и из него получился чудный коврик для нашего кота Бенвенутто.
Свекровь дожила до глубокой старости.