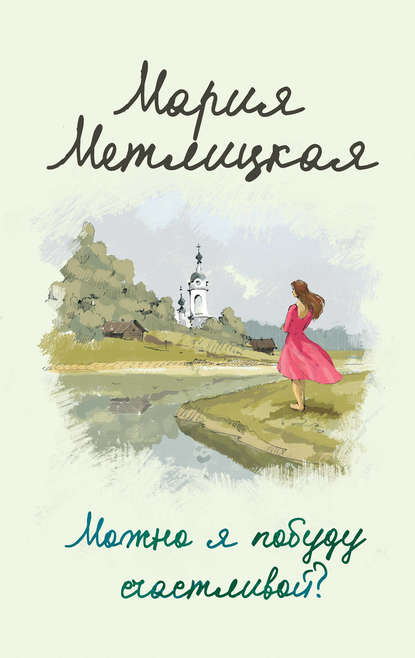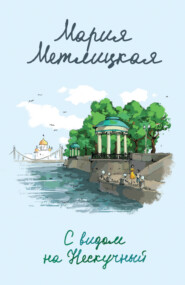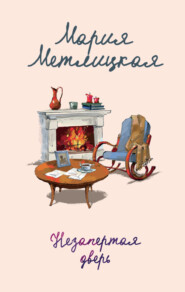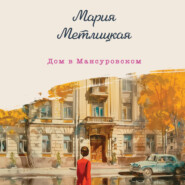По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Можно я побуду счастливой?
Автор
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На балконе бабушка выращивала цветы – желтые, красные и оранжевые настурции. Осенью собирала в баночку зеленые, очень пахучие шарики – семена – для последующей высадки.
В теплое время я обожала торчать на балконе – переговариваться с еще гуляющими подружками. Весь двор был как на ладони.
Да, это был настоящий московский двор – уютный, зеленый, закрытый, с палисадником, лавочками, качелями, крытыми верандами – на случай дождя. И с катком, который обязательно заливал при первом морозе вечно пьяненький и добрый дворник дядя Ваня. Зимними вечерами, еле дождавшись маму с работы, я брала коньки, и мы шли на каток.
Летом на лавочках сидели старушки, по двору прогуливались молодые мамочки с колясками. В палисаднике росли розовые и белые флоксы, и никто и не думал их обрывать.
Во дворе мы устраивали тайники и делали «секретики» – неглубоко, в маленькой ямке, укладывался фантик от конфеты, кусочек фольги, лучше цветной, листик или цветок, и все это «сказочное богатство» придавливалось цветным же стеклом. Красота была неописуемая. Трупики погибших птиц собирали на заднем дворе и устраивали пышные похороны. Укладывали их в коробки, сооружали могилы, украшали их цветами и ветками. Это увлечение, к счастью, скоро прошло.
Играли в классики, в штандер, в города, в прятки и в казаки-разбойники. Во дворе мы болтались целыми днями – это была особая жизнь, сейчас такой нет. Именно во дворах мы проходили боевое крещение – на верность, на честность, на дружбу. Там, во дворах, очень скоро всем становилось понятно и ясно: этот – трус, та – врушка, а тот – предатель! Ну а это – друзья. Дворовый кодекс чести был очень в чести – простите за каламбур. Двор был маленькой, крошечной моделью общества, мира, если хотите. Там и закладывались, закалялись характеры. Формировались личности.
В Поселке художников, на задворках, работала зеркальная фабрика. Возле нее ежедневно вырастала помойка с отходами – осколками зеркал и длинными дырчатыми лентами разноцветной фольги – малиновой, синей, зеленой. Из нее делали то, что сейчас называют пайетками. А раньше это называлось просто – «блестки». Это было большое богатство – длинные перфорированные ленты фольги и осколки зеркал. Что мы делали со всем этим добром – убейте, не помню! Осталось только в памяти, как, найдя, мы были счастливы безмерно.
Часто бегали к метро «Сокол» – за мороженым. Очень ценилось цитрусовое, желтенькое, по девять копеек – кисло и вкусно, а главное – дешево. Могло хватить денег и на два. У метро толстая тетка, замотанная зимой в кучу платков, притоптывая огромными валенками, орала на всю улицу: «Пирожки га-аа-рячие! С мясом, повидлом и рисом!» С мясом стоили десять копеек, с повидлом и рисом – по пять. Чаще всего хватало на рис и повидло. С мясом есть боялись – бабушка говорила, что мясо там «от не пойми кого» – может, кошачье, а может – собачье.
Шумные пестрые цыганки там же, у метро, торговали леденцовыми петушками на палочке – прозрачными, ярко-красными, очень соблазнительными. На петушки тоже было наложено вето – никогда и ни при каких условиях! Попробовать хотелось, но остерегались. В том числе и шумливых цыган. Утащат – и никто не найдет! Заберут «на мыло» – так нас пугали.
В нашем доме была прекрасно развита инфраструктура – на первом этаже располагались сберкасса, парикмахерская, ЖЭК, ремонт обуви и булочная. Туда мы бегали за «калорийками» по десять копеек – «загорелыми» плюшками, утыканными орешками, с изюмом внутри. За домом стояли автоматы красного цвета с газировкой. С сиропом – три копейки, без – одна. К автомату полагались граненые стаканы. Но частенько их не было – говорили, что воруют их алкаши. Потом мы сообразили бегать туда со своими кружками – брали одну на всех и не мучились.
Любимое развлечение – толкаться в огромном детском магазине «Смена». Пропадали в отделе игрушек, одежды и обуви. Помню, завезли туда роскошные кофты – желтые, розовые, голубые, производства Японии – такое вот чудо. Кофты были украшены вывязанными цветами. Не кофта – мечта! Канючила долго. Наконец мама, вздохнув, согласилась. Стоила эта красота безумно дорого – двадцать рублей, четверть зарплаты. И вот день счастья – встречаю маму после работы, под самое закрытие магазина. В магазине почти пусто – время к девяти, все уже дома. Замерла у прилавка – какого цвета выбрать? Мучилась страшно. Победил, конечно, салатовый. До сих пор, наряду с зеленым, мой любимый цвет.
Мама уже пошла к кассе, и вдруг – дикий крик! Деньги украли! Когда? Как? В почти пустом магазине! Плакала мама, рыдала я. Мы ушли домой, и всю ночь я не спала – страдала. Очень страдала – пропала мечта.
На следующий день после работы мама принесла салатовую мечту – деньги взяла в кассе взаимопомощи, в долг. Вот и было мне счастье!
Помню и первое сентября. В первый класс я пошла там же, на Соколе. Старая школа красного кирпича, за школой – густой яблоневый сад. (Сейчас в моей любимой 149-й расположился журнал «Коммерсант».)
В мой первый школьный день моросил мелкий дождик, было довольно прохладно. Но явственно помню праздник! Точнее – его ощущение: острое, незабываемое. В руках фиолетовые астры, чувствую запах горчинки. Белый фартук, новые туфельки, белые гольфы с помпончиками. Тревожно от неизвестности, страшновато, но – интересно. Все-таки новая жизнь! Спину оттягивал малиновый ранец с тетрадками, деревянным пеналом с ручкой и карандашами. У двери я оглянулась на маму – мама плакала и махала рукой – в добрый путь! Я очень боялась разреветься – уже скучала по маме и бабушке. Но через минут десять о них забыла – в классе было оживленно и весело, мы знакомились друг с другом, ерзали на деревянных прохладных скамейках, хлопали тяжелыми зелеными крышками парт. Осваивались.
Мне повезло с первой учительницей – она была именно такой, о которой можно только мечтать. Немолодая и синеглазая Ида Давыдовна учила нас не только правописанию и арифметике – она учила нас доброте и милосердию. Да и все учителя – ну, или почти все – в нашей школе были прекрасными. Например, литературу и русский нам преподавала Раиса Матвеевна Уткина, очень полная, рыжеволосая, густо конопатая. Говорили, что она – сестра поэта-фронтовика Иосифа Уткина. Наверное, именно она научила меня любить поэзию.
Математичка (имени не помню) – строгая, но не вредная. Билась со мной, но безуспешно. С натягом ставила четверки – авансом. Аванс я так и не отработала и надежд ее вялых не оправдала.
Учитель по военному делу – фамилию, увы, не помню – фронтовик, с протезом вместо правой руки, с изуродованной половиной лица – осколочное ранение. Рассказывал про войну, просто про жизнь – да так, что мы, шумные и бестолковые, на сорок пять минут немели и застывали. Спустя много лет узнала, что он еще был и писатель. Писал о предвоенном времени, о своем поколении, об одноклассниках – из целого класса, ушедшего на фронт, уцелел только он.
Директор школы, Лидия Ивановна Воронина, статная белокурая красавица, строгая и справедливая, вела географию. На ее уроках было так интересно, что, услышав звонок, мы оставались на местах и просили «еще».
Англичанка Маргарита Николаевна – маленькая, кругленькая, очень смешливая. На ее уроках было весело – говорили только на языке, даже рассказывали анекдоты.
Моя первая школа была прекрасна – нам стремились дать знания, поделиться с нами жизненным опытом. Там не работали бездушные и косные учителя – каждый был личностью, индивидуальностью. Жаль, что в шестом классе я оттуда ушла.
С Сокола навеки остались подружки. Обе – Ларисы, Лорки. Все было вместе и всё на троих. Детская дружба, наверное, самая крепкая, самая верная и самая бескорыстная. Общаемся до сей поры, правда, нечасто: одна ныне во Франкфурте, другая – в Тель-Авиве. Но главное, что друг друга не потеряли.
В семь лет меня отвели к учительнице музыки – на прослушивание. Жила она в отдельной трехкомнатной квартире на Беговой, напротив Боткинской больницы. Квартира была роскошной – муж моей «музыкалки» служил скрипачом в большом театре. Сама учительница была немолода, пахла нездешними духами и шелестела необыкновенным шелковым халатом, расшитым райскими птицами. Звали ее Муза Николаевна. Ногтем с безупречным маникюром темно-бордового цвета она отбивала такты на крышке рояля и просила меня повторить. Не помню, было ли это успешно, но слуха тогда у меня не было точно. Она вздохнула и сказала бабушке, что пианистки из меня не получится, а вот слух мне она разовьет. Это у нее получилось – слух у меня теперь есть, далекий, правда, от абсолютного. Петь мне когда-то очень нравилось. Могу и сейчас, но без особого энтузиазма.
Занятия музыкой я не любила, но ездила туда с интересом – в пузатой стеклянной горке рядом с роялем было много чудес – фарфоровые фигурки дам и кавалеров, мальчики со свирельками, девочки с котятами, кареты и зонтики. Сказка. Было очень любопытно рассматривать Музины кольца и браслеты – они звенели, переливались и в солнечный день брызгали разноцветными слепящими искрами.
Естественно, родители купили пианино – в кредит. В большую комнату втиснули сверкающую черным лаком бандуру под названием «Заря». Возле него примостился черный крутящийся круглый стульчик – все было серьезно, по-взрослому. Ну и мучилась дальше – деваться-то было некуда. Осточертевшая музыкальная зубрежка как-то навела меня на мысль о членовредительстве, и верная Лорка притащила из дома бинт и замотала мне кисть. А потом муки продолжились еще на семь лет. После красавицы Музы была еще музыкальная школа у планетария, а потом я пианино закрыла. Точнее – захлопнула крышку со стуком. Раз и – навсегда. Эстафету передала младшей сестре.
В секцию фигурного катания меня отвели в общество «Динамо» – совсем рядом, под арку – тогда это было модно, как бы сказали сейчас – в тренде. В теплое время лед заменяли залом ритмики – все как в балетной школе: трико, забранные под ленту волосы, станок и зеркала вдоль стены.
Каток я любила больше, чем зал, наверное, потому, что всегда обожала морозец и снег, хорошую зиму. И уж точно заниматься фигурным катанием было куда веселее, чем долбить этюды Черни и Гедике.
Мои школьные подружки, близнецы Лорка и Инка, жили в отдельной квартире. А под их окнами, почти около подъезда, находилось кладбище. Вернее – его остатки. Чтобы быстрее добраться от метро, нужно было пройти сквозь него. А вскоре кладбище решили перенести. Обнесли его высоким забором, согнали солдатиков. Мы, освободившись после уроков, мчались туда, чтобы повиснуть на шатком заборе. Было страшновато, но интересно. Солдатики вынимали остатки гробов и останки людей – остовы скелетов, разваливающиеся части черепов, а мы, дураки, вглядывались, пытаясь разглядеть что-то интересное. Что, господи?
На месте этого кладбища соорудили, представьте, парк. Но популярностью он не пользовался – только если у местных алкашей и маргинальных парочек, ищущих уединения. Гиблое место.
Были, конечно, мечты. Я, например, мечтала о чешских белых ботинках для фигурного катания. Но стоили они ужасно дорого – рублей двадцать пять. И однажды моя мечта сбылась – приехал какой-то незнакомый дяденька, по версии мамы, наш дальний родственник. Родственник почему-то пошел со мной и беременной мамой на каток в «генеральский» двор, внимательно наблюдал за моими экзерсисами, а потом и вовсе расщедрился – купил мне в «Смене» эти самые белые чешские коньки за двадцать пять рублей. Я удивилась такой щедрости и вниманию, вопросительно посмотрела на маму, а она беспечно махнула рукой: купил – и радуйся! Родственник все-таки. Родственник этот оказался моим отцом, но это поняла я чуть позже, сопоставив некоторые факты своей биографии и семейной истории.
Конечно, мы тайно влюблялись. Например, в старшеклассников и в хулиганов. Критерии были такие – или красавец, или отпетый двоечник. Иногда совпадало. В меня был влюблен главный хулиган района – Димка Турчинин. Уже в те годы у него не хватало зубов – видимо, были утеряны в драках. Он мне не нравился, но было приятно находиться под его защитой.
Там, на Соколе, в Поселке художников, в старом роддоме номер шестнадцать, у меня родилась младшая сестра. Помню, как бегала туда после школы – весна, тепло, и мама в окне – мы машем друг другу. Помню и свою страшную гордость – младшая сестра была только у меня, и ни у кого больше. Коляску с младенцем покатать доводилось не всякому – проходили строжайший отбор и фейс-контроль. Не шутки же, право слово, – любимый младенец.
На лето снималась дача – непременно. Наплевать на кредит за инструмент, наплевать на мамин декрет. Дача должна быть – и точка! Как девочки будут проводить лето в пыльном и душном городе? Невозможно. В основном жили в комнатушках на втором этаже – первый был значительно дороже. Валентиновка, Зеленоградская, Ильинка. Шаткая лестница, две комнатки под покатой крышей – в одной мы с сестрой и бабушка, а в другой – родители. Под лестницей, на табуретке, двухконфорочная плитка, подключенная к газовому баллону, – отдельной кухни, конечно, не было. Баллоны на газовых пунктах меняли родители. И там, на этом квадратном полуметре, бабушка моя, вечная труженица, варила борщи, жарила котлеты и даже пекла пирожки. И, конечно, варила варенье.
Воду приходилось таскать из колодца. Родители приезжали на выходные, в пятницу. Сначала на электричке, потом на машине. Мы с сестрой ходили на «большак» их встречать. Скучали по ним очень. Да и к тому же – подарки и вкусности были гарантированы. Правда, с бабушкой вольницы было побольше.
Обязательно имелось озеро или пруд – тогда в подмосковных водоемах купаться было не страшно. В Зеленоградской озеро было глубокое, с очень холодной водой, и мальчишки переплывали его на спор, выпендриваясь перед нами, девчонками. А еще помню бесконечное гороховое поле, темный и влажный грибной лес, сухие, залитые солнцем земляничные поляны.
По выходным обязательно приезжали гости, родительские друзья. И начинались шашлыки, анекдоты и песни под гитару. Мы, дети, жадно ловили взрослые разговоры. Особенно я прислушивалась к разговорам «за политику». Понимали, что родители чем-то не очень довольны, громко и обреченно вздыхают, что-то критикуют и над чем-то грустно посмеиваются.
Помню, что испытывала большое удивление – я искренне и довольно долго считала, что мне несказанно повезло – родиться в самой свободной и самой прекрасной стране на свете. Ведь там, в далеких Америках, живут бедные и несчастные люди! Голодают безработные, дети-бродяжки рыщут в помойках в поисках еды. А мы, мы же счастливцы! Нам выпало родиться именно здесь, в Советском Союзе!
Для счастливого детства не важен политический строй. Для счастливого детства важны семья и любовь. А обо всем остальном мы стали задумываться куда позднее. Нам, детям, душно не было – душно, наверное, было нашим родителям. Ну, а мы до поры пребывали в неведении. Нам было счастливо и хорошо.
Жизнь и вправду была прекрасна – счастливое детство! Двор, любимая школа, подруги. Мороженое и пирожки, каток, на каникулы абонемент в кинотеатр «Ленинград», где очень рано – в восемь утра – шли прекрасные сказки Роу. Вставать не хотелось – на улице холодно и совсем темно, но вставали и бежали. Это был праздник. А еще дача и море на каникулах. Мама, папа, сестра и любимейшая бабушка. Кукла Зоя – не немецкая резиновая с открывающимися глазами и блестящими, «настоящими» волосами, нет. Пластмассовая, лупастая, «нашенская» Зоя с негнущимися ногами и приличной плешью на голове. Похожая, как две капли, на свою тезку – продавщицу из овощного. С таким же стервозным и глупым лицом. Но – любимая, наверное, из жалости.
В августе уезжали в Бердянск, на Азовское море – к бабушкиной сестре. Трехкомнатная квартира в самом центре непонятным образом вмещала немыслимое количество народу – кроме нас с сестрой и бабушки, туда съезжались внуки бабушкиной сестры из Мурманска, Минска и Ленинграда. Все дети спали в одной комнате – на кровати, диване, раскладушках.
В шесть утра наши бабушки, родные сестры, тогда еще – статные, полные сил и бодрости духа красавицы, отправлялись на базар. И после семи заступали на вахту. Борщи в огромных кастрюлях, смахивающих на баки для кипячения белья, компоты, тазы котлет и жареных бычков – «бичков», если по-местному, чебуреки, пирожки, пончики. Бадейки с кукурузой – пшенкой, как ее здесь называли.
Из крана лилась соленая вода, готовить на ней было невозможно. Питьевую воду привозили во дворы на машинах, и выстраивались очереди с бидонами, ведрами и баками. В местной воде только стирали.
По вечерам в выходные во двор привозили кино. Мы рассаживались на шаткие скамейки и ждали, пока механик повесит на ржавую опору тряпичный экран. Аппарат скрипел, кряхтел, визжал и ломался. Пленка рвалась. Фильмы были старыми, даже древними. Новые – за деньги в кинотеатрах, пожалуйста! А тут – халява, тут даром.
И все равно была радость.
Рядом, под окнами, раскинулся «централ-парк» – парк имени Отто Юльевича Шмидта. Цветущие и душистые розы, сладкая газировка в стеклянных конусах, мороженое. Иногда по выходным в парке играл духовой оркестрик. Некоторые пары отваживались танцевать. По вечерам под нашими окнами гудела центральная танцплощадка. Спать не давала, но мы не расстраивались. Завидовали тем, кто там «зажигал», нас не пускали – соплячки.
Городок этот мы обожали. В свободе нас не ограничивали и перемещения наши не отслеживали. К чему? Было тихо, и никогда ничего не случалось. Минуты две от дома – центр, с базаром, бульваром, набережной и прочими радостями в виде кафешек, молочных коктейлей, соков и булочек. Кинотеатры – на каждом шагу. Фильмы – индийские, мексиканские, аргентинские – идут без перерывов, билет стоит десять копеек. Деревянные лавки, хруст семечек, переговоры и обсуждения – в голос. В кино мы бегали раза два на дню. А то и по три.
Почему-то было много кафетериев – кофе, конечно же, из титана – и торты! Об этих красавцах стоит рассказать отдельно. Торт на витрине, как правило, был мощным, огромным – на три или пять килограммов. А украшен – нет слов! Таких украшений, такого обилия крема, таких пышных роз, пионов, георгинов, сирени на московских тортах я не помню. А буйство красок: огненно-красные, ярко-желтые розы, оранжевые, фиолетовые гиацинты, бордовые георгины, белые и красные пионы. Фантазия безумного кондитера, поклонника импрессионизма, не сумевшего осуществить мечту стать художником?
Торт нарезался в продажу кусками. Есть его было страшновато, честно, главное, не думать об этом как о съедобном – так, инсталляция.
На пляж собирались бесконечно шумно и долго – такая орава! Долго и тщательно складывали сумки с фруктами – виноградом, персиками и грушами. Как же заморенным детям без витаминов, о чем вы? По дороге на пляж местные старушки торговали семечками и кукурузой, и мы начинали клянчить у бабушек. Нас не останавливало то, что дома уже сварена целая лохань. Нет, мы хотим сейчас и эту! Бабушки наши в конце концов сдавались, и мы хватали горячие початки и натирали их крупной каменной солью. Кукуруза была очень плотной, почти безвкусной, мясистой и жестковатой – ни в какое сравнение с нынешней, сладкой и нежной. Но вкуснее той кукурузы не могу представить. На пляже всегда было много народу – негде расстелить полотенце. Мы строили что-то из песка, неохотно заходили в море, а потом еще более неохотно из него вылезали – это называлось «до синих губ». Бабушки растирали нас полотенцами и совали в руки по «фруктине». С пляжа шли медленно – от солнца и воды уставали. Обедать нас загоняли – а есть совсем не хотелось, тем более после винограда, сладких персиков, кукурузы. Но бабушки были неумолимы – не дай бог, дитя похудеет! Хотя бы – на грамм.
Фотография тех лет под названием «Завтрак». На переднем плане – тарелка, скорее – миска. Именно миска – не мисочка! А в ней – рыночный творог. Вернее – гора творога. Масса на полкило, и никак не меньше. И все это великолепие полито жирными сливками (процентов, думаю, сорок, не меньше; меньше на рынке просто не было), приправлено клубникой или другой «фруктиной», присыпано орешками – для калорийности, а еще для чего? А за миской – ребенок. Несчастный ребенок шести лет от роду, то есть я. На лице моем, тогда еще – на личике, – гримаса отчаянья, страха и боли. Как это съесть? Немыслимо. Еще на лице ужас от предчувствия рвоты. А съесть надо! Иначе… Мама в этих вопросах не уступала. Ребенка требовалось откормить. Привезти в Москву эдакой… пышкой. Булкой румяной. Отрадой для глаза. Чтоб родня хвалила, соседи завидовали, прохожие всплескивали руками – красота-то какая!
В теплое время я обожала торчать на балконе – переговариваться с еще гуляющими подружками. Весь двор был как на ладони.
Да, это был настоящий московский двор – уютный, зеленый, закрытый, с палисадником, лавочками, качелями, крытыми верандами – на случай дождя. И с катком, который обязательно заливал при первом морозе вечно пьяненький и добрый дворник дядя Ваня. Зимними вечерами, еле дождавшись маму с работы, я брала коньки, и мы шли на каток.
Летом на лавочках сидели старушки, по двору прогуливались молодые мамочки с колясками. В палисаднике росли розовые и белые флоксы, и никто и не думал их обрывать.
Во дворе мы устраивали тайники и делали «секретики» – неглубоко, в маленькой ямке, укладывался фантик от конфеты, кусочек фольги, лучше цветной, листик или цветок, и все это «сказочное богатство» придавливалось цветным же стеклом. Красота была неописуемая. Трупики погибших птиц собирали на заднем дворе и устраивали пышные похороны. Укладывали их в коробки, сооружали могилы, украшали их цветами и ветками. Это увлечение, к счастью, скоро прошло.
Играли в классики, в штандер, в города, в прятки и в казаки-разбойники. Во дворе мы болтались целыми днями – это была особая жизнь, сейчас такой нет. Именно во дворах мы проходили боевое крещение – на верность, на честность, на дружбу. Там, во дворах, очень скоро всем становилось понятно и ясно: этот – трус, та – врушка, а тот – предатель! Ну а это – друзья. Дворовый кодекс чести был очень в чести – простите за каламбур. Двор был маленькой, крошечной моделью общества, мира, если хотите. Там и закладывались, закалялись характеры. Формировались личности.
В Поселке художников, на задворках, работала зеркальная фабрика. Возле нее ежедневно вырастала помойка с отходами – осколками зеркал и длинными дырчатыми лентами разноцветной фольги – малиновой, синей, зеленой. Из нее делали то, что сейчас называют пайетками. А раньше это называлось просто – «блестки». Это было большое богатство – длинные перфорированные ленты фольги и осколки зеркал. Что мы делали со всем этим добром – убейте, не помню! Осталось только в памяти, как, найдя, мы были счастливы безмерно.
Часто бегали к метро «Сокол» – за мороженым. Очень ценилось цитрусовое, желтенькое, по девять копеек – кисло и вкусно, а главное – дешево. Могло хватить денег и на два. У метро толстая тетка, замотанная зимой в кучу платков, притоптывая огромными валенками, орала на всю улицу: «Пирожки га-аа-рячие! С мясом, повидлом и рисом!» С мясом стоили десять копеек, с повидлом и рисом – по пять. Чаще всего хватало на рис и повидло. С мясом есть боялись – бабушка говорила, что мясо там «от не пойми кого» – может, кошачье, а может – собачье.
Шумные пестрые цыганки там же, у метро, торговали леденцовыми петушками на палочке – прозрачными, ярко-красными, очень соблазнительными. На петушки тоже было наложено вето – никогда и ни при каких условиях! Попробовать хотелось, но остерегались. В том числе и шумливых цыган. Утащат – и никто не найдет! Заберут «на мыло» – так нас пугали.
В нашем доме была прекрасно развита инфраструктура – на первом этаже располагались сберкасса, парикмахерская, ЖЭК, ремонт обуви и булочная. Туда мы бегали за «калорийками» по десять копеек – «загорелыми» плюшками, утыканными орешками, с изюмом внутри. За домом стояли автоматы красного цвета с газировкой. С сиропом – три копейки, без – одна. К автомату полагались граненые стаканы. Но частенько их не было – говорили, что воруют их алкаши. Потом мы сообразили бегать туда со своими кружками – брали одну на всех и не мучились.
Любимое развлечение – толкаться в огромном детском магазине «Смена». Пропадали в отделе игрушек, одежды и обуви. Помню, завезли туда роскошные кофты – желтые, розовые, голубые, производства Японии – такое вот чудо. Кофты были украшены вывязанными цветами. Не кофта – мечта! Канючила долго. Наконец мама, вздохнув, согласилась. Стоила эта красота безумно дорого – двадцать рублей, четверть зарплаты. И вот день счастья – встречаю маму после работы, под самое закрытие магазина. В магазине почти пусто – время к девяти, все уже дома. Замерла у прилавка – какого цвета выбрать? Мучилась страшно. Победил, конечно, салатовый. До сих пор, наряду с зеленым, мой любимый цвет.
Мама уже пошла к кассе, и вдруг – дикий крик! Деньги украли! Когда? Как? В почти пустом магазине! Плакала мама, рыдала я. Мы ушли домой, и всю ночь я не спала – страдала. Очень страдала – пропала мечта.
На следующий день после работы мама принесла салатовую мечту – деньги взяла в кассе взаимопомощи, в долг. Вот и было мне счастье!
Помню и первое сентября. В первый класс я пошла там же, на Соколе. Старая школа красного кирпича, за школой – густой яблоневый сад. (Сейчас в моей любимой 149-й расположился журнал «Коммерсант».)
В мой первый школьный день моросил мелкий дождик, было довольно прохладно. Но явственно помню праздник! Точнее – его ощущение: острое, незабываемое. В руках фиолетовые астры, чувствую запах горчинки. Белый фартук, новые туфельки, белые гольфы с помпончиками. Тревожно от неизвестности, страшновато, но – интересно. Все-таки новая жизнь! Спину оттягивал малиновый ранец с тетрадками, деревянным пеналом с ручкой и карандашами. У двери я оглянулась на маму – мама плакала и махала рукой – в добрый путь! Я очень боялась разреветься – уже скучала по маме и бабушке. Но через минут десять о них забыла – в классе было оживленно и весело, мы знакомились друг с другом, ерзали на деревянных прохладных скамейках, хлопали тяжелыми зелеными крышками парт. Осваивались.
Мне повезло с первой учительницей – она была именно такой, о которой можно только мечтать. Немолодая и синеглазая Ида Давыдовна учила нас не только правописанию и арифметике – она учила нас доброте и милосердию. Да и все учителя – ну, или почти все – в нашей школе были прекрасными. Например, литературу и русский нам преподавала Раиса Матвеевна Уткина, очень полная, рыжеволосая, густо конопатая. Говорили, что она – сестра поэта-фронтовика Иосифа Уткина. Наверное, именно она научила меня любить поэзию.
Математичка (имени не помню) – строгая, но не вредная. Билась со мной, но безуспешно. С натягом ставила четверки – авансом. Аванс я так и не отработала и надежд ее вялых не оправдала.
Учитель по военному делу – фамилию, увы, не помню – фронтовик, с протезом вместо правой руки, с изуродованной половиной лица – осколочное ранение. Рассказывал про войну, просто про жизнь – да так, что мы, шумные и бестолковые, на сорок пять минут немели и застывали. Спустя много лет узнала, что он еще был и писатель. Писал о предвоенном времени, о своем поколении, об одноклассниках – из целого класса, ушедшего на фронт, уцелел только он.
Директор школы, Лидия Ивановна Воронина, статная белокурая красавица, строгая и справедливая, вела географию. На ее уроках было так интересно, что, услышав звонок, мы оставались на местах и просили «еще».
Англичанка Маргарита Николаевна – маленькая, кругленькая, очень смешливая. На ее уроках было весело – говорили только на языке, даже рассказывали анекдоты.
Моя первая школа была прекрасна – нам стремились дать знания, поделиться с нами жизненным опытом. Там не работали бездушные и косные учителя – каждый был личностью, индивидуальностью. Жаль, что в шестом классе я оттуда ушла.
С Сокола навеки остались подружки. Обе – Ларисы, Лорки. Все было вместе и всё на троих. Детская дружба, наверное, самая крепкая, самая верная и самая бескорыстная. Общаемся до сей поры, правда, нечасто: одна ныне во Франкфурте, другая – в Тель-Авиве. Но главное, что друг друга не потеряли.
В семь лет меня отвели к учительнице музыки – на прослушивание. Жила она в отдельной трехкомнатной квартире на Беговой, напротив Боткинской больницы. Квартира была роскошной – муж моей «музыкалки» служил скрипачом в большом театре. Сама учительница была немолода, пахла нездешними духами и шелестела необыкновенным шелковым халатом, расшитым райскими птицами. Звали ее Муза Николаевна. Ногтем с безупречным маникюром темно-бордового цвета она отбивала такты на крышке рояля и просила меня повторить. Не помню, было ли это успешно, но слуха тогда у меня не было точно. Она вздохнула и сказала бабушке, что пианистки из меня не получится, а вот слух мне она разовьет. Это у нее получилось – слух у меня теперь есть, далекий, правда, от абсолютного. Петь мне когда-то очень нравилось. Могу и сейчас, но без особого энтузиазма.
Занятия музыкой я не любила, но ездила туда с интересом – в пузатой стеклянной горке рядом с роялем было много чудес – фарфоровые фигурки дам и кавалеров, мальчики со свирельками, девочки с котятами, кареты и зонтики. Сказка. Было очень любопытно рассматривать Музины кольца и браслеты – они звенели, переливались и в солнечный день брызгали разноцветными слепящими искрами.
Естественно, родители купили пианино – в кредит. В большую комнату втиснули сверкающую черным лаком бандуру под названием «Заря». Возле него примостился черный крутящийся круглый стульчик – все было серьезно, по-взрослому. Ну и мучилась дальше – деваться-то было некуда. Осточертевшая музыкальная зубрежка как-то навела меня на мысль о членовредительстве, и верная Лорка притащила из дома бинт и замотала мне кисть. А потом муки продолжились еще на семь лет. После красавицы Музы была еще музыкальная школа у планетария, а потом я пианино закрыла. Точнее – захлопнула крышку со стуком. Раз и – навсегда. Эстафету передала младшей сестре.
В секцию фигурного катания меня отвели в общество «Динамо» – совсем рядом, под арку – тогда это было модно, как бы сказали сейчас – в тренде. В теплое время лед заменяли залом ритмики – все как в балетной школе: трико, забранные под ленту волосы, станок и зеркала вдоль стены.
Каток я любила больше, чем зал, наверное, потому, что всегда обожала морозец и снег, хорошую зиму. И уж точно заниматься фигурным катанием было куда веселее, чем долбить этюды Черни и Гедике.
Мои школьные подружки, близнецы Лорка и Инка, жили в отдельной квартире. А под их окнами, почти около подъезда, находилось кладбище. Вернее – его остатки. Чтобы быстрее добраться от метро, нужно было пройти сквозь него. А вскоре кладбище решили перенести. Обнесли его высоким забором, согнали солдатиков. Мы, освободившись после уроков, мчались туда, чтобы повиснуть на шатком заборе. Было страшновато, но интересно. Солдатики вынимали остатки гробов и останки людей – остовы скелетов, разваливающиеся части черепов, а мы, дураки, вглядывались, пытаясь разглядеть что-то интересное. Что, господи?
На месте этого кладбища соорудили, представьте, парк. Но популярностью он не пользовался – только если у местных алкашей и маргинальных парочек, ищущих уединения. Гиблое место.
Были, конечно, мечты. Я, например, мечтала о чешских белых ботинках для фигурного катания. Но стоили они ужасно дорого – рублей двадцать пять. И однажды моя мечта сбылась – приехал какой-то незнакомый дяденька, по версии мамы, наш дальний родственник. Родственник почему-то пошел со мной и беременной мамой на каток в «генеральский» двор, внимательно наблюдал за моими экзерсисами, а потом и вовсе расщедрился – купил мне в «Смене» эти самые белые чешские коньки за двадцать пять рублей. Я удивилась такой щедрости и вниманию, вопросительно посмотрела на маму, а она беспечно махнула рукой: купил – и радуйся! Родственник все-таки. Родственник этот оказался моим отцом, но это поняла я чуть позже, сопоставив некоторые факты своей биографии и семейной истории.
Конечно, мы тайно влюблялись. Например, в старшеклассников и в хулиганов. Критерии были такие – или красавец, или отпетый двоечник. Иногда совпадало. В меня был влюблен главный хулиган района – Димка Турчинин. Уже в те годы у него не хватало зубов – видимо, были утеряны в драках. Он мне не нравился, но было приятно находиться под его защитой.
Там, на Соколе, в Поселке художников, в старом роддоме номер шестнадцать, у меня родилась младшая сестра. Помню, как бегала туда после школы – весна, тепло, и мама в окне – мы машем друг другу. Помню и свою страшную гордость – младшая сестра была только у меня, и ни у кого больше. Коляску с младенцем покатать доводилось не всякому – проходили строжайший отбор и фейс-контроль. Не шутки же, право слово, – любимый младенец.
На лето снималась дача – непременно. Наплевать на кредит за инструмент, наплевать на мамин декрет. Дача должна быть – и точка! Как девочки будут проводить лето в пыльном и душном городе? Невозможно. В основном жили в комнатушках на втором этаже – первый был значительно дороже. Валентиновка, Зеленоградская, Ильинка. Шаткая лестница, две комнатки под покатой крышей – в одной мы с сестрой и бабушка, а в другой – родители. Под лестницей, на табуретке, двухконфорочная плитка, подключенная к газовому баллону, – отдельной кухни, конечно, не было. Баллоны на газовых пунктах меняли родители. И там, на этом квадратном полуметре, бабушка моя, вечная труженица, варила борщи, жарила котлеты и даже пекла пирожки. И, конечно, варила варенье.
Воду приходилось таскать из колодца. Родители приезжали на выходные, в пятницу. Сначала на электричке, потом на машине. Мы с сестрой ходили на «большак» их встречать. Скучали по ним очень. Да и к тому же – подарки и вкусности были гарантированы. Правда, с бабушкой вольницы было побольше.
Обязательно имелось озеро или пруд – тогда в подмосковных водоемах купаться было не страшно. В Зеленоградской озеро было глубокое, с очень холодной водой, и мальчишки переплывали его на спор, выпендриваясь перед нами, девчонками. А еще помню бесконечное гороховое поле, темный и влажный грибной лес, сухие, залитые солнцем земляничные поляны.
По выходным обязательно приезжали гости, родительские друзья. И начинались шашлыки, анекдоты и песни под гитару. Мы, дети, жадно ловили взрослые разговоры. Особенно я прислушивалась к разговорам «за политику». Понимали, что родители чем-то не очень довольны, громко и обреченно вздыхают, что-то критикуют и над чем-то грустно посмеиваются.
Помню, что испытывала большое удивление – я искренне и довольно долго считала, что мне несказанно повезло – родиться в самой свободной и самой прекрасной стране на свете. Ведь там, в далеких Америках, живут бедные и несчастные люди! Голодают безработные, дети-бродяжки рыщут в помойках в поисках еды. А мы, мы же счастливцы! Нам выпало родиться именно здесь, в Советском Союзе!
Для счастливого детства не важен политический строй. Для счастливого детства важны семья и любовь. А обо всем остальном мы стали задумываться куда позднее. Нам, детям, душно не было – душно, наверное, было нашим родителям. Ну, а мы до поры пребывали в неведении. Нам было счастливо и хорошо.
Жизнь и вправду была прекрасна – счастливое детство! Двор, любимая школа, подруги. Мороженое и пирожки, каток, на каникулы абонемент в кинотеатр «Ленинград», где очень рано – в восемь утра – шли прекрасные сказки Роу. Вставать не хотелось – на улице холодно и совсем темно, но вставали и бежали. Это был праздник. А еще дача и море на каникулах. Мама, папа, сестра и любимейшая бабушка. Кукла Зоя – не немецкая резиновая с открывающимися глазами и блестящими, «настоящими» волосами, нет. Пластмассовая, лупастая, «нашенская» Зоя с негнущимися ногами и приличной плешью на голове. Похожая, как две капли, на свою тезку – продавщицу из овощного. С таким же стервозным и глупым лицом. Но – любимая, наверное, из жалости.
В августе уезжали в Бердянск, на Азовское море – к бабушкиной сестре. Трехкомнатная квартира в самом центре непонятным образом вмещала немыслимое количество народу – кроме нас с сестрой и бабушки, туда съезжались внуки бабушкиной сестры из Мурманска, Минска и Ленинграда. Все дети спали в одной комнате – на кровати, диване, раскладушках.
В шесть утра наши бабушки, родные сестры, тогда еще – статные, полные сил и бодрости духа красавицы, отправлялись на базар. И после семи заступали на вахту. Борщи в огромных кастрюлях, смахивающих на баки для кипячения белья, компоты, тазы котлет и жареных бычков – «бичков», если по-местному, чебуреки, пирожки, пончики. Бадейки с кукурузой – пшенкой, как ее здесь называли.
Из крана лилась соленая вода, готовить на ней было невозможно. Питьевую воду привозили во дворы на машинах, и выстраивались очереди с бидонами, ведрами и баками. В местной воде только стирали.
По вечерам в выходные во двор привозили кино. Мы рассаживались на шаткие скамейки и ждали, пока механик повесит на ржавую опору тряпичный экран. Аппарат скрипел, кряхтел, визжал и ломался. Пленка рвалась. Фильмы были старыми, даже древними. Новые – за деньги в кинотеатрах, пожалуйста! А тут – халява, тут даром.
И все равно была радость.
Рядом, под окнами, раскинулся «централ-парк» – парк имени Отто Юльевича Шмидта. Цветущие и душистые розы, сладкая газировка в стеклянных конусах, мороженое. Иногда по выходным в парке играл духовой оркестрик. Некоторые пары отваживались танцевать. По вечерам под нашими окнами гудела центральная танцплощадка. Спать не давала, но мы не расстраивались. Завидовали тем, кто там «зажигал», нас не пускали – соплячки.
Городок этот мы обожали. В свободе нас не ограничивали и перемещения наши не отслеживали. К чему? Было тихо, и никогда ничего не случалось. Минуты две от дома – центр, с базаром, бульваром, набережной и прочими радостями в виде кафешек, молочных коктейлей, соков и булочек. Кинотеатры – на каждом шагу. Фильмы – индийские, мексиканские, аргентинские – идут без перерывов, билет стоит десять копеек. Деревянные лавки, хруст семечек, переговоры и обсуждения – в голос. В кино мы бегали раза два на дню. А то и по три.
Почему-то было много кафетериев – кофе, конечно же, из титана – и торты! Об этих красавцах стоит рассказать отдельно. Торт на витрине, как правило, был мощным, огромным – на три или пять килограммов. А украшен – нет слов! Таких украшений, такого обилия крема, таких пышных роз, пионов, георгинов, сирени на московских тортах я не помню. А буйство красок: огненно-красные, ярко-желтые розы, оранжевые, фиолетовые гиацинты, бордовые георгины, белые и красные пионы. Фантазия безумного кондитера, поклонника импрессионизма, не сумевшего осуществить мечту стать художником?
Торт нарезался в продажу кусками. Есть его было страшновато, честно, главное, не думать об этом как о съедобном – так, инсталляция.
На пляж собирались бесконечно шумно и долго – такая орава! Долго и тщательно складывали сумки с фруктами – виноградом, персиками и грушами. Как же заморенным детям без витаминов, о чем вы? По дороге на пляж местные старушки торговали семечками и кукурузой, и мы начинали клянчить у бабушек. Нас не останавливало то, что дома уже сварена целая лохань. Нет, мы хотим сейчас и эту! Бабушки наши в конце концов сдавались, и мы хватали горячие початки и натирали их крупной каменной солью. Кукуруза была очень плотной, почти безвкусной, мясистой и жестковатой – ни в какое сравнение с нынешней, сладкой и нежной. Но вкуснее той кукурузы не могу представить. На пляже всегда было много народу – негде расстелить полотенце. Мы строили что-то из песка, неохотно заходили в море, а потом еще более неохотно из него вылезали – это называлось «до синих губ». Бабушки растирали нас полотенцами и совали в руки по «фруктине». С пляжа шли медленно – от солнца и воды уставали. Обедать нас загоняли – а есть совсем не хотелось, тем более после винограда, сладких персиков, кукурузы. Но бабушки были неумолимы – не дай бог, дитя похудеет! Хотя бы – на грамм.
Фотография тех лет под названием «Завтрак». На переднем плане – тарелка, скорее – миска. Именно миска – не мисочка! А в ней – рыночный творог. Вернее – гора творога. Масса на полкило, и никак не меньше. И все это великолепие полито жирными сливками (процентов, думаю, сорок, не меньше; меньше на рынке просто не было), приправлено клубникой или другой «фруктиной», присыпано орешками – для калорийности, а еще для чего? А за миской – ребенок. Несчастный ребенок шести лет от роду, то есть я. На лице моем, тогда еще – на личике, – гримаса отчаянья, страха и боли. Как это съесть? Немыслимо. Еще на лице ужас от предчувствия рвоты. А съесть надо! Иначе… Мама в этих вопросах не уступала. Ребенка требовалось откормить. Привезти в Москву эдакой… пышкой. Булкой румяной. Отрадой для глаза. Чтоб родня хвалила, соседи завидовали, прохожие всплескивали руками – красота-то какая!