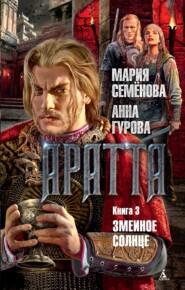По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Завтрашний царь. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Объяснял он верно. Державец лишь строго добавил:
– Утин при?скак справному воину не вчини. Дальше кожи посягать не велю.
В пояснице, как всюду в человеке, много всякого разного. Кости, мясо, боевые и чернокровные жилы, уязвимое беложилье. Ещё не хватало, чтобы завтра Бухарка согнулся, а разогнуться не смог.
Шагала сосредоточенно мял ухо старшего ученика. В вороте грубой тельницы мелькал оберег: небольшая косточка на шнурке. Лыкаш эту косточку обходил взглядом как мог. Он-то знал, откуда она.
В покоях Ветра теперь было что-то вроде малой молельни. Лихарь смиренно остался в Торговой башне, и его жилище выглядело совершенно как прежде. Узкое дощатое ложе, оружие по голым стенам… список «Великой Стреты», недавно завершённый Надейкой… из божницы в углу – строгий взор Владычицы Мораны, единой во множестве ликов.
Получив дозволение войти, воронята прижались один к другому возле порога. Ждали наказания. Так-то они ничего вроде не натворили, но Лихарь найдёт. За то, что метель у Шерёшки пересидели… за прозвище непотребное… Сейчас как отрешит от унотства! Оружие прикажет сложить. К робушам отправит…
Лихарь, по своему обыкновению, не сразу к ним повернулся. Сидел на топчане, обложившись книгами, старинными свитками. В очередь раскрывал, сравнивал написанное, искал что-то и хмурился, не находя. По полу гуляли сквозные токи, но закалённый воздержник сидел босой, в простой белой тельнице, лишь выделялись на локотнице ножны боевого ножа.
«Волчий зуб и лисий хвост…» Воронята уставились на знакомую рукоять. В животах гадостно и согласно урчало. Ножны были новые, потому что старые испортила кровь.
Лихарь наконец закрыл большую пыльную книгу.
Поднял глаза.
Неожиданно улыбнулся.
Стало ещё страшней.
– Кары ждёте? – спросил грозный учитель. – Я без вины не караю.
Встал, прошёлся туда-сюда. Две пары глаз следили за его рукой, за ножом дяди Ворона. Другой опоры здесь не было.
– Вы, – продолжал Лихарь, – так долго ютились под чёрным крылом, что стали ждать казни из-за чужой нелюбви. А я хочу орудье вам дать. Пойдёте на Коновой Вен.
Ирша и Гойчин разом сглотнули, ожидая страшного продолжения: «Семьян отступника… мать, отца…»
Лихарь взял со стола узкий берестяной туесок, закупоренный с обеих сторон. В таких, сохранные от случайной порчи и недолжного любопытства, путешествовали важные письма.
– Орудье несложное, требует лишь ответствия. Подойдите. – Поперёк стола, шурша, развернулось начертание левобережных земель. – Вот здесь, по дороге в Вагашу, встретите купца Нечая. Скажетесь роднёй из Нетребкина острожка, он поймёт. С поездом добежите до Торожихи. Там дело вам – торговыми рядами похаживать, об острожке своём рассуждать. Кто надо, услышит, к вам подойдёт, станет спрашивать, как тёткина коза поживает. Отдадите письмо, ответ примете да мне принесёте. Совладаете ли?
Уноты согласно припали на левое колено, прижали к груди кулаки, одним голосом метнули словесный образ готовности:
– Волчий зуб, лисий хвост во имя Царицы!.. Совладаем, учитель!
– Мирское платье и припас державец вам даст. Завтра, как светать начнёт, и пойдёте.
Несколько времени спустя к Лихарю осторожно вошёл стень. Принёс ещё стопку книг, озаглавленных сходно: «Снадобья одурные и острые», «Зелья отрутные, сиречь яды».
– Учитель… дозволишь ли спросить…
– О чём, Хотён?
Стень помялся, но решимость возобладала:
– Ты же не Ворона семью казнить их отправил?
В светлых волосах Лихаря почти не видна была седина, густо опутавшая голову после гибели Ветра. Он усмехнулся, не отрываясь от книги:
– Ты заботлив, Хотён. Когда-нибудь это сделает тебя хорошим источником. Многие мне советовали вырубить корень, давший скверную поросль. Моё сердце тоже пылало жаждой расправы… да и новые ложки, коих ты скоро доставишь, легче уразумели бы свою крепость котлу. Однако наставник, пребывающий ныне с Матерью нашей, не звал бы меня сыном, умей я внимать лишь голосу сердца.
Хотён напряжённо морщил лоб. Он исполнял вышнюю волю, как послушная и сноровистая рука, за что стенем и стал. Однако быстрой смекалкой, подобно Ворону или даже Пороше, похвалиться не мог.
– Учись мыслить превыше обиходного чувства, Хотён, даже если это праведная и законная месть. Дикомыт, источник нашего горя, в глазах простецов есть слава воинского пути. Тень во тьме, рука ниоткуда, воля Владычицы!.. Люди знают про нас только то, что мы им сами показываем. Теперь скажи, нужно нам объявлять на всё Левобережье, что гордость тайного воинства сгнила изнутри, а мы и не знали?
Должок Кербоги
Каждая скоморошья ватага, сущая в Левобережье, держится своих кормовищ и на чужие не лезет. Общий сбор и совет может перекроить многолетние тропки, но такое происходит нечасто. Есть ватаги сильные и зубастые, как у Шарапа. Этим бояться нечего, они сами кого хочешь и слушать заставят, и мзду соберут. А есть ватаги всего в два-три человека, да и тех – один старик, другая девчонка. Им вовсе беда у чужого зеленца, где скоморохам не рады.
До Линовища, куда Кербога был зван к празднику обетования, оставалось трое суток пути.
Дороги год от года становились всё тяжелей, но когда близок дружеский кров, где тебя ждут, где верят твоим новостям и радуются гудьбе…
Для стоянки выбрали оттепельную поляну в лесу, немного в стороне от прогалины, бывшей некогда большаком. Кербога хорошо помнил эту поляну. Когда-то она была почти вровень с подъездом, время и снегопады превратили её в глубокую чашу, полную густого тумана. Тёплый пар вставал шапкой, как опара в квашёнке, лился через края, тянул кверху щупальца, постепенно истаивал. Внизу, на едва отогретой земле, пытались расти стойкие пупыши.
Кербога с дочерью распрягли косматых быков, пустили отдыхать и пастись. Оботуры привычно ушли по скользкому спуску. Их цепкие копыта никакого льда не боялись, а впереди манила свежая пища. Следом ускакал пёс, прибившийся к скоморошне с месяц назад. Кербога проводил его взглядом. Лохматый чёрный кобель был очень смышлёный, из тех, что тянутся к людям. Бегал, поди, в упряжке рулевым, если не вожаком. Арела уже выучила его кувыркаться и вставать на задние лапы. Так дело пойдёт, скоро под дудочку запляшет на потеху народу.
Дыхание оттепели на глазах одевало инеем болочок, въехавший с мороза. Густой пух прятал птиц и цветы, нарисованные яркими красками на выпуклых боках. Хороший возок. Ходкий, тёплый, надёжный…
Во всяком случае, иного дома Кербога не знал вот уже пятнадцать лет.
Железная труба, высунутая наружу, попыхивала дымком, запахами жилья. Внутри рдела жаровенка, дед Гудим стружил рыбу, дочь Арела толкла мёрзлый приварок, чтобы развести кипятком.
Изрядный локоть дороги, благополучно оставленный позади. Жидкое грево, готовое вот-вот наполнить желудок. Чего ещё?
Кербога не спешил в тёплую тесноту. Пользуясь мимолётным досугом, неторопливо похаживал кругом скоморошни, думал, бормотал вполголоса. Обретал слово за словом, испытывая восторги старателя, нащупавшего самоцветную россыпь.
Представление для Линовища, рождённое долгими переходами, было почти готово. О чём? Тот же Шарап выводил на подвысь насущное, такое, что случилось вчера и ещё владело умами. Кербога давным-давно избрал иной путь. «Мы андархи, – говорил он даровитому ученику, – и я не хочу, чтобы это имя стало лишь словом. Сейчас люди разобщены, сидят по заглушьям, забывая, из какой славной древности вышли…»
Шарап почтительно выслушивал – и слагал новую песню о заботах живого дня.
Рядом с ним Кербога порой чувствовал себя усталым и старым и начинал думать, что ученик, возможно, был прав.
– Упёрся сын… и царь – ни с места… Невесту… несовместно…
Кербога в сотый раз повторял стихи, которые собирался облечь действом на подвыси. Спотыкался на созвучьях, внезапно казавшихся грубоватыми. В Линовище обитали не самые изощрённые ценители красного склада, однако уповать, подобно Брекале, будто «слепой курице всё пшеница», Кербоге претило. Дар вдохновения за поблажки ох мстит…
– На свадьбе той широкой, – вглядываясь в гаснущие облака, бормотал стихотворец. – Жестоко? Одиноко?.. Да кого ж я здесь уговорю ослеплённого мне сыграть?
Арела высунулась из болочка, держа рыбью голову:
– Жучок! Жучок?
Кобель, всегда охочий до угощения, не отозвался. Арела чуть обождала, бросила голову на снег и скрылась. Кербога поправил треух, вновь пошёл кругом скоморошни.
– Утин при?скак справному воину не вчини. Дальше кожи посягать не велю.
В пояснице, как всюду в человеке, много всякого разного. Кости, мясо, боевые и чернокровные жилы, уязвимое беложилье. Ещё не хватало, чтобы завтра Бухарка согнулся, а разогнуться не смог.
Шагала сосредоточенно мял ухо старшего ученика. В вороте грубой тельницы мелькал оберег: небольшая косточка на шнурке. Лыкаш эту косточку обходил взглядом как мог. Он-то знал, откуда она.
В покоях Ветра теперь было что-то вроде малой молельни. Лихарь смиренно остался в Торговой башне, и его жилище выглядело совершенно как прежде. Узкое дощатое ложе, оружие по голым стенам… список «Великой Стреты», недавно завершённый Надейкой… из божницы в углу – строгий взор Владычицы Мораны, единой во множестве ликов.
Получив дозволение войти, воронята прижались один к другому возле порога. Ждали наказания. Так-то они ничего вроде не натворили, но Лихарь найдёт. За то, что метель у Шерёшки пересидели… за прозвище непотребное… Сейчас как отрешит от унотства! Оружие прикажет сложить. К робушам отправит…
Лихарь, по своему обыкновению, не сразу к ним повернулся. Сидел на топчане, обложившись книгами, старинными свитками. В очередь раскрывал, сравнивал написанное, искал что-то и хмурился, не находя. По полу гуляли сквозные токи, но закалённый воздержник сидел босой, в простой белой тельнице, лишь выделялись на локотнице ножны боевого ножа.
«Волчий зуб и лисий хвост…» Воронята уставились на знакомую рукоять. В животах гадостно и согласно урчало. Ножны были новые, потому что старые испортила кровь.
Лихарь наконец закрыл большую пыльную книгу.
Поднял глаза.
Неожиданно улыбнулся.
Стало ещё страшней.
– Кары ждёте? – спросил грозный учитель. – Я без вины не караю.
Встал, прошёлся туда-сюда. Две пары глаз следили за его рукой, за ножом дяди Ворона. Другой опоры здесь не было.
– Вы, – продолжал Лихарь, – так долго ютились под чёрным крылом, что стали ждать казни из-за чужой нелюбви. А я хочу орудье вам дать. Пойдёте на Коновой Вен.
Ирша и Гойчин разом сглотнули, ожидая страшного продолжения: «Семьян отступника… мать, отца…»
Лихарь взял со стола узкий берестяной туесок, закупоренный с обеих сторон. В таких, сохранные от случайной порчи и недолжного любопытства, путешествовали важные письма.
– Орудье несложное, требует лишь ответствия. Подойдите. – Поперёк стола, шурша, развернулось начертание левобережных земель. – Вот здесь, по дороге в Вагашу, встретите купца Нечая. Скажетесь роднёй из Нетребкина острожка, он поймёт. С поездом добежите до Торожихи. Там дело вам – торговыми рядами похаживать, об острожке своём рассуждать. Кто надо, услышит, к вам подойдёт, станет спрашивать, как тёткина коза поживает. Отдадите письмо, ответ примете да мне принесёте. Совладаете ли?
Уноты согласно припали на левое колено, прижали к груди кулаки, одним голосом метнули словесный образ готовности:
– Волчий зуб, лисий хвост во имя Царицы!.. Совладаем, учитель!
– Мирское платье и припас державец вам даст. Завтра, как светать начнёт, и пойдёте.
Несколько времени спустя к Лихарю осторожно вошёл стень. Принёс ещё стопку книг, озаглавленных сходно: «Снадобья одурные и острые», «Зелья отрутные, сиречь яды».
– Учитель… дозволишь ли спросить…
– О чём, Хотён?
Стень помялся, но решимость возобладала:
– Ты же не Ворона семью казнить их отправил?
В светлых волосах Лихаря почти не видна была седина, густо опутавшая голову после гибели Ветра. Он усмехнулся, не отрываясь от книги:
– Ты заботлив, Хотён. Когда-нибудь это сделает тебя хорошим источником. Многие мне советовали вырубить корень, давший скверную поросль. Моё сердце тоже пылало жаждой расправы… да и новые ложки, коих ты скоро доставишь, легче уразумели бы свою крепость котлу. Однако наставник, пребывающий ныне с Матерью нашей, не звал бы меня сыном, умей я внимать лишь голосу сердца.
Хотён напряжённо морщил лоб. Он исполнял вышнюю волю, как послушная и сноровистая рука, за что стенем и стал. Однако быстрой смекалкой, подобно Ворону или даже Пороше, похвалиться не мог.
– Учись мыслить превыше обиходного чувства, Хотён, даже если это праведная и законная месть. Дикомыт, источник нашего горя, в глазах простецов есть слава воинского пути. Тень во тьме, рука ниоткуда, воля Владычицы!.. Люди знают про нас только то, что мы им сами показываем. Теперь скажи, нужно нам объявлять на всё Левобережье, что гордость тайного воинства сгнила изнутри, а мы и не знали?
Должок Кербоги
Каждая скоморошья ватага, сущая в Левобережье, держится своих кормовищ и на чужие не лезет. Общий сбор и совет может перекроить многолетние тропки, но такое происходит нечасто. Есть ватаги сильные и зубастые, как у Шарапа. Этим бояться нечего, они сами кого хочешь и слушать заставят, и мзду соберут. А есть ватаги всего в два-три человека, да и тех – один старик, другая девчонка. Им вовсе беда у чужого зеленца, где скоморохам не рады.
До Линовища, куда Кербога был зван к празднику обетования, оставалось трое суток пути.
Дороги год от года становились всё тяжелей, но когда близок дружеский кров, где тебя ждут, где верят твоим новостям и радуются гудьбе…
Для стоянки выбрали оттепельную поляну в лесу, немного в стороне от прогалины, бывшей некогда большаком. Кербога хорошо помнил эту поляну. Когда-то она была почти вровень с подъездом, время и снегопады превратили её в глубокую чашу, полную густого тумана. Тёплый пар вставал шапкой, как опара в квашёнке, лился через края, тянул кверху щупальца, постепенно истаивал. Внизу, на едва отогретой земле, пытались расти стойкие пупыши.
Кербога с дочерью распрягли косматых быков, пустили отдыхать и пастись. Оботуры привычно ушли по скользкому спуску. Их цепкие копыта никакого льда не боялись, а впереди манила свежая пища. Следом ускакал пёс, прибившийся к скоморошне с месяц назад. Кербога проводил его взглядом. Лохматый чёрный кобель был очень смышлёный, из тех, что тянутся к людям. Бегал, поди, в упряжке рулевым, если не вожаком. Арела уже выучила его кувыркаться и вставать на задние лапы. Так дело пойдёт, скоро под дудочку запляшет на потеху народу.
Дыхание оттепели на глазах одевало инеем болочок, въехавший с мороза. Густой пух прятал птиц и цветы, нарисованные яркими красками на выпуклых боках. Хороший возок. Ходкий, тёплый, надёжный…
Во всяком случае, иного дома Кербога не знал вот уже пятнадцать лет.
Железная труба, высунутая наружу, попыхивала дымком, запахами жилья. Внутри рдела жаровенка, дед Гудим стружил рыбу, дочь Арела толкла мёрзлый приварок, чтобы развести кипятком.
Изрядный локоть дороги, благополучно оставленный позади. Жидкое грево, готовое вот-вот наполнить желудок. Чего ещё?
Кербога не спешил в тёплую тесноту. Пользуясь мимолётным досугом, неторопливо похаживал кругом скоморошни, думал, бормотал вполголоса. Обретал слово за словом, испытывая восторги старателя, нащупавшего самоцветную россыпь.
Представление для Линовища, рождённое долгими переходами, было почти готово. О чём? Тот же Шарап выводил на подвысь насущное, такое, что случилось вчера и ещё владело умами. Кербога давным-давно избрал иной путь. «Мы андархи, – говорил он даровитому ученику, – и я не хочу, чтобы это имя стало лишь словом. Сейчас люди разобщены, сидят по заглушьям, забывая, из какой славной древности вышли…»
Шарап почтительно выслушивал – и слагал новую песню о заботах живого дня.
Рядом с ним Кербога порой чувствовал себя усталым и старым и начинал думать, что ученик, возможно, был прав.
– Упёрся сын… и царь – ни с места… Невесту… несовместно…
Кербога в сотый раз повторял стихи, которые собирался облечь действом на подвыси. Спотыкался на созвучьях, внезапно казавшихся грубоватыми. В Линовище обитали не самые изощрённые ценители красного склада, однако уповать, подобно Брекале, будто «слепой курице всё пшеница», Кербоге претило. Дар вдохновения за поблажки ох мстит…
– На свадьбе той широкой, – вглядываясь в гаснущие облака, бормотал стихотворец. – Жестоко? Одиноко?.. Да кого ж я здесь уговорю ослеплённого мне сыграть?
Арела высунулась из болочка, держа рыбью голову:
– Жучок! Жучок?
Кобель, всегда охочий до угощения, не отозвался. Арела чуть обождала, бросила голову на снег и скрылась. Кербога поправил треух, вновь пошёл кругом скоморошни.