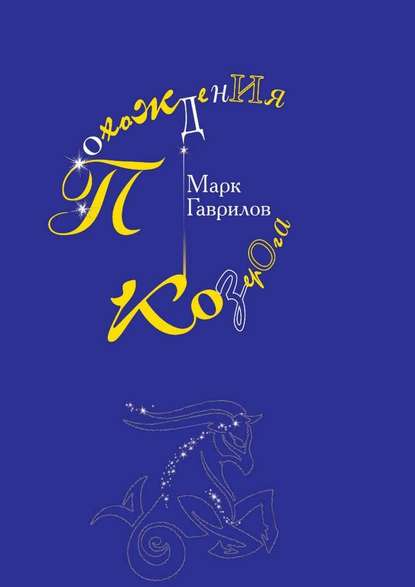По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Похождения Козерога
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никакой родственной радости, на которую я рассчитывал, и о каковой прожужжал уши друга, тут не наблюдалось. Бабушка Дора Калмановна явно не собиралась накрывать гостеприимный стол. Приезд обожаемого ею, в недалёком прошлом, внука, отчего-то расстроил старушку.
Помявшись, и перебросившись ничего не значащими фразами, мы отправились на вокзал. Ждать Арона с его женой Роней было бессмысленно. Раз нет места, и не надо.
Мне было невероятно стыдно. Ехать к другим своим дядьям расхотелось – неизвестно, какой приём ожидает там…
Решили переждать до утреннего московского поезда на жёстких вокзальных скамьях. Расположились, задремали. Как вдруг над нами раздался голос дяди Арона:
– Нет, вы полюбуйтесь на этого молодого человека вместе с его другом! Думаете, они бездомные, думаете, в нашем Минске им негде голову положить, и потому они ночуют на вокзале? Так я вам скажу, граждане-товарищи, у этого молодого человека целых три дядя в нашем Минске, и каждый будет рад племяннику вместе с его другом. Так что же делает наш дорогой племянник? Он едет ко мне, когда меня нет дома, а есть моя мать, его бабушка Дора Калмановна, дай ей бог здоровья. Но эта достойная женщина, к моему сожалению, немножко не в себе, и она ему говорит, что в нашем доме не найдётся места для родного племянника и его друга. И тогда что делает этот умник? Враги такое не придумают! Он вместе со своим другом идёт ночевать на вокзал…
Дядя Арон с подопечными по тренерской работе.
Если бы я запомнил и воспроизвёл здесь весь цветастый монолог дяди Арона, это заняла бы намного больше места. Коротко этот человек не умел выражаться. А бабушка Дора Калмановна, смущённо разводя ручками, говорила, когда мы вновь переступили порог дома:
– Простите меня… И что на меня нашло, сама не пойму… Я ж совсем и не узнала тебя, Маричек. Ты совсем взрослый вырос, на тебя, наверное, девочки заглядываются… А товарищ твой тоже аид? Да? Вполне симпатичный молодой человек…
В общем, всё обошлось в лучшем виде.
В Москве мы куролесили, но, убей бог, не могу вспомнить, в чём это выражалось.
Вернулись в Калининград по окончании зимних каникул. И тут нам объявили: «Вы исключены из школы». Обе мамы кинулись на выручку к директору Безгребельному. Былой авторитет моей маман, считайте, к тому времени уже был сильно подпорчен— ведь теперь она числилась всего лишь бывшей женой бывшего прокурора района. Вероятнее всего, на ход событий оказала влияние мать Колесникова – не забывайте, она заведовала аптекой, через неё можно было достать дефицитные лекарства! А посему, ходатайство весьма уважаемой Софьи Давыдовны за шалопая сына Бориса и за такого же охламона, его друга Марка Гаврилова увенчалось успехом. Нас оставили в школе «до первого серьезного нарушения дисциплины и внутреннего распорядка».
Так Борис в какой-то мере отплатил за спасение от той, якобы, ножевой атаки отчима. Однако впереди ждали нелёгкие испытания, которые обрушились на наши легкомысленные головы, да и на всю Страну Советов, в связи с небывало горестным событием – смертью Иосифа Виссарионовича Сталина.
Но прежде, чем рассказывать об этом, хочу вспомнить одну встречу, где ярко проявился предприимчивый нрав Бориса Колесникова. Наш город осчастливили визитом прославленные композиторы Константин Листов («В землянке», «Ходили мы походами», «Севастопольский вальс») и Сигизмунд Кац («Сирень цветёт», «Шумел сурово Брянский лес»).
К. Листов и С. Кац в Калининграде.
Чего им понадобилось в самом западном городе страны – не знаю. Очевидно, занесло по программе Союза Композиторов, «сеять разумное, вечное» во всех уголках нашего необъятного государства.
Боря загорелся: «Надо показать мои стихи этим композиторам». Он ведь накатал десятки стихотворений, которые считал «песнями пока без музыки». Кстати, он написал их за свою творческую жизнь ровным счётом 99 штук, и все остались без мелодий.
Когда ему чего-либо хотелось добиться, он шёл напролом. Вскоре мы сидели в номере калининградской гостиницы «Москва», расположенной напротив моего любимого зоопарка. Чего я потащился с Борисом к этим московским композиторам? У меня ведь не было текстов для создания песен…
Сигизмунд Кац неторопливо листал пачку отпечатанных бориных стихов, вглядывался, морщился.
– Что – плохо напечатано? – спросил Борис.
– Напечатано прекрасно, – ответил композитор, – написано плохо.
Всё песенное творчество Колесникова было отвергнуто и Кацом, и Листовым. Потом нам рассказывали, как Сигизмунд Абрамович, выступая на вечере встречи с музыкальной общественностью города, после тостов на фуршете, сел за рояль, и, проигрывая длинный аккорд,… свалился со стула. Не желая признаться, что несколько перебрал горячительного, Кац глубокомысленно изрёк:
– У вашего рояля клавиатура коротковата.
Услышав об этом инциденте, Боря сердито заметил:
– Пить не умеет, а – туда же – берётся оценивать стихи!
Получив отлуп у выдающихся советских композиторов, наш поэт-песенник не разочаровался в своих текстах. Его упёртости, вообще, мог бы позавидовать любой творец. Каким-то образом он заполучил адрес патриарха отечественной лёгкой музыки Исаака Дунаевского. Написал ему, предлагая создать песни на свои стихи. Как ни удивительно, патриарх ответил, и не двух-трёхстрочной вежливой отпиской, а письмом на стандартном линованном листе нотной бумаги, наверное, в полтора раза больше обычной писчей странички. Великий композитор подробно объяснял нежданному адресату, свою позицию. Он писал, что, мол, некоторые ваши тексты ничуть не хуже тех, с коими мне обычно приходиться работать. Но их авторы профессионалы, которые на этом зарабатывают, кормят свои семьи. Почему же при общем, приемлемом качестве их и ваших произведений, я вдруг отдам предпочтение не профессионалам, а вам – любителю? Вот если бы уровень ваших текстов оказался гораздо выше, чем привычная продукция, тогда – другое дело…
Колесников, однако, не оставил в покое Дунаевского, и вновь послал ему пачку стихов. Удивительно, что у достаточно занятого человека достало времени на повторный, объёмный, ответ настырному адресату. Более того, в пространном послании он снова проявил такт и уважение к авторскому самолюбию подростка, скрупулёзно разбирая Борино творчество, и обосновывая осторожный отказ заниматься созданием песен на стихи Б. Колесникова.
Эти два письма он впоследствии, узнав об открытии квартиры-музея Исаака Осиповича Дунаевского, пытался сначала продать администрации оба письма мэтра. Однако получил отказ в денежной сделке. Поняв, что на письмах не обогатишься, Борис просто отдал их в экспозицию.
Врачи-убийцы могли спасти Сталина!?
В Калининграде не было того жуткого столпотворения, когда масса людей, рвущихся к Колонному залу Дома Союзов, чтобы проститься с вождём, учителем, отцом родным товарищем Сталиным, сдвигала заслоны из тяжёлых грузовиков. Не было растерянных милиционеров на вздыбленных лошадях. Не было раздавленных обезумевшими в тот чёрный день толпами советских граждан. Но было в Калининграде другое, не менее грандиозное проявление всенародной любви к умершему Иосифу Виссарионовичу.
На главную площадь города стихийно начали стекаться калининградцы, пока не заполнили её до краёв. Простой советский человек привык встречать и радость, и беду коллективно. Недаром у нас живуча поговорка «На миру и смерть красна». Не исключаю, что кого-то в те дни охватывали совсем другие чувства, кто-то даже радовался кончине того, кого они считали кровавым диктатором. Но это станет явным много позже. Перед глазами же и сейчас всплывает картина всенародного горя.
То было жуткое зрелище: громадное скопление людей, безмолвно стоящих на площади, в ожидании неизвестно чего. Трибуна у подножья величественного бронзового памятника вождю была пуста.
Памятник И. В. Сталину в Калининграде.
Вероятнее всего, в обкоме и горкоме партии, в обл- и горисполкомах, в соответствии с партийной дисциплиной, не могли сообразить, да просто не смели решиться, в такой непредвиденной ситуации, на какие-либо шаги. Ждали по привычке указаний из центра. А указаний не поступало. Кремль, скорее всего, хранил молчание, ибо впервые оставшись без направляющей руки Сталина, обезглавленный ЦК КПСС находился в не меньшем смятении, чем местная партийно-советская номенклатура. Там не могли оправиться от потрясения при виде новой, грандиозной «Ходынки», развернувшейся на пол-Москвы.
В гробовом молчании, стояли жители Калининграда на площади несколько часов. Наконец, на трибуну взошли понурые обкомовцы и облисполкомовцы. Начался траурный митинг. Поднимавшиеся из толпы к микрофону едва сдерживали слёзы, говоря о покинувшем нас товарище Сталине. А иные безудержно рыдали. То был редкий случай, когда из динамиков звучали слова искренние, сказанные от всего сердца. Ясно, что обычных, как правило, хорошо подготовленных, отредактированных и отрепетированных речей на этот раз просто и не могло быть.
Школьные занятия в те траурные дни, по-моему, отменили. Сойдясь, наконец, в классе, мы, выпускники, принялись горячо обсуждать последние трагичные события. Ни для кого из нас не было вопроса, что случилось, всем было ясно – страна осиротела. Ведь в нашем классе не учились дети репрессированных, дети «врагов народа», поэтому здесь не оказалось инакомыслящих. Мы были не только законопослушными, но ещё и патриотичными, насквозь советскими юнцами. У нас не вызывали сомнения решения партии и правительства, даже если они призывали к беспощадной борьбе с так называемыми антисоветскими настроениями. Мы были убеждены в том, что призваны строить светлое будущее человечества, против которого яростно выступает враждебное буржуазное окружение. Хотя не надо считать, будто все мы являли собой массу безмозглых молодых людей, не умеющих и не способных увидеть и понять, что происходит вокруг. Только воспринимали иные события с позиций официальной пропаганды. Ничего не поделаешь, дети – продукт и домашнего, и государственного воспитания… Мы, например, с одобрением восприняли известие о том, что директора кинотеатра «Победа», в который мы бегали из школы, посадили за антисоветскую пропаганду. Он слушал радиопередачи «Голоса Америки», и пересказывал их содержание сослуживцам, друзьям, знакомым. Сошлись мои одноклассники на том, что и слушать антисоветчину незачем, а уж заниматься распространением вражьих слухов и сплетен, подавно, глупо и преступно. Одним словом, поделом ему!
Надо, однако, признаться, что меня так и подмывало оспорить высказывания о том, что зарубежные радиостанции только врут. Но я осознавал опасность такого спора. Ведь именно за подобные рассуждения и погорел несчастный директор кинотеатра «Победа». Дело в том, что отец в первый год пребывания нашей семьи в Калининграде по большому блату приобрёл ламповый приёмник «Минск». Однажды мне довелось стать невзначай невольным свидетелем того, что папаня мой слушает радиостанцию «Голос Америки». Нет, меня не прельщали лавры Павлика Морозова, о подвиге которого нам долдонили, чуть ли не с детсада. У меня и поползновений к доносительству не возникало. Наоборот, я был благодарен отцу за то, что он открыл иной, неведомый мир, где говорят и рассуждают не по нашим трафаретам. Впрочем, можете считать, родитель дал, по тем временам, очень дурной пример: сын приобщился потихоньку к слушанию вражеских голосов. Из любознательности я нащупал в эфире, кроме «Голоса Америки», радиостанции «Свобода» и «Би-Би-Си».
В потоке брехни проскальзывали в тех передачах и кое- какие факты, которые сильно смахивали на правду, но были не известны советским людям. Не говорю о развёрнутых сообщениях «голосов» о массовых репрессиях 30-х годов. Тут до сих пор есть разночтения, не утихают споры о подлинности и масштабах этих «сталинских репрессий». И мне эта реабилитация «врагов народа» не казалась убедительной. Но наряду с этим, голоса вещали о разбившихся наших самолётах, дорожно-транспортных происшествиях, как нынче говорят – резонансного уровня, о других авариях и событиях, которые замалчивались в СССР. Это, в основном, и удерживало меня у радиоприёмника. Ну, как же, мне становилось известным то, о чём близкие, да что там, все вокруг даже не догадывались! Гордость распирала, но благоразумие, к счастью, не покидало мою заносчивую, падкую на дешёвое хвастовство натуру. Ни с кем не делился услышанным по «голосам».
Однако, эта политосторожность сочеталась в моей непутёвой башке с неистребимым стремлением во всём быть оригинальным, не похожим на сверстников. Беспрерывно влезал в споры, с пеной у рта отстаивая свою, нередко сомнительную, мысль. Лишь бы она не была избитой, стандартной, лишь бы от неё попахивало новизной. «Мальчик наоборот» – это, в значительной степени, про меня. Скажем, в Калининграде считалось модным, в подражание морякам, носить клёши. Я же щеголял в зауженных штанах. Достигло наших берегов поветрие залезать в узкие брюки-дудочки, я же, бросая вызов общественному вкусу, влез в вытащенные из домашних закромов заброшенные клёши, шириной в Балтийское море. Или взять причёску. Во время войны и по окончании её мальчики стриглись коротко – «бокс», «полубокс». Не-е, так не по мне, отращу-ка шевелюру, как у Чернышевского или Добролюбова. Когда кто-то из учителей попытался сделать замечание по поводу «неопрятно лохматой» головы, последовал дерзкий вопрос:
– А у Карла Маркса тоже неопрятно лохматая голова?
На бедного учителя напал столбняк.
Нахала Гаврилова оставили в покое: носи, что взбредёт на ум, причёсывайся, как вздумается. Благо, выпускные экзамены не за горами, и школа, наконец, избавится от беспрестанно создающего конфликтные ситуации, оригинала.
В тот злополучный день нас мучил единственный неразрешимый вопрос: как могло произойти, что Сталина не смогли спасти? Ведь лечили лучшие врачи страны. Но не уберегли…
Как же так?
Нелишним будет напомнить, в какое это происходило время. За два с лишним месяца до смерти вождя в газете «Правда» было помещено сообщение о разоблачении группы врачей, которая по заданию иностранных разведок занималась умерщвлением видных деятелей партии, правительства и Советского государства. Рассказывалось о том, что ставя неправильные диагнозы, они прописывали своим высокопоставленным пациентам такое лечение, которое приводило к летальному исходу. На их совести были кончины члена Политбюро ЦК ВКП (б) А. Жданова и первого секретаря московского обкома партии А. Щербаков. Направляла и субсидировала вражеские действия медиков сионистская организация США «Джойнт», прикрывавшая свою изуверскую сущность мнимой благотворительностью.
Большинство «врачей-убийц» были еврейского происхождения. Газеты и журналы запестрели статьями и фельетонами, «показывающими истинное лицо этих вредителей». Был опубликован очерк известной журналистки Ольги Чечёткиной «Почта Лидии Тимашук», в которой рассказывалось о мужественной женщине-враче, не побоявшейся противостоять кремлёвским профессорам-вредителям и способствовавшей выведению их на чистую воду. Тимашук наградили «за помощь правительству» орденом Ленина. Страну захлестнула волна всенародного гнева, обрушившаяся на всех врачей-евреев. В кабинетах клиник, больниц патриотично настроенные пациенты отказывались выполнять предписания врачей, чьи фамилии вызывали у них подозрение. Доходило и до рукоприкладства. То был массовый психоз, благословляемый сверху.
Правда в смерти Сталина медиков еврейского происхождения и прочих национальностей не обвиняли. Тем не менее, с эскулапами заодно были подвергнуты гонениям многие просто евреи, без различия должностей, званий и занимаемого ими места в обществе. Не хватало тогда в Стране Советов лишь черносотенных антисемитских погромов.
Вот, на каком фоне шло у нас в классе бурное обсуждение вопроса вопросов: почему медицина не уберегла товарища Сталина? Опять же мне, в который раз – в недобрый час – вдруг захотелось высказать догадку, не похожую на уже прозвучавшие предположения о причине всенародной трагедии. Догадка моя буквально оглушила ребят, ибо выглядела диким диссонансом в общем споре.
– Ясное дело, – заявил я, – врачи-убийцы враги. Но это же кремлёвские врачи, академики, медики высочайшего класса. Если бы их не арестовали, кто знает, может быть, они бы спасли Иосифа Виссарионовича…
В классе повисла тяжёлая тишина. Спорить и обсуждать что-либо всем расхотелось. Я почувствовал, что на этот раз переусердствовал в желании выделиться оригинальным суждением. Через некоторое время заметил, что одноклассники сторонятся меня, а учителя делают вид, будто такого ученика – Марка Гаврилова не существует, даже на мою поднятую для ответа руку не реагируют. Вокруг образовался вакуум, только Колесников оставался верен дружбе. Наконец, мои мытарства и тревожное ожидание чего-то угрожающего закончились в райкоме комсомола. Туда вызвали, кроме виновника происшествия, секретаря школьного комитета ВЛКСМ, председателя учкома и классного воспитателя, незабвенного Ивана Дмитриевича Голубева.
На повестке дня вопрос: «Как мог советский школьник, комсомолец Гаврилов усомниться в правильности решения партии и правительства относительно разоблачённой и осуждённой группы вражеских агентов врачей-убийц?» В райкоме стремились выяснить: «откуда у тебя такие суждения, уж не наслушался ли ты вражьих радиоголосов?» В этом расследовании принял активное участие наш физик-слесарь 7-го разряда, специалист и наставник по потреблению чистого спирта без запивки И.Д.Голубев.