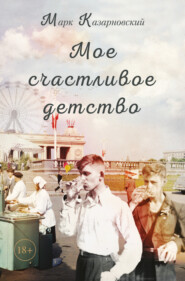По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кривоколенный переулок, или Моя счастливая юность
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так все и начиналось – с колб и пробирок, пипеток, практики и… пошло-поехало. Я это почувствовал сразу – ребятам не до меня. Неожиданно стал им не нужен. Уж позднее понял – нет, не твердая, не крепкая, не пацанская была наша дружба. А сплоченная двором да скрашенная футболом.
Я бродил по двору и переулкам московским. Мысли в голове мчались. Одна глупее другой. О том, как устраиваться в такой, казалось раньше, безмятежной жизни.
Хотя уже давно в воздухе московском что-то витало.
Непонятная тревога постоянно заполняла и квартиру, и коридор, и все комнаты народа, в квартире проживающего.
Шепотом, вполголоса то мама бабушке, то бабушка соседке, Розе Марковне, сообщали. Убили Михоэлса. То исчезли поэты-писатели, члены Еврейского антифашистского комитета. Куда исчезли?
Появилась присказка – куда ты без очереди, безродный космополит. А в январе 1946 года была арестована моя тетя, мамина сестра, Полина.
Меня заклинали: никому, никогда, ни полслова, что Полина арестована, – как молитву, утром и вечером говорила мама.
И я молчал. Еще с дачи мамонтовской помнил: молчать – это лучше, чем хвастать, что смазывал тяжелый наган. Или по карте двигался к поселку Красная Горка.
А еще эта моя непрошедшая любовь с Лялей.
Нет, не забываю, как выговаривала Ляле ее сварливая и с тяжелым, видно от одиночества, характером тетка Антонина. Вот как происходило разрушение моей любви.
…Мы одни, в комнате у Ляли. Большой, светлой и теплой. На маленьком столике полный порядок отличницы! Карандаши, линейки, ластики, чернильница, ножницы. Даже баночка с клеем.
А рядом – кушетка. Ляля вроде моих взглядов и не замечала.
– Сейчас чай пить не будем, а почитаем, что нам задали по литературе.
– Да, да, обязательно нужно почитать, – подхватил я, и вдруг мы неожиданно бросились друг к другу. И стали целоваться. И даже присели, вернее, шарахнулись на кушетку.
Но далее я ничего не добился. Ляля стала как каменная. Уж как я ни вертелся, какие позы ни принимал. Ляля только иногда вздыхала судорожно. Даже блузку расстегнуть не разрешила. Затем охнула:
– Через сорок минут должна прийти тетя Тоня.
Это был серьезный аргумент, и я штопором слетел с лестницы во двор.
У Ляли был телефон, вся время я ей звонил. Для чего мои карманы были набиты мелочью.
Визиты мои стали частыми. Под полным контролем Ляли. Я уже с точностью до минуты знал, когда приходит тетя Тоня. А до этого времени наши «занятия по литературе» продолжались.
Очень медленно я завоевывал части Лялиного ладного и такого желанного тела. Но – с большим трудом. Поэтому и я, и Ляля ходили в свободное от «любви и страсти» время бледные, с синяками под глазами. Я даже есть по вечерам не хотел, чем очень волновал маму.
Но! Должен же этот гордиев узел быть разрублен. Или, как говорил товарищ Чехов, ружье в третьем акте обязательно выстрелит. Оно и выстрелило.
Мы лежали на тахте и целовались. Уже я добился расстегнутой блузки. Уже объяснил Ляле, как это вредно – такие тугие резинки на ногах. Уже… но в это время хлопнула в коридоре дверь, Ляля вылетела с тахты, как ракета в нынешний век, и, шепча: «Пришла тетя Тоня», начала одновременно натягивать резинку голубого цвета на ногу и застегивать блузку. Конечно, не на ту пуговицу.
Мне было легче. Я надел пиджак, а обувь была в коридоре.
Вот вошла наша гибель. Тетя Антонина. Она сразу приступила к разборке, и до сих пор я помню каждое слово этого безобразия.
– Та-ак, это что такое, Ляля?! Уже парней в дом водишь. Бесстыжая. Хоть блузку правильно застегни. А вы, молодой человек, одевайте ваши ботинки, и чтобы твоего духа здесь не было.
– Подождите, я вам все объясню, – бормотал я. Сказать смело и прямо, что это любовь, любовь и все, и про институт, и про совместную жизнь, конечно в браке, и про многое другое я почему-то не нашелся.
– А мне объяснять нечего. Вон дообъяснялся, Лялька блузку застегнуть не может. Ишь, умник, всю облапал. Давай, пошел отсюда, и чтоб духу твоего не было. Да как зовут-то его?
– Марик, – всхлипывала Ляля, вся красная и еще почему-то больше растерзанная, чем во время моих любовных домоганий.
– Ах, Марик к тому же. Давай, катись отсюда немедля, – голос тети Тони набирал мощь и уже достиг фазы крещендо.
Я выскочил из комнаты, сказав Ляле, что буду звонить. Схватил пальто и вышел на лестничную площадку. Но дверь не закрыл. А тетя Тоня, занятая разгромом нашей любви, орала во всю мощь разгневанной старой девы и про дверь напрочь забыла. Поэтому я никуда не ушел. А стоял и слушал. Чем дальше я слушал, тем глубже обрывалось мое еще не закаленное сердце.
– Я тебе скоко раз говорила, рано тебе еще шататься с парнями. Хоть школу-то закончи. Ишь, на медаль она идет. Вот тебе и присвоят медаль на одно место. И ково нашла. Марика! Да они токо и смотрят, как бы от девушки получить. Прямо отвечай – в штаны он лазил?
– Не-е-ет, – выдала Ляля.
– А што у тебя резинки под коленкой. Значит, чулки сымала! Ах ты, в проститутки, что ли, метишь, как все хитровские?!
– Те-етя Тоня, что вы такое говорите, гы-гы-гы, – всхлипывала Ляля.
– Да вот и говорю, что есть. Ишь с кем связалась. Дак он того, о прописке у нас небось и думает.
– Не-ет, не-ет, не-ет, – рыдала Ляля.
– Да вот и не нет, а да. И чтоб ни ногой из дому. Школа и назад, а то я рабочая, мне стесняться некогда, я и в школу могу пойти.
Все это, видно, достало Лялю, и она не выдержала.
Рыдая и вытирая поминутно нос, она наконец выговорила защитное:
– А если мы любим друг друга. Я уже в десятом классе!
– А-а-ах, любите! Ты в десятом классе, лахудра комсомольская. Ты за этого еврея цепляешься, тебе русских парней не хватает. Конечно, они на фронте погибли, пока твои Марики в Ташкенте кишмиш жрали. Все. Я напишу на него, лет десять дерево повалит, охолонит к нашим девкам лезть.
– Тетя, как это вы напишете. Это же донос. Это некрасиво. И что вы напишете. Вы же его совершенно не знаете, – уже звенел голос Ляли.
– Да напишу, что он про нашего Сталина говорил.
– Да он ничего не говорил, мы даже никогда этого и не касались и по литературе еще не проходили.
– Может, и не говорил, а то, что они, эти самые космополиты, все нашего вождя не любят, – это факт. А уж там, на Лубянке, с ним разберутся быстро, – победно заканчивала Антонина.
Я пытался было вмешаться в эту гнусную перебранку, но стоял не двигаясь. Что я скажу?
– Ладно, – вероятно, уже устала Тоня, – поклянись мне памятью матери, моей сестры, что никогда ноги ево здесь не будет. Да и других ихней породы привечать не будешь. Тогда, так и быть, писать на него не буду. А как увижу в Подколокольном, сразу – в конверт.
– Тетя Тоня, я клянусь памятью мамы, что видеться с Марком больше не буду. Но ведь он ходит в гости к Женьке, что на галдарейке живет. И что мне делать?
– Пусть и сидит у этой лахудры Женьки, а на улицу и носа не кажет… Ладно, иди ставь чайник. Я еще не обедавши.
Я тихонько прикрыл дверь. И ушел. Звонил несколько раз. Но Ляля всегда отвечала: «Извини, разговаривать не могу».