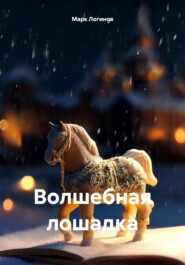По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
ЭСТ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ЭСТ
Марк Логинов
Страна разорена войной, совсем забыв про граждан. Инфляция, неудачи на фронте и народное недовольство приводят к тому, что один молодой лейтенант берёт судьбы людей в свои руки и совершает переворот. Страну теперь ждёт гражданская война.
Марк Логинов
ЭСТ
Как знать, быть может, и смерть, и гроб, и тленье -
Лишь новая ступень к иной отчизне.
Не может кончиться работа жизни…
Так в путь – и всё отдай за обновленье!
1
Посмотрев на часы, я ускорил шаг.
Да, конечно, у меня не было особого желания присутствовать на этом импровизированном митинге, но работа есть работа – и отправили меня.
Не далее как неделю назад я застукал шефа в крайне компрометирующей ситуации, и, так как по глупости своей и упрямству не даю ему об этом забыть, он отыгрывается на мне, с тихой злобой посылая куда только можно и давая самые бесперспективные задачи, которые можно только давать репортёру моего уровня.
Ранее я был вестником интриг, глашатаем скандалов и летописцем громких политических убийств, которые волновали всю страну, а теперь я вынужден отправляться в провинцию, дабы присутствовать на каком-то заштатном собрании возмущенных и дать отчёт в том, какие настроения царили на митинге и какое по итогу значение это будет иметь для страны, хотя на последний вопрос я и так могу ответить – ровным счетом никакого.
Так, по крайней мере я думал, имея на руках те данные, которыми обладал, и абсолютно не подозревая, как повернутся события и какие на самом деле последствия повлечет за собой эта встреча.
Оглядываясь назад, я не могу оправдать себя, даже мое неведение мне кажется непростительным, ведь интуиция и многолетний опыт должны были подсказать мне, что этот случай – особенный, а не очередная ссылка, чтобы шеф мог самоутвердиться за мой счёт, что эта командировка будет чрезвычайно важной как для меня лично, так и для всех граждан страны, но, как бы мне ни хотелось, быть может, добавить несколько художественного вымысла и гордо признаться, что уже тогда я разглядел далёкое будущее и предвидел, чем всё закончится, любовь к правде во мне слишком сильна, чтобы игнорировать реальность и обстоятельства, в которых мне довелось познакомиться с Леонардом, в таких условиях и в такое время, которые я никогда не забуду и которые никогда не мог предвидеть, равно как и не мог предсказать само существование этого человека, которое больше, чем что либо, доказывает существование дьявола на этом свете.
Итак, я, утомлённый ночным перелётом и парой жалких часов сна в самолёте, пробирался сквозь в толпу, ища незанятое место.
На сцене выступал какой-то народный герой, судя по вниманию и овациям, которыми его одаряли присутствующие, хотя за спинами мне было его не видно, а голос я не узнавал.
Но тем не менее, я наконец нашел свободное место возле хорошо одетого гражданина в шляпе и уселся, достав блокнот и с какой-то профессиональной грустью оглядев собравшихся (до чего докатился!), и уткнулся в него, не зная, что писать.
Если бы я дал себе волю, я мог бы сказать многое об этих людях.
Беда только в том, что никто бы не захотел это читать, рискуя узнать в нелицеприятных портретах самих себя, со всеми пороками и не имеющей себе равных греховностью и безнадежностью жизни.
Я был скован рамками журналистики, и это огорчало меня больше всего, ибо желание высказаться было сильнее, чем когда-либо.
Выступающий что-то орал про законы, сельское хозяйство и деспотизм, собравшиеся яростно поддерживали его рёвом и в целом это напоминало всё скорее дикую природу или какой-то ритуал первобытных людей, которые совсем скоро возьмут меня или ещё какого-нибудь столичного франта, и распнут его или сожгут на костре, принеся в жертву богу или даже нескольким божествам сразу, но покамест до этого не дошло.
Невесёлая была картина, в общем.
– Хочется умереть или убить кого-то, не правда ли? – Не поворачивая головы, обратился ко мне мой сосед.
Я посмотрел на него, но он был беспристрастен и неподвижен – прищурив глаза, он смотрел на сцену метающими молнии глазами, и создавалось такое впечатление, что если бы он не сдерживал свою ярость и дал бы ей волю, то за мгновение ока весь этот митинг стал бы свидетелем бойни.
Кроме его глаз, бывших, несомненно, самой примечательной чертой, описывать в его внешности особо было нечего.
Он был молод, хорошо выбрит и одет, черты лица были правильные и острые, рот неизбежно кривился в ухмылке, в которой сложно было разглядеть человеколюбивые черты, а само его лицо с застывшим на нём каменным и ледяным выражением производило впечатление жестокого человека, не привыкшего лгать или чего-то бояться.
С первого взгляда я угадал в нем военного.
– Да, зрелище не из приятных. – Осторожно ответил я. Он усмехнулся.
– И только то?
Я кивнул и он впервые посмотрел мне в глаза. Казалось, через них можно заглянуть к нему в душу и увидеть там только одно – бурю и шторм, несущие смерть.
– А в своих репортажах в независимые газеты вы не так лояльны к людям, Инерс. – Помолчав, сказал он.
– Вы меня знаете? – Спросил я.
– Конечно, – Он закурил. – Я как-то видел вас на одной ассамблее. Вы выступали с каким-то докладом, кажется, о геополитике. Ваши взгляды на войну были несколько… – он опять взглянул на меня с холодной усмешкой, – устаревшими и враждебными.
– Но позвольте… – Начал я.
– Не позволю.
Я помолчал.
– Ну если уж на митинге нельзя высказываться и меня не желают слушать, то где ж ещё мне говорить? – В пустоту спросил я.
– Говорите у себя в квартире, – посоветовал он. – И не перебьет никто, и не возразит, а то, что никто не услышит – даже к лучшему. Для вас. Меньше причин для беспокойства будет, что на вас донесут.
– А почему на меня должны доносить? И вообще какое у этих подлых абстрактных доносчиков есть на это право? Или по вашему наши права и конституция – ничего не значат?
Он пожал плечами.
– Может, и значат, или должны. Но не для меня и не для тех, кто управляет страной. Такие как вы, как они, – он кивнул в сторону разбушевавшейся толпы, – для них лишь мусор, мошки на лобовом стекле, нежелательный фактор, с которым невольно временами приходится считаться, но чаще всего его можно игнорировать, причем довольно просто, и жить, не задумываясь о нем. Они попирают вас ногами и вы радуетесь, как щенята, когда на вас всё-таки обращают внимания, ведь вас приучили, что с вами обращаются, как с отребьем, и любая подачка приводит эту массу в восторг, ведь это означает, что вышестоящий услышал их, что он слышит их, а значит, сделает всё, что в его силах, чтобы облегчить их тяжёлую жизнь. Только оттого, что он бросил им косточку в воскресенье, жизнь не наладится, и точно так же 6 дней в неделю он будет нещадно бить их иллюзии до тех пор, пока не подкрепит их новой приманкой. И так играя на его предсказуемых чувствах, укрепляет свою власть, как завещал нам и Цезарь, и кто только можно. История знает много примеров, и наша история не исключение.
– Безрадостную вы однако нарисовали картину, – заметил я.
– Это не я нарисовал, – ответил он. – Я всего лишь описал то, что вижу. Это наша реальность, в которой мы живём. На нас плюют с настолько высокой колокольни, что мы даже не видим ее верх, не можем прикоснуться к нему, но когда до нас долетает что угодно с него, даже плевок, мы радуемся даже ему, и цепляясь за него, лелеем надежду если не взобраться наверх, то наладить жизнь здесь, снизу – но надежды эти, конечно, беспочвенные. А народ наш, столь инертный и беспомощный, что не способен ни на что, кроме рабства или вымирания.
Инициатива – это не про него. Наша страна погрязла в лени и косности, в осознании своего бессилия и нежелании что-либо изменить. Это наш крест, по всей видимости, исторический.
– Но даже этот бродяга, что сейчас на сцене, несёт лютую пургу. – Помолчав, внезапно сказал он, и прежде чем я успел что-то сказать, вдруг сорвал пальто и шляпу – под ними оказалась парадная форма лейтенанта – и исчез в толпе.
Спустя миг я увидел, как он взбирается на сцену – добраться до неё ему не составило труда, ибо народ незримо и безвольно расступался перед ним, как будто это и правда его национальная черта, хоть неосознанная, и любая сила, даже самая незначительная, способна подчинить его волю, если только назовет себя и продемонстрирует.
Мой же знакомый, как я уже говорил, обладал каким-то гипнотическим даром, и его глаза зачаровывали с первого мгновения установившегося контакта.
Но это все лирика, и остановился я на том, что молодой военный в один прыжок покорил сцену и одним жёстким ударом отправил выступающего на ней в нокаут, и он, упав, затерялся в толпе.
Последняя же заревела и ринулась было на нарушителя действа, чтобы, как видно, и правда принести кому-то в жертву, но нахлынувшие было первые ряды внезапно были остановлены и чуть даже не обращены в бегство, таким смертельно ненавистным взглядом он их смерил насквозь.
Марк Логинов
Страна разорена войной, совсем забыв про граждан. Инфляция, неудачи на фронте и народное недовольство приводят к тому, что один молодой лейтенант берёт судьбы людей в свои руки и совершает переворот. Страну теперь ждёт гражданская война.
Марк Логинов
ЭСТ
Как знать, быть может, и смерть, и гроб, и тленье -
Лишь новая ступень к иной отчизне.
Не может кончиться работа жизни…
Так в путь – и всё отдай за обновленье!
1
Посмотрев на часы, я ускорил шаг.
Да, конечно, у меня не было особого желания присутствовать на этом импровизированном митинге, но работа есть работа – и отправили меня.
Не далее как неделю назад я застукал шефа в крайне компрометирующей ситуации, и, так как по глупости своей и упрямству не даю ему об этом забыть, он отыгрывается на мне, с тихой злобой посылая куда только можно и давая самые бесперспективные задачи, которые можно только давать репортёру моего уровня.
Ранее я был вестником интриг, глашатаем скандалов и летописцем громких политических убийств, которые волновали всю страну, а теперь я вынужден отправляться в провинцию, дабы присутствовать на каком-то заштатном собрании возмущенных и дать отчёт в том, какие настроения царили на митинге и какое по итогу значение это будет иметь для страны, хотя на последний вопрос я и так могу ответить – ровным счетом никакого.
Так, по крайней мере я думал, имея на руках те данные, которыми обладал, и абсолютно не подозревая, как повернутся события и какие на самом деле последствия повлечет за собой эта встреча.
Оглядываясь назад, я не могу оправдать себя, даже мое неведение мне кажется непростительным, ведь интуиция и многолетний опыт должны были подсказать мне, что этот случай – особенный, а не очередная ссылка, чтобы шеф мог самоутвердиться за мой счёт, что эта командировка будет чрезвычайно важной как для меня лично, так и для всех граждан страны, но, как бы мне ни хотелось, быть может, добавить несколько художественного вымысла и гордо признаться, что уже тогда я разглядел далёкое будущее и предвидел, чем всё закончится, любовь к правде во мне слишком сильна, чтобы игнорировать реальность и обстоятельства, в которых мне довелось познакомиться с Леонардом, в таких условиях и в такое время, которые я никогда не забуду и которые никогда не мог предвидеть, равно как и не мог предсказать само существование этого человека, которое больше, чем что либо, доказывает существование дьявола на этом свете.
Итак, я, утомлённый ночным перелётом и парой жалких часов сна в самолёте, пробирался сквозь в толпу, ища незанятое место.
На сцене выступал какой-то народный герой, судя по вниманию и овациям, которыми его одаряли присутствующие, хотя за спинами мне было его не видно, а голос я не узнавал.
Но тем не менее, я наконец нашел свободное место возле хорошо одетого гражданина в шляпе и уселся, достав блокнот и с какой-то профессиональной грустью оглядев собравшихся (до чего докатился!), и уткнулся в него, не зная, что писать.
Если бы я дал себе волю, я мог бы сказать многое об этих людях.
Беда только в том, что никто бы не захотел это читать, рискуя узнать в нелицеприятных портретах самих себя, со всеми пороками и не имеющей себе равных греховностью и безнадежностью жизни.
Я был скован рамками журналистики, и это огорчало меня больше всего, ибо желание высказаться было сильнее, чем когда-либо.
Выступающий что-то орал про законы, сельское хозяйство и деспотизм, собравшиеся яростно поддерживали его рёвом и в целом это напоминало всё скорее дикую природу или какой-то ритуал первобытных людей, которые совсем скоро возьмут меня или ещё какого-нибудь столичного франта, и распнут его или сожгут на костре, принеся в жертву богу или даже нескольким божествам сразу, но покамест до этого не дошло.
Невесёлая была картина, в общем.
– Хочется умереть или убить кого-то, не правда ли? – Не поворачивая головы, обратился ко мне мой сосед.
Я посмотрел на него, но он был беспристрастен и неподвижен – прищурив глаза, он смотрел на сцену метающими молнии глазами, и создавалось такое впечатление, что если бы он не сдерживал свою ярость и дал бы ей волю, то за мгновение ока весь этот митинг стал бы свидетелем бойни.
Кроме его глаз, бывших, несомненно, самой примечательной чертой, описывать в его внешности особо было нечего.
Он был молод, хорошо выбрит и одет, черты лица были правильные и острые, рот неизбежно кривился в ухмылке, в которой сложно было разглядеть человеколюбивые черты, а само его лицо с застывшим на нём каменным и ледяным выражением производило впечатление жестокого человека, не привыкшего лгать или чего-то бояться.
С первого взгляда я угадал в нем военного.
– Да, зрелище не из приятных. – Осторожно ответил я. Он усмехнулся.
– И только то?
Я кивнул и он впервые посмотрел мне в глаза. Казалось, через них можно заглянуть к нему в душу и увидеть там только одно – бурю и шторм, несущие смерть.
– А в своих репортажах в независимые газеты вы не так лояльны к людям, Инерс. – Помолчав, сказал он.
– Вы меня знаете? – Спросил я.
– Конечно, – Он закурил. – Я как-то видел вас на одной ассамблее. Вы выступали с каким-то докладом, кажется, о геополитике. Ваши взгляды на войну были несколько… – он опять взглянул на меня с холодной усмешкой, – устаревшими и враждебными.
– Но позвольте… – Начал я.
– Не позволю.
Я помолчал.
– Ну если уж на митинге нельзя высказываться и меня не желают слушать, то где ж ещё мне говорить? – В пустоту спросил я.
– Говорите у себя в квартире, – посоветовал он. – И не перебьет никто, и не возразит, а то, что никто не услышит – даже к лучшему. Для вас. Меньше причин для беспокойства будет, что на вас донесут.
– А почему на меня должны доносить? И вообще какое у этих подлых абстрактных доносчиков есть на это право? Или по вашему наши права и конституция – ничего не значат?
Он пожал плечами.
– Может, и значат, или должны. Но не для меня и не для тех, кто управляет страной. Такие как вы, как они, – он кивнул в сторону разбушевавшейся толпы, – для них лишь мусор, мошки на лобовом стекле, нежелательный фактор, с которым невольно временами приходится считаться, но чаще всего его можно игнорировать, причем довольно просто, и жить, не задумываясь о нем. Они попирают вас ногами и вы радуетесь, как щенята, когда на вас всё-таки обращают внимания, ведь вас приучили, что с вами обращаются, как с отребьем, и любая подачка приводит эту массу в восторг, ведь это означает, что вышестоящий услышал их, что он слышит их, а значит, сделает всё, что в его силах, чтобы облегчить их тяжёлую жизнь. Только оттого, что он бросил им косточку в воскресенье, жизнь не наладится, и точно так же 6 дней в неделю он будет нещадно бить их иллюзии до тех пор, пока не подкрепит их новой приманкой. И так играя на его предсказуемых чувствах, укрепляет свою власть, как завещал нам и Цезарь, и кто только можно. История знает много примеров, и наша история не исключение.
– Безрадостную вы однако нарисовали картину, – заметил я.
– Это не я нарисовал, – ответил он. – Я всего лишь описал то, что вижу. Это наша реальность, в которой мы живём. На нас плюют с настолько высокой колокольни, что мы даже не видим ее верх, не можем прикоснуться к нему, но когда до нас долетает что угодно с него, даже плевок, мы радуемся даже ему, и цепляясь за него, лелеем надежду если не взобраться наверх, то наладить жизнь здесь, снизу – но надежды эти, конечно, беспочвенные. А народ наш, столь инертный и беспомощный, что не способен ни на что, кроме рабства или вымирания.
Инициатива – это не про него. Наша страна погрязла в лени и косности, в осознании своего бессилия и нежелании что-либо изменить. Это наш крест, по всей видимости, исторический.
– Но даже этот бродяга, что сейчас на сцене, несёт лютую пургу. – Помолчав, внезапно сказал он, и прежде чем я успел что-то сказать, вдруг сорвал пальто и шляпу – под ними оказалась парадная форма лейтенанта – и исчез в толпе.
Спустя миг я увидел, как он взбирается на сцену – добраться до неё ему не составило труда, ибо народ незримо и безвольно расступался перед ним, как будто это и правда его национальная черта, хоть неосознанная, и любая сила, даже самая незначительная, способна подчинить его волю, если только назовет себя и продемонстрирует.
Мой же знакомый, как я уже говорил, обладал каким-то гипнотическим даром, и его глаза зачаровывали с первого мгновения установившегося контакта.
Но это все лирика, и остановился я на том, что молодой военный в один прыжок покорил сцену и одним жёстким ударом отправил выступающего на ней в нокаут, и он, упав, затерялся в толпе.
Последняя же заревела и ринулась было на нарушителя действа, чтобы, как видно, и правда принести кому-то в жертву, но нахлынувшие было первые ряды внезапно были остановлены и чуть даже не обращены в бегство, таким смертельно ненавистным взглядом он их смерил насквозь.
Другие электронные книги автора Марк Логинов
Другие аудиокниги автора Марк Логинов
ЭСТ




 0
0