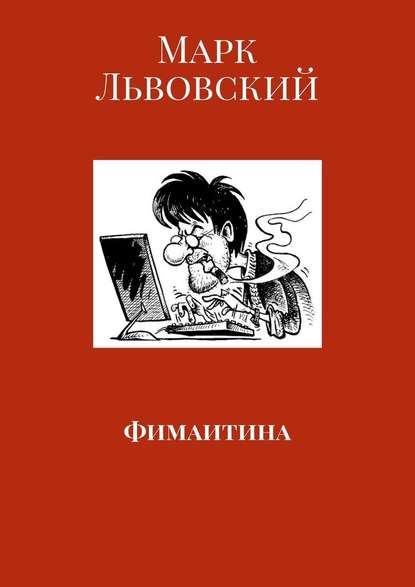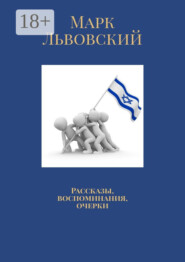По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фимаитина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я бы с удовольствием, – тихо ответствовал Липкин. – Но уважаемый докладчик так всё хорошо объяснил, что у меня нет ни единого вопроса.
– И вы поверили ему, что наша вселенная сотворена Высшим разумом? – настаивал Валерий Николаевич
– Честно говоря, я не сомневался в этом и раньше. И более всего убеждают в этом поэты.
И продекламировал тихо, с хрипотцой, без выражения:
Присутствие непостижимой силы
Таинственно скрывается во всём:
Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном,
И в блеске дня, и в тишине могилы,
В движении бесчисленных миров,
В торжественном покое океана,
И в сумраке задумчивых лесов,
И в ужасе степного урагана,
В дыхании прохладном ветерка,
И в шелесте листов перед зарёю,
И в красоте пустынного цветка,
И в ручейке, текущем под горою.
– Это ваше? – спросил кто-то.
– Нет, – Липкин улыбнулся. – Таких стихов я писать не умею. Это написал хороший русский поэт Иван Саввич Никитин, лет, я думаю, 150 тому назад.
Спросивший густо покраснел, ибо в одном вопросе показал не только незнание творчества Липкина, но и незнание русской поэзии в целом. Дома Фима признался жене, что его просто опередили с этим вопросом.
Однажды Валерий Николаевич потребовал и от Фимы прочесть доклад о чем-нибудь интересном («Нехрена только слушать! Пора и выступить!»), и Фима решил поведать «высокому собранию» о хорошо известных ему проблемах загрязнения рек отходами химических предприятий. Две недели он готовился к докладу, как к защите докторской диссертации. И день настал. Фима пришёл за полчаса до лекции. С рулоном ватмана, на котором была начерчена принципиальная схема очистки сточных вод химических предприятий. С шестью исписанными листами. Тина села в первый ряд, чтобы он мог смотреть только на неё. По договорённости, она должна была приветливо кивать ему и иногда широко раскрывать глаза в радостном изумлении. Наконец, все расселись. Замолчали. Фима прокашлялся. И… вошли Липкин и Лиснянская. На сугубо технический семинар! За что это Фиме? Рассказывать блистательным поэтам о сточных водах? Да ещё прозой! Наконец, поэтов посадили на их законные места, и Фима начал доклад. И очень скоро обрёл себя. Он громко и уверенно говорил, и тыкал указкой в схему. Он чуть не плакал, рассказывая о судьбе Волги, Оки и озера Байкал, на берегу которого дымит огромный целлюлозно-бумажный комбинат. А рассказывая о массовом отравлении осетровых, случившимся на Волге в семидесятых годах в результате сброса в реку неочищенных фосфорсодержащих сточных вод, Фима вдруг оторвал глаза от восторженного личика жены и обратился, совершенно против своей воли, непосредственно к Семёну Липкину:
– Вы представляете себе тысячи и тысячи полумёртвых, с выпученными глазами осетров, безвольно носимых течением?..
На что Липкин, ни секунды не задумываясь, ответил:
– Скажу честно – с большим трудом.
И виновато улыбнулся.
Легкомысленная аудитория немедленно захохотала. Включая и Фимину жену. Тем не менее, закончил свой доклад Фима под дружные аплодисменты. Поэты тихо встали и двинулись к выходу.
– Семён Израилевич, – вдруг вырвалось у Фимы, – вам было интересно?
– Мне было чрезвычайно интересно.
– И у вас нет вопросов?
– Дорогой мой, если б мои вопросы могли спасти хоть какую-нибудь реку, речушку, на которой стоят эти химические чудовища, я бы задавал их день и ночь. И большое вам спасибо за рассказ.
А Инна Львовна подошла к Фиме и сказала:
– Как славно, что вы так искренне, порой даже возвышенно, выражали свою тревогу за судьбу русских рек.
Поэты ушли, и Фиму немедленно стали «рвать на части». Тина перестала улыбаться, с сочувствием глядя на отчаянно сражавшегося мужа, но все разошлись, весьма довольные.
– 9 —
И наступил день выступления поэтов…
От соседей приволокли ещё три стула и четыре кухонные табуретки. За первый ряд боролись интеллигентно, но ожесточённо. Когда Липкин и Лиснянская сели лицом к импровизированному залу, мгновенно наступила тишина.
– Мы сделаем так, – сказал Семён Израилевич, – мы не будем рассказывать о нашем творчестве. Это скучно. Но мы готовы отвечать на ваши вопросы. Если можно, характера не общего, как, например, творчество Пушкина или отношение к Советской власти, а конкретные, событийные. Мы готовы, да, Инна?
Он вытащил из потёртого портфельчика розового цвета папку, аккуратно развязал её тесёмки.
– У меня скверная память, а я хочу рассказать вам кое-что и в прозе, да и не все свои стихи, которые собираюсь прочитать вам, я помню наизусть. Так что, не взыщите, буду часто заглядывать в эту папку. Не скрою, я готовился к выступлению.
– Господа, – громко провозгласил Валерий Николаевич. – Прошу задавать вопросы в чёткой и краткой форме, не выпендриваться, не встревать в ответы, не дискутировать или спорить с докладчиками – они умнее всех нас, вместе взятых. Порядок вопросов буду устанавливать я. Вперёд, господа. Насладимся этим часом. Но, прежде всего, Семён Израилевич, расскажите, пожалуйста, о себе.
– В двух словах… Родился в 1911 году в Одессе, однако покинул этот город еще в юности. Мне было 8 лет, когда я поступил в пятую Одесскую гимназию, в старший приготовительный класс. В нашем околотке я был единственным не православным мальчиком, поступавшим, а потом и ставшим учеником казенной гимназии. Чтобы быть принятым в гимназию, мне надо было сдать все предметы только на пятерки. На мою долю соискателя выпала пушкинская «Песнь о Вещем Олеге». Я знал ее всю наизусть и знал даже название столицы Хазарского царства, потому что много читал и был достаточно смышлёным. Историк, принимавший экзамен, задал мне вопрос «на засыпку»: «На каком языке говорили хазары?» «Не знаю», – честно ответил я, и дорога в гимназию, по сути, была отрезана. Но как это бывало, в особенности, в Одессе, за меня заступился «батюшка», православный священник Василий Кириллович, и мне поставили «пятерку». Я на всю жизнь сохранил чувство признательности к нему. Посещал его и подолгу беседовал с ним до самой ссылки его на Колыму. Кстати, а кто из вас знает, на каком языке говорили хазары?
Ответом было гробовое молчание.
– До сих пор никто точно не знает, и я не знаю, какого ответа ждал от меня экзаменовавший меня историк.
Начал писать стихи. Они попались на глаза Багрицкому. Едва ли не в первом стихотворении он заподозрил плагиат: «Последние две строки вы спёрли у Гумилева». Я сказал, что вообще не знаю такого поэта. А на вопрос: «Кого знаете из современных поэтов?» ответил: «Эдуарда Багрицкого и Демьяна Бедного». На провокационный вопрос, кто из них мне больше нравится, не раздумывая, ответил: «Багрицкий… Он о море хорошо пишет и очень звучно…» И сразу услышал в ответ: «Так слушайте, Багрицкий буду я». По его совету я в 1929 году уехал в Москву. До 1931 года меня немного печатали. С 1931 года – перестали. Чем-то я советской власти не нравился. Тогда-то и занялся переводами. В 1937 году окончил Московский инженерно-экономический институт. Воевал. О войне писал много. В частности, главная моя поэма – «Техник-интендант». Название это придумал Гроссман…
Самое важное в моей жизни – встречи. Я беседовал действительно со многими великими людьми. И почти никого уже нет. Пустыня… Если хотите, два слова о Михоэлсе… С Михоэлсом меня познакомил поэт Галкин. Мы дружили с Галкиным, я его переводил и считал из современных еврейских поэтов самым крупным. И сейчас так считаю. И мы с Галкиным были два или три раза в гостях у Соломона Михайловича. Он жил недалеко от еврейского театра. По-русски Михоэлс говорил замечательно, без какого-либо акцента. Немного даже, знаете, в этакой русской театральной манере. У него была только одна комната, большая. А может быть, я ошибаюсь. Мы говорили о том, о сём, и я его спросил: «У вас в театре нет пьесы о евреях, которые уже не знают еврейского языка. Они оказались вне еврейской культуры. Они хотят прийти в ваш театр, а у вас нет ничего из их жизни». Михоэлс ответил мне на идише так: «Я их не замечаю, я их не вижу». Признаться, я меньше всего ожидал такого ответа… Вспомнил ещё… У Василия Гроссмана был рассказ «Учитель» – о человеке, который перенес войну. Он сделал пьесу по своему рассказу еще в 1947-м году, то есть, до начала антисемитской кампании, и сдал ее в театр Вахтангова. Речь в ней шла о массовом, поголовном истреблении евреев на Украине в годы войны. Театр Вахтангова в панике вернул пьесу Гроссману, не востребовав даже выплаченного аванса. И тогда Михоэлс, очарованный этой вещью, предложил Гроссману перевести пьесу «Учитель» на идиш. И получив пьесу, сказал: «Короля Лира я сыграл, а теперь сыграю учителя. Это будет моя последняя роль». Гроссман был влюблен в Михоэлса.
Липкин задумчиво улыбнулся и сказал:
– С Гроссманом мы часто бывали у моей мамы. Она угощала нас еврейскими кушаньями, которые Гроссман очень любил. Михоэлс называл любовь Гроссмана к еврейским кушаньям «гастрономическим патриотизмом».
Однажды Гроссман сказал мне: «Михоэлс уезжает в Минск. Поедем вместе провожать его на Белорусский вокзал». Мы приехали на вокзал. Михоэлса провожали дочь, Зускин и еще кто-то. Его жены на вокзале не было.
Михоэлс с Гроссманом медленно прохаживались по перрону, все время говорили об «Учителе». Я краем уха слышал. Гроссман спросил Михоэлса: «А так ли нужно вам ехать?» Михоэлс сказал: «Нужно. Речь идет о присуждении Сталинской премии, меня обязали посмотреть ряд спектаклей». Больше живым его не видели…
Поразительно, но Михоэлс погиб, как и учитель в пьесе Гроссмана – от рук убийц. То, что великий актёр не сыграл в своей жизни, он сыграл в своей смерти.
Липкин замолчал, проглотил подступившие рыданья, высморкался – беззастенчиво, шумно; успокоился, вытер с глаз подступившие слёзы и продолжал:
– Гроссман был – да простится мне столь затасканное выражение – кристальной чистоты человеком. Ничто мелкое, тем более гадкое, не приставало к нему. Однажды, со слов Багрицкого, я рассказал ему, что Бабель произнёс: «Я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей». Гроссман любил Бабеля, и сказал мне на это: «Как мне жаль его, жаль не только потому, что он так рано погиб, что они убили его, но и потому, что он – умница, талант необычайный, высокая душа – произнёс эти безумные слова. Что стало с его душой? Зачем он встречал Новый год в семье Ежова? Почему таких необыкновенных людей, как он, Маяковский, Багрицкий, так влекло к себе ГПУ? Что это – обаяние силы, власти? Стоит над этим задуматься, явление нешуточное, страшное». Через три года после смерти Гроссмана я написал стихотворение «Живой»:
Кто мы? Кочевники. Стойбище —
Эти надгробья вокруг.
На Троекуровском кладбище
Спит мой единственный друг.
Над ним, на зеленом просторе,
Как за городом – корпуса,
Возводятся радость и горе,
Которые, с нелюдью в споре,