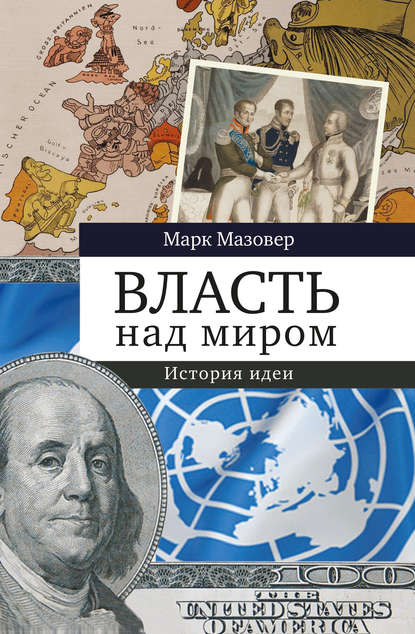По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Власть над миром. История идеи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поскольку инициаторы репрессий считали свои задачи взаимосвязанными и при необходимости приходили друг другу на помощь – в конце концов, именно для этого и создавался Европейский Концерт, – радикалы, такие как Кобден, и местные реформаторы в целом по этой же причине формировали стратегию интернационального сотрудничества. Естественным образом они связывали локальные конституционные реформы с общим наступлением на европейский правящий класс и его взгляды. Они говорили о христианском братстве, но в демократических, а не патерналистских терминах. Они говорили не о стабильности, а о мире – мире, наступление которого было возможно только при условии, что старые традиции секретной придворной демократии и высокие пошлины, налагаемые в военных целях, останутся в прошлом, а война перестанет восприниматься как адекватная мера для разрешения противоречий. Далее зачастую выдвигался аргумент о том, что для осуществления этого замысла необходимы некие простые, но радикальные меры – переход к определенной форме демократии, поскольку люди, предоставленные самим себе, по природе миролюбивы, а в войны их втягивают эгоистические амбиции правителей. Сам Кобден говорил, что ждет того дня, когда нации станут объединяться по «расам, религиям, языкам… а не по договорам, подписанным их суверенами». Распространение демократии и торговля шли рука об руку[38 - Howe, 27.].
Свободная торговля имеет длинную историю, берущую начало задолго до Французской революции. Кант мог отрицать предполагаемое цивилизационное значение торговли, однако на протяжении всего XVIII в. критики абсолютизма превозносили ее, противопоставляя основанный на землевладении централизованный деспотизм в Европе и Азии благотворным условиям морских держав, таких как Британия с ее самоуправляемыми колониями. Наполеон придерживался альтернативной точки зрения: Британия из-за своей лидирующей позиции в коммерции эксплуатировала остальную Европу. До самого конца своего правления он считал Британию основным врагом и поддерживал блокаду, установленную в интересах континента: так впервые был выдвинут аргумент, к которому другие континентальные державы прибегали на протяжении двух следующих веков, вплоть до холодной войны, и благодаря которому сложилось конкурирующее представление о европейской интеграции – европейская зона свободной торговли против общего рынка. Однако поражение Наполеона привело к еще более мощной поддержке коммерческого общества среди англофилов. Торговля признавалась не только более цивилизованной, более эффективной, свободной и благотворной, чем ее соперники, она также провозглашалась более миролюбивой. Де Прадт противопоставлял военный дух торговому и мечтал о триумфе последнего. Бенджамин Констан в «Духе завоевания и узурпации» 1814 г. представлял Европу при Наполеоне как «огромную тюрьму», а Англию – как «прибежище свободной мысли и спасение достоинства человечества». В своем труде он призывал Европу отвергнуть милитаризм и присоединиться к «торговым нациям современной Европы, индустриальным и цивилизованным»[39 - Benjamin Constant.].
Движение за свободную торговлю Кобдена было лидирующим и, вне всякого сомнения, самым успешным проявлением радикального интернационализма из всех возникших в первой половине XIX в. Однако его успех имел двоякое значение. Все радикальные представления о всемирной гармонии, стоило им утратить популярность (как движение за мир), быстро забывались. А если они достигали триумфа, то благодаря тому, что их подхватывали политики, обращавшие их на службу своим интересам, часто противоположным интересам их создателей. Нечто подобное произошло и со свободной торговлей в коридорах Уайтхолла. То, что начиналось как мирное движение, быстро трансформировалось в новую разновидность имперской политики, которая помогла британской дипломатии силой распахнуть дверь в экономику других стран, при поддержке военного флота, повсюду от Западной Африки до Стамбула и Пекина.
Ирония заключалась в том, что сам Кобден был убежденным антиимпериалистом, и никто не описывал глобальные преимущества распространения торгового капитализма лучше, чем он сам. В речи на заседании Лиги борьбы против Хлебного закона в 1843 г. он говорил: «Что такое свободная торговля?.. Зачем ломать барьеры, разделяющие нации; за этими барьерами таятся и гордость, и месть, и ненависть, и зависть, которые и так периодически прорываются наружу, заливая кровью целые страны»[40 - Ibid., 38.]. Либеральная политическая экономия, поставлявшая теоретиков для новой доктрины, придерживалась тех же убеждений, и даже наименее экспансивный из классических теоретиков Дэвид Рикардо не мог удержаться и не отметить удивительную связь, которую свободная торговля устанавливала между личными интересами и общим благом:
Преследование личной выгоды удивительным образом связано со всеобщим благом. Стимулируя промышленность, награждая изобретательность, используя наиболее эффективным образом силы природы, оно распределяет усилия более эффективно и экономично; увеличивая общий объем производства, оно распространяет общие блага и связывает единой нитью заинтересованности и участия все нации цивилизованного мира[41 - Ricardo cited in: Cain P. Capitalism, war and internationalism in the thought of Richard Cobden, British Journal of International Studies, 5 (1979), 229–247, P. 231.].
Характерная для данной эпохи смесь науки с энтузиазмом проявилась на Международном конгрессе экономистов, проводившемся в Брюсселе в конце 1847 г. «Мы впервые собрались, – объявил бельгийский президент Ассоциации за свободную торговлю, – чтобы обсудить вопрос братства между людьми… чтобы претворить в жизнь завет Господа: «Возлюбите друг друга». Экономист, только начинающий свой путь в качестве рупора капитализма свободного рынка, приветствовал продвижение коммерческого либерализма через просвещение общественного мнения, а вместе с ним и продвижение явления, которое называли «интернационализмом»[42 - Maynard, 226.].
В Лондоне Всемирная выставка 1851 г., одним из главных организаторов которой также выступал Кобден, представила своего рода архитектурный манифест этого кредо, воплощенный в виде здания из железа и стекла, чуда современных технологий, отражавшего идеи открытости, глобальности и демократичности. «Мы живем в удивительный период, когда мир стремительно приближается к цели, на которую указывала вся его история, – объединенному человечеству», – объявил принц Альберт, под покровительством которого проводилась выставка, проявляя ту же увлеченность, что и многие другие викторианские прогрессисты.
Не было совпадением и то, что именно в это время сложилась концепция интернационализма как отдельной этики: развитие свободной торговли сыграло в этом процессе значительную роль. Двусторонние коммерческие договоры представляли новую модель для урегулирования дел между государствами, более практичную, демократичную и менее ограниченную, чем модель Концерта с его консультациями великих вержав. А также и более глобальную: коммерческие соглашения британцев и французов с турками и китайцами, возможно, были не так желательны для последних, однако в европейском понимании они означали дальнейшее распространение цивилизации. В рамках Европы коммерческое соглашение между Англией и Францией, заключенное в 1860 г., стало водоразделом, за которым последовало еще 60 договоров, благодаря чему Западная Европа приблизилась к единому рынку сильнее, чем в какой-либо период до конца XX в. Современники рассуждали о «Европейской державе» и рассматривали торговлю как двигатель интернационализма, который теперь противопоставлялся устаревшим механизмам Концерта. К середине 1860-х гг. интернационализм рассматривался как величайший современный вклад в «открытие законов политической экономии», а «торговым сословиям» приписывалось стремление к «объединению и международному сотрудничеству»[43 - Levitt J. An Essay on the Best Way of Developing Improved Political and Commercial Relations between Great Britain and the United States of America (London, 1869), 55–59.].
Самого Кобдена превозносили как идеального «человека мира». «Это странно, но верно, – писал автор одного из некрологов после смерти Кобдена в 1867 г., – что ни одного человека до него нельзя было назвать человеком мира». На долю Кобдена, продолжал он, выпало донести до народов идею о том, что новые политические институты смогут снизить подозрительность между нациями и использовать свободную торговлю в качестве инструмента, демонстрирующего, что война не является неотъемлемой составляющей естественного порядка, будучи разновидностью «анархии», которую люди могут усмирить, если сами того пожелают, чтобы показать, прежде всего, что национализм, в правильном понимании, является не преградой для интернационализма, а путем к нему. Распространение демократии и правление ее представителей, а также мир во всем мире во многом зависят от отмены пошлин: «Поскольку он понимал, что еще не настало время для полного расцвета интернационализма, заключающегося в определенного рода политическом единстве, он считал своим долгом продолжить путь к нему, распространяя эту идею в общественном сознании, устраняя препятствия на пути ее продвижения, защищая и пропагандируя любые меры, законы или политики, способные привести к ее реализации. И главной из таких мер было освобождение торговли»[44 - Lord Hobart. The “mission of Richard Cobden”, Macmillan’s Magazine, 15 (January 1867), 177–186.].
Таким образом, как говорит цитата, приведенная выше, в пробуждении «общественного сознания» сторонники свободной торговли видели лучший способ реализации своих задач. Их основное предположение, общее с евангелической мыслью, заключалось в том, что братские чувства людей должны проявиться через демократическую силу общественного мнения. Идея, передаваемая из поколения в поколение либералами вплоть до основателей Лиги Наций, заключалась в том, что человечество само по себе стремится к миру, если правительства не вмешиваются в его дела. Войны развязывают политики с особыми интересами, искажающими врожденную человеческую бескорыстность: разрешите людям свободно объединяться – и вы создадите мощную мирную силу. Свободная торговля являлась, таким образом, идеологией интернационализма, для которого не требовалось отдельной международной организации, а только механизм для отмены пошлин, то есть мир должен был прийти к некой версии Всемирной торговой организации, но не к многочисленным другим агентствам, наводнившим сегодня международную политику. Она предлагала фундаментальную антиполитическую концепцию интернациональной солидарности, враждебную по отношению к до сих пор многочисленным аристократическим элитам, правившим миром, которая после Первой мировой войны отразилась в призыве Вудро Вильсона к новому мировому порядку с международным общественным мнением в качестве главного мерила. Однако к тому времени уже и сам Вудро Вильсон воспринимался скорее как персонаж из прошлого века, и одна из причин, по которой европейские либералы приветствовали его идеи, заключалась в эйфории, царившей в Европе в 1919 г. и достигшей таких масштабов, что они не могли поверить, будто самый влиятельный человек в мире говорит на языке их духовных праотцов. Проблемы, связанные с этими тезисами, стали очевидны еще несколько поколений назад и обернулись против самого Кобдена в последние годы его жизни. Основным аргументом Кобдена против старой дипломатии была ее приверженность интересам одного класса – милитаристской аристократии. Своими мерами наподобие Хлебного закона политики мешали естественному ходу событий, действуя в собственных интересах. Они бесконечно рассуждали о балансе сил, чтобы оправдать повышение налогов и необоснованные затраты на вооружение, а в дальнейшем сами искали конфликтов, оправдывающих эти затраты. Снижение налогов было, таким образом, проявлением мирной политики, в то время как баланс сил являлся «не обманом, не ошибкой, не жульничеством, а пустым звуком, не поддающимся ни описанию, ни осмыслению». Кобден настаивал на том, чтобы Британия держалась подальше от любых вмешательств в дела иностранных государств: не имело смысла, например, поддерживать Турцию или вступать в войну с Россией. Для англичан гораздо полезнее было бы «отказаться от безрезультатных попыток делать добро соседям и дубиной насаждать повсюду мир и счастье, когда они могут спокойно жить у себя дома, постепенно налаживая там дела, и обрабатывать собственные угодья по своему желанию»[45 - Cobden R. The balance of power.].
Однако Крымская война заставила Кобдена и многих его последователей лицом к лицу столкнуться с «военным духом», охватившим политиков. Тяжелым потрясением для них стал тот факт, что пресса и общественное мнение, на которые они привыкли опираться, начали проявлять агрессивность. «Являемся ли мы, в конце концов, существами разумными и прогрессивными?» – спрашивал себя Кобден. Мирным активистам он рекомендовал умолкнуть до тех пор, пока война сама не продемонстрирует свою иррациональность. Сам же он продолжал верить, что анализ экономических фактов является наилучшим основанием для просвещения народных масс. Однако политизированные аналитики задавались теперь вопросом, насколько эти народные массы в действительности руководствуются здравым смыслом. Рассуждая о новом консервативном уклоне в викторианском либерализме, Джон Стюарт Милль переосмыслил доктрину утилитаризма с учетом того факта, что образованные классы просто более рациональны и дальновидны, чем массы. В своем «Эндимионе» 1850-х гг. Бенджамин Дизраэли раскритиковал радикальный рационализм Кобдена. «У них появилось новое имя для этого гибрида чувств, – заявлял посол. – Они называют его общественным мнением». «Какой абсурд, – говорит Зенобия («королева Лондона, мод и партии тори»), – это просто название. Если может существовать какое-то мнение, то только у суверена и обеих палат парламента». Что касается прессы, то кричащие заголовки и кампании на первых полосах трудно было воспринимать как голос разума. Даже во времена Крымской войны премьер-министр лорд Абердин сетовал, что «английский премьер-министр должен угождать газетам… а газеты вечно требуют вмешательства. Они науськивают народ и правительство вслед за ним». Пресса и общественное мнение могли, по его мнению, заставить правительство вступить в войну[46 - Hobson, Cobden, 115; Disraeli and Aberdeen cited in Henderson, 326.].
Идеи Кобдена о свободной торговле не исчезли с его смертью. Так и не осуществившийся план созыва в 1875 г. Европейского налогового конгресса был последним его детищем. К тому времени первый «интернациональный человек» уже утратил свое влияние, особенно на европейском континенте, а «национальная экономика», наоборот, находилась на подъеме. Формирование мощных противоборствующих альянсов после возникновения Германии в 1871 г. и захват земель в Африке и Азии после 1882 г. положили конец общемировым амбициям сторонников свободной торговли. Страны становились менее милитаристскими по мере того, как делались более национальными. Протекционизм распространялся по всему миру. Оставшиеся в меньшинстве члены Клуба Кобдена, его ученики, столкнулись с всеобщим «бегством от свободной торговли». По иронии судьбы Британская империя, которую Кобден так критиковал, теперь считалась в самой Британии бастионом свободной торговли в мире, состоящим из противоборствующих торговых блоков, однако это послужило лишь тому, чтобы придать реформе налогообложения вид разумной доктрины, направленной на получение Британией экономического преимущества. Иными словами, как и мирное движение, с которым ее тесно ассоциировали, свободная торговля процветала при интернационализме 1840–1850-х гг., а затем была забыта. Прошел целый век с Великой депрессией и Второй мировой войной, прежде чем другая мировая держава – США – подхватила ее идеи и развила их до глобального доминирования в 1980-х гг.
Национальность как интернационализм
Третьим новым элементом викторианского интернационализма стал, как его тогда называли, принцип национальности. В наше время мы расцениваем национальную гордость и стремление к интернациональной гармонии и миру во всем мире как противоборствующие импульсы. Однако такой взгляд сформировался достаточно недавно: отношение к национализму значительно изменилось с момента его появления как политической силы в континентальной Европе. В 1919 г. президент Вудро Вильсон побывал в Италии, прежде чем прибыть в Париж для участия в церемонии основания Лиги Наций. В Генуе под проливным дождем он произнес речь, стоя перед памятником одному из самых выдающихся уроженцев этого города. «Я безмерно рад, – сказал президент, – что мне выдалось принять участие в реализации идеалов, которым были посвящены его жизнь и работа». Монумент, возвышавшийся над ним, посвящался Джузеппе Мадзини (1805–1872) – одному из основоположников итальянской унификации, революционному агитатору, выступавшему против системы Меттерниха, и «святому апостолу» дела наций.
Мадзини был одной из тех редких фигур, которых можно по праву назвать плодовитыми: его рассуждения о мире как интернациональном сообществе демократических наций-государств после смерти автора продолжали оказывать огромное влияние на следующие поколения. Его идея, как отмечал Вудро Вильсон, об объединенных нациях-государствах одержала победу над идеями унитарного устройства со всемирным правлением в процессе образования Лиги Наций, а позднее ООН. Мадзини был одним из первых и наиболее влиятельных мыслителей, всерьез задумавшихся об интернациональном сотрудничестве в терминах политики национализма.
Изначально Мадзини считал своими врагами Габсбургов и стоящий за ними Священный союз. Из-за их тирании его сначала посадили в тюрьму за членство в секретном революционном обществе карбонариев, а затем отправили в ссылку. В результате он выработал собственное антимонархическое кредо. «Мы не заключаем союзов с царями, – писал Мадзини в 1832 г., вскоре после того, как основал «Молодую Италию», движение за независимость и объединение страны. – Мы не питаем иллюзий, что сможем оставаться свободными, полагаясь на международные договоры и дипломатические уловки. Мы не доверим свое благополучие протоколам конференций и обещаниям монархических кабинетов министров… Слушай, народ Италии, мы будем сотрудничать только с другими народами, но не с царями»[47 - Mazzini G. On the Superiority of Representative Government [1832] in: Recchia S., Urbinati N., eds. A Cosmopolitanism of Nations: Giuseppe Mazzini’s Writings on Democracy, Nation Building and International Relations (Princeton, 2009), 43–44.].
Охваченный ненавистью к монархам, Мадзини какое-то время увлекался космополитизмом Просвещения, который поддерживало предыдущее поколение итальянских изгнанников. Он одобрял их идею о том, что существует долг более высокий, чем подчинение королям и суверенам, однако считал, что они преувеличивали роль разума и прав индивидуума, не понимая, что делу гуманизма лучше служить коллективно, всей нацией. Служение нации для Мадзини являлось главным человеческим долгом и обязанностью. Оно было альтруистическим и потому этичным. Старомодный космополитизм, с другой стороны, идеализировал сосредоточенного на себе индивидуума и потому являлся эгоистическим. За это, помимо материализма, Мадзини не одобрял Бентама и утилитаристов. Национализм Мадзини воспринимал прежде всего как общее духовное возвышение, достигаемое через взаимную поддержку и коллективное действие, благодаря которым он поднимался выше индивидуальных эгоистических интересов. В этом нация походит на семью, в которой общие интересы ставятся выше интересов каждого отдельного ее члена. Превыше нации может быть только Европа в целом, включающая все входящие в нее народы. Мадзини являлся, таким образом, провозвестником идеи континента демократически организованных национальных государств, Священного союза народов. Три года спустя после основания «Молодой Италии» он вместе с небольшой группой других изгнанников основал в Берне «Молодую Европу», призванную координировать национальные революции, нацеленные на свержение Священного союза.
В наше время довольно тяжело воспринимать его напыщенные выражения, постоянные упоминания о «душе Италии», провоцировавшие бесконечные мятежи и восстания, которые почти не давали результатов, но уносили множество жизней. Тем не менее его энтузиазм, обильная переписка (итальянское издание корреспонденции Мадзини занимает 94 тома) и его репутация позволяли ему гораздо эффективнее мирных активистов того времени справляться с задачами политической мобилизации. «Священный союз народов» нуждался в собственном царе Александре, и Мадзини горел желанием взять на себя роль предводителя транснациональной организации европейских революционеров. Здравый смысл предполагал, что координация национальных восстаний и мятежей дает гораздо больше шансов на свержение реального Священного союза, чем разрозненные односторонние инициативы. «Что нам нужно, – писал он, – [так это] …единый союз всех европейских народов, стремящихся к общей цели… Когда мы поднимемся одновременно в каждой стране, где действует наше движение, мы победим. Иностранные вмешательства (по инициативе деспотов) станут невозможны».
Мадзини долго жил в изгнании в Лондоне, центре политической активности против континентальной автократии. Он критически относился к изоляционизму Кобдена, называя его «подлым и трусливым… атеизмом, пересаженным в международную жизнь, обожествлением собственных интересов». Он пытался переключить англичан от их пацифизма и невмешательства на то, что мы теперь назвали бы гуманитарной интервенцией и построением демократии. И хотя ему так и не удалось добиться скоординированного подхода к восстаниям, о котором он так мечтал, его интеллектуальное влияние было огромно. Благодаря дружбе Мадзини с Карлейлем, Миллем и другими выдающимися авторами, а также частым публикациям в прессе его идеи широко распространились в Британии, а также на другом берегу Атлантики[48 - Ibid., 24; on Cobden, Nicholls D. Richard Cobden and the International Peace Congress Movement, 1848–1853, Journal of British Studies, 30:4 (Oct. 1991), 351–376, at 357.].
Вопрос об интервенциях будоражил либеральное общественное мнение в викторианской Британии, и Мадзини принимал активное участие в дебатах. Стремясь привлечь самую влиятельную нацию в Европе на сторону итальянцев и других угнетаемых народов, в том числе венгров и поляков, он выступал за гуманизм и международную солидарность:
Люди начинают ощущать, что… существует международный долг, связывающий вместе все нации на земле. Вот почему все шире распространяется убеждение в том, что если в любой точке на планете, даже в пределах независимого государства, творится вопиющая несправедливость… – как, к примеру, избиение христиан во владениях турок, – другие нации не должны держаться в стороне только потому, что отделены большим расстоянием от страны, где совершается зло[49 - Ibid., 28 (“On Nonintervention”).].
Будучи итальянцем, он сожалел о том, что британцы вмешивались в дела греков, чтобы помочь им добиться свободы, как в 1827 г., но не выступили против австрийского абсолютизма на итальянском полуострове. Именно этот аргумент помог убедить Гладстона и значительную часть британских либералов отойти от позиций Кобдена, предполагавших невмешательство. Отчасти уступил даже сам Кобден. Безусловно, это не означало, что притесняемые европейские нации не должны сами сражаться за свободу, – Мадзини как раз высказывался за такую борьбу и сам принимал участие в восстаниях 1848 г. Он считал, что, освободившись, они должны выполнять свой долг перед цивилизацией и осваивать колонии. По мнению Мадзини, Италии самой судьбой было предначертано участвовать в «великой цивилизующей миссии, поставленной перед нами временем», и он рекомендовал «при первой возможности захватить и колонизировать земли Туниса». Его либеральный национализм, таким образом, был одновременно интернационалистским (по отношению к Европе) и империалистским (по отношению к неевропейским странам), и эти евроцентристские двойные стандарты оказали глубокое влияние на международные институты XX в.[50 - Ibid., 29.]
Национальная программа Мадзини придавала большое значение самопомощи, взаимопомощи и образованию – Мадзини сам поддерживал школу для детей бедных итальянских рабочих в центральном Лондоне. Однако в его доктрине не упоминались ни классовая борьба, ни что-либо другое, угрожающее подорвать Священный Грааль национального единства. Вот почему Мадзини много говорил об опасностях, исходящих от новых идеологий социализма и коммунизма. В 1842 г. он писал о необходимости просвещать рабочих, которые «по ошибке прибились к коммунизму». Когда восемь лет спустя он одобрил идею учреждения в Лондоне Европейского центрального демократического комитета – своего рода руководящего органа «Молодой Европы», группы демократов, – то упомянул и о необходимости спасти «демократические национальности» от «анархии коммунистических сект»[51 - Mastellone S. Mazzini and Marx: Thoughts upon Democracy in Europe (London, 2003), 21, 79.].
Почему же Мадзини решил, что такая спасательная операция необходима? Новые термины «социализм» и «коммунизм», значение которых до сих пор размыто и определено неточно, вошли в обиход, когда в 1846 г. в вольном польском городе Кракове поднялось восстание, быстро подавленное австрийцами. Польская проблема снова занимала первые полосы газет, угрожая расколоть радикальное движение на две части. В Лондоне лидеры чартистов и журналисты объединялись вокруг радикальной группировки, известной как Братство демократов: они собирали деньги для поляков и планировали мобилизовать революционных эмигрантов других национальностей[52 - Brock P. Polish Democrats and English Radicals, 1832–1862, Journal of Modern History, 25:2 (June, 1953), 139–156; ibid., Joseph Cowen and the Polish Exiles, Slavonic and East European Review, 32:78 (Dec. 1953), 52–69; ibid., The Polish Revolutionary Commune in London, SEER, 35:84 (Dec. 1956), 116–128.]. Мадзини, однако, остерегался Братства демократов, поскольку был далек от их социалистических симпатий. Вместо этого он поддержал создание другой, более респектабельной группы лобби – Интернациональной лиги народов, целью которой было подтолкнуть Министерство иностранных дел в продемократическом направлении. В следующие два года британская радикальная пресса переходила с позиций одной противоборствующей группировки к другой. В дискуссиях принимали участие в том числе два немецких радикала, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, в то время представители германских демократических коммунистов в Брюсселе.
Удивительный, хотя и непрямой, спор между Марксом и Мадзини, столь важный для понимания международных отношений до конца холодной войны, начался именно здесь, с ожесточенного интеллектуального противостояния в викторианской радикальной политике. В этом споре прослеживается два подхода к интернационализму: один – основанный на принципе национальной эмансипации внутри капиталистической системы, другой – на коммунистическом интернационализме. В XX в. оба эти принципа найдут поддержку у двух великих держав. Быстро заняв позиции взаимного антагонизма, Маркс и Мадзини на самом деле во многом придерживались схожих мнений, в том числе касательно того фундаментального факта, что нации остаются основными элементами в строительстве любого интернационального порядка.
Все началось, когда в 1846 г. Маркс и Энгельс написали статью о последствиях чартизма. «Английский рабочий класс понимает, – утверждали они, – что именно теперь великая борьба капитала и труда, буржуа и пролетариев должна разрешиться раз и навсегда». Такой язык для Мадзини был сродни анафеме. Его Интернациональная лига народов боролась не за права рабочих, а за «права наций и сердечное взаимопонимание между народами всех стран». В следующем апреле Мадзини выступил в одной из английских газет с едкой критикой коммунизма. В статье под названием «Размышления о демократии» он утверждал, что коммунизм – это отрицание свободы, прогресса и морального развития человечества. Он неизбежно имеет тиранический характер и угрожает даже распадом института семьи[53 - Mastellone S. Mazzini and Marx, 85, 111–112; Claeys G. Mazzini, Kossuth and British radicalism, 1848–1854, Journal of British Studies, 28:3 (July 1989), 232; Weisser H. Chartist Internationalism, 1845–1848, Historical Journal, 14:1 (March 1971), 49–66. О происхождении Мадзини см. Morelli E. L’Inghilterra di Mazzini (Rome, 1965), 85.].
На тот момент Мадзини еще не обращался конкретно к Марксу и Энгельсу. На самом деле его первоначальной мишенью были даже не радикальные левые, а то ответвление материализма, которое для него начиналось с Джереми Бентама. Тем не менее многие социалисты были разгневаны и не скрывали этого. В конце 1847 г. Карл Маркс прибыл в Лондон и выступил в Братстве демократов с речью, явно направленной против Мадзини и его представлений об интернационализме. «Союз и братство наций – пустые слова, которые сегодня используют все буржуазные партии, – заявил Маркс. – Победа пролетариата над буржуазией будет одновременно победой над национальными и индустриальными конфликтами, которые ныне создают враждебность между народами. Победа пролетариата над буржуазией будет одновременно символом освобождения всех угнетенных наций». Сразу после этого в Брюсселе он вместе с Энгельсом написал коммунистический манифест для группы германских радикально настроенных рабочих, которая недавно сменила название с Лиги справедливых на Лигу коммунистов. «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма» – этой знаменитой фразой начинался манифест. «Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские». Тот факт, что раскол между буржуазией и пролетариатом признавался главным признаком эпохи, уже был достаточным основанием, чтобы указывать на несогласие Маркса с программой Мадзини.
Борьба между Мадзини и социалистами продолжалась и в последующие годы. После провалов 1848 г. Маркс сам оказался в Лондоне и провел следующие несколько лет, работая над собственными исследованиями. Однако позиции его оставались прежними. Стремясь расквитаться – не столько с Мадзини, сколько с германскими эмигрантами, собравшимися вокруг него, – Маркс в своем сатирическом эссе «Великие мужи эмиграции» (опубликованном только в XX в.) высмеивал Мадзини, изобличая его глобальные притязания как простой обман. По словам Маркса,
великой драме демократической эмиграции 1849–1852 гг. предшествовал за 18 лет до того пролог: демагогическая эмиграция 1830–1831 гг. Хотя времени было достаточно, чтобы смести со сцены большую часть этой первой эмиграции, однако некоторые достойные остатки ее еще сохранились. Со стоическим спокойствием относясь и к ходу мировой истории, и к результатам собственной деятельности, они продолжали заниматься своим ремеслом агитаторов, составляли всеобъемлющие планы, учреждали временные правительства и сыпали декларациями направо и налево. Ясно, что эти многоопытные шарлатаны должны были бесконечно превосходить новое поколение в знании дела. Это-то умение вести дела, приобретенное восемнадцатилетней практикой заговоров, комбинаций, интриг, деклараций, обмана и выпячивания своей персоны, и придало г-ну Мадзини смелость и уверенность, с которыми он, имея за собой трех мало искушенных в подобных делах подставных лиц, смог провозгласить себя Центральным комитетом европейской демократии[54 - Цитируется по собранию сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, том 8.][55 - The Great Men of the Exile, Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 11 [Marx and Engels 1851–1853] (New York), 284.].
В словах Маркса определенно была доля правды. Но мог ли сам он предложить что-либо лучше?
Коммунизм
Большую часть XX в. термин «интернационализм» считался практически синонимом организованного социализма и ассоциировался с подъемом Советского Союза, ставшего одной из мировых держав. После 1945 г. он употреблялся преимущественно в связи с Интернационалами, начало которым было положено в 1864 г. созданием Первого Интернационала (важную роль в нем играл Маркс), а кульминацией явились Третий, более известный как Коммунистический интернационал 1919 г., инструмент, учрежденный Лениным для координации коммунистических партий по всему миру, и менее успешный Четвертый, организованный Троцким. Однако все они были преждевременными. Гораздо вернее было рассматривать марксистский интернационализм как один из вариантов развития представлений XIX в. о мировом порядке, понятный только в его викторианском контексте. Фундаментальным врагом провозглашалась, как всегда, консервативная Реставрация 1815 г. Однако в 1840-м престиж Концерта упал, и Маркс с не меньшей, а то и с большей ожесточенностью набросился на представления о международном порядке, соперничающие с его видением и угрожающие подрывом последнего.
Свободная торговля, переживавшая в то время свой расцвет, как раз относилась к таковым, поэтому в Брюсселе и позже Маркс пытался обернуть интернационалистскую логику классической политической экономии против нее самой: капитализм, распространяясь по планете, в действительности подготавливал почву для скорой всемирной победы рабочего класса. Вот что он писал в речи, которую готовил для конгресса по свободной торговле в Брюсселе: «Мы за свободную торговлю, потому что благодаря свободной торговле все экономические законы, с их глубочайшими противоречиями, будут действовать в более широких масштабах, охватывая большие территории, вплоть до всей земли; столкновение этих противоречий, когда они объединятся в общую группу, закончится сражением, которое приблизит освобождение пролетариата»[56 - Engels F. The Free Trade Congress at Brussels, The Northern Star, 520, Oct. 9 1847.]. Выступая в газетах, Маркс уделял много внимания движению за свободную торговлю и, в частности, Кобдену, внимательно следя за его политическими маневрами и теоретическими трудами. Как он предсказывал в 1857 г., после унизительного поражения Кобдена на выборах в Манчестере, силы джингоизма и авантюризма за рубежом оказались гораздо сильнее, чем Кобден предполагал, а влияние общественного мнения, на которое он так полагался, менее предсказуемым. К общественному мнению Маркс относился пренебрежительно, утверждая, что «как правильно говорят, половину его Палмерстон фабрикует, а над второй – смеется»[57 - Marx K. The defeat of Cobden, Bright and Gibson, New-York Daily Tribune, 4990 (April 17, 1857).].
Больше тревог, чем свободная торговля, все-таки служившая, по его мнению, историческим задачам, доставляло Марксу соперничество с Мадзини. Сильнее и заметнее всего это проявлялось в работе Международного товарищества трудящихся (так в то время назывался Первый Интернационал), занимавшей с 1864 г. львиную долю его времени и принесшей ему широкую известность. Цели и задачи этой организации поначалу были неясны. Ее основали британские лидеры рабочего движения, еще не сформировавшие свои идеологические позиции. Когда за два дня до первого собрания друг Маркса, портной по имени Иоганн Эккариус, задал вопрос о ее программе, то был поражен расплывчатостью ответа и пожаловался Марксу, что ему «придется выступать на публичном собрании с речью о программе, содержания которой я не знаю и язык которой для меня непонятен»[58 - Eccarius-Marx, 26 Sept. 1864, Founding of the First International, 56.]. На самом собрании также ничего не прояснилось. Главный оратор, представитель лондонского рабочего движения по имени Джордж Оджер, ударился в разглагольствования на общие темы о Польше, о необходимости сотрудничества английских и французских рабочих, а также о необходимости ответить на «встречи и праздники» «королей и императоров» мощным «братством народов», которое будет действовать «во благо человечества» и «всех людей труда»[59 - Report of International Meeting in St. Martin’s Hall, Sept. 28, 1864, Founding of the First International, 2–7.].
Подобная возвышенная сентиментальность во многом повторяла язык Мадзини, в то время одного из наиболее известных европейских беглецов, осевших в Лондоне, к которому Оджер относился с восхищением. Неудивительно, что когда Товарищество начало всерьез разрабатывать свои принципы, его лидеры обратились именно к рассуждениям Мадзини. Еще один его последователь зачитал на собрании комитета правила (составленные Мадзини) Итальянской ассоциации рабочих, встреча которой в тот момент как раз проходила в Неаполе. Его предложение принять эти же правила лондонским комитетом МТТ было сразу одобрено[60 - О реакции Мадзини на выступление Оджера см. Collins and Abramsky, 35.].
Одобрено, но не Марксом, который уже принял значительное участие в управлении новой организацией. Тот пришел в бешенство. Правила, которые принял комитет, были, как он сообщал Энгельсу, «отвратительно приземленной, плохо написанной и невнятной преамбулой, претендующей на статус декларации о принципах, в которой повсюду прослеживался Мадзини». Быстро взявшись за дело, Маркс отредактировал их до полной неузнаваемости, заменив текстом собственного сочинения, так называемым «Учредительным манифестом Международного товарищества рабочих». «Я отредактировал всю преамбулу, выбросил декларацию о принципах и заменил сорок правил десятью. Там, где дело касается международной политики, я говорю о странах, а не о национальностях… Я был вынужден включить две фразы о «правах» и «долге» в предисловие к манифесту [таким образом он воздавал должное теориям Мадзини], а также упомянуть “правду, мораль и справедливость”, однако все они употреблены так, что не могут причинить никакого вреда»[61 - Marx-Engels, 4 Nov. 1864, Founding of the First International, 368–370.].
Влияние Мадзини мало интересовало историков Международного товарищества трудящихся, которые в целом писали о нем как о коммунистическом триумфе, как будто именно оно неизбежно привело к созданию в революционной Москве ленинского Третьего Интернационала. Они легко рассуждали о Первом Интернационале как о новаторском начинании, прославившем Маркса. Однако сам Маркс никак не мог претендовать на авторство идеи о создании МТТ. Его главные организаторы Джордж Оджер и Уильям Кример получили ценный организаторский опыт в лондонском движении трудящихся. За границей симпатии радикалов вызывали итальянское объединение и американская Гражданская война. В марте 1863 г. состоялось большое публичное собрание в честь северян, на котором выступал и Кример. Маркс присутствовал там и писал Энгельсу, что рабочие «говорили великолепно, практически не прибегая к буржуазной риторике и нисколько не скрывая своей оппозиции к капитализму». Далее в том же году последовало восстание против русского правления в Польше. Делегация движения трудящихся обратилась к премьер-министру с требованием не препятствовать войне с Россией. Еще одним стимулом для нового трудового интернационализма стали события во Франции. В 1862 г. император Наполеон III опрометчиво содействовал поездке группы рабочих на Лондонскую выставку, где за чаем с представителями английского трудового движения они запланировали создание такого же комитета, чтобы обмениваться идеями. Неудивительно, что Маркс разглядел за этим первым заседанием Товарищества, что «реальные силы», как он писал Энгельсу, пришли в движение.
Рабочие в сердце индустриальной революции действительно пришли в движение, однако было неизвестно, в каком направлении Международное товарищество трудящихся их поведет: предпочтет ли оно Мадзини с его националистским республиканством или более радикальный социализм Карла Маркса? Дух Мадзини, в котором начиналась его работа, приветствовала и поддерживала первая официальная газета Товарищества «Улей», писавшая, что права трудящихся «следует отстаивать, не затрагивая без необходимости законные права капитала». Маркс вряд ли одобрял подобные рассуждения, но, будучи секретарем Товарищества, старался действовать более осторожно, чем можно было предположить, основываясь на его ранних трудах. «Понадобится время, прежде чем пробужденное движение будет готово к былой резкости высказываний», – делился он с Энгельсом. Учредительный манифест Маркса преимущественно основывался на его детальных исследованиях для «Капитала», и пылкая риторика коммунистического манифеста в нем была приглушена. Как и Мадзини, Маркс понимал необходимость сочетания национальных и интернациональных действий, однако рассматривал их через призму активизации трудового движения – подъема «общего движения рабочих… развитого до национальных масштабов», которое облегчило бы формирование «братских уз… между рабочими разных стран»[62 - Collins and Abramsky. Karl Marx and the British Labour Movement, 37.].
Хотя подобные формулировки показывают, что оба рассуждали во многом одинаково, Маркса возмущали постоянные призывы Мадзини к англичанам[63 - Morelli, Inghilterra, 203.]. Он пришел в бешенство, когда авторство основополагающих документов Интернационала приписали итальянцу, а не ему. Он настаивал на том, что республиканство в варианте Мадзини, отрицая классовую борьбу, приведет, как было сказано в одном из интервью, только к «другой форме буржуазного деспотизма». Тем не менее Маркс был уверен, что итальянец занял проигрышную сторону в истории. В сентябре 1867 г. он с ликованием писал Энгельсу, что многочисленные европейские группы рабочих объединяются под знаменем Интернационала: «И когда наступит новая революция, а это может произойти быстрее, чем кажется, мы (то есть вы и я) будем иметь этот мощный мотор в своем распоряжении. Сравните это с результатами действий Мадзини и прочих за последние 30 лет! И это без финансовой помощи… Мы можем быть совершенно удовлетворены!»[64 - Marx-Engels, 11 Sept. 1867, Marx K. and Engels F., Collected Works, vol. 42: Marx and Engels, 1864–1866 (London, 1987), 424.]
Нечто вроде обмена мнениями между ними произошло только после кровавого подавления Парижской коммуны в мае 1871 г. Во время, когда во французской столице происходили бои между силами Коммуны и армией новой Третьей Республики, Маркс мало что мог сказать; однако его последующий памфлет, воспевающий Коммуну, читали очень широко. Зная о подробностях конфликта преимущественно из прессы, он опубликовал статью «Гражданская война во Франции: воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих» только через две недели после «Кровавой недели», когда правительственные войска расстреляли более 20 тысяч предполагаемых коммунаров. Сам Маркс пришел к выводу, что провал Коммуны иллюстрировал опасности преждевременной революции. Однако детали его анализа ускользнули от нового французского министра иностранных дел Жюля Фавра, который тут же сделал Марксу и Интернационалу широкую рекламу, призвав своих коллег по всей Европе заклеймить их как «общество, сеющее войну и ненависть». В результате Маркс прославился еще больше, а его революционный пролетарский интернационализм оказался в центре внимания, хотя на самом деле не имел ничего общего с Коммуной и определенно не предлагал последовать ее примеру. За этим последовали многочисленные интервью, статьи в газетах и даже первые попытки создания истории Интернационала. «Мне выпала честь оказаться на тот момент главной мишенью для клеветы и угроз в Лондоне, – писал он. – Это большое благо после утомительной двадцатилетней идиллии в моей берлоге»[65 - Collins and Abramsky, 216.].
Мадзини отнесся к Парижской коммуне более мрачно, сочтя ее антинациональным и фрагментарным автономистским движением, которое должно было привести и привело к катастрофе, когда «священное слово Родина [оказалось] вытеснено жалким культом местных материальных интересов»[66 - Morelli E. Mazzini e la Comune, in: Morelli, Mazzini: Quasi una Biografa (Rome, 1984), 138.]. Гражданская война во Франции приводила его в ужас. В своем преклонном возрасте он словно видел, как рушится мир, когда Рим был захвачен пьемонтской монархией, а французское республиканство разрывалось на части. Маркс и Интернационал, соглашался он с Фавром, являлись частью проблемы. Маркс был «немцем, маленьким Прудоном, капризным, злобным, рассуждающим только о классовой борьбе». В 1872 г. раздражение и озабоченность тем, что трудящиеся могли соблазниться «принципами материализма и анархии», привели к открытому обвинению в «Современном ревю». «Движущим духом [Интернационала], – писал Мадзини, – является немец по имени Карл Маркс – человек, не допускающий возражений, завистливый, лишенный какой-либо искренней философской или религиозной веры и по натуре более склонный, боюсь, к злобе… нежели к любви, ум которого – отточенный, но едкий – напоминает Прудона». Далее Мадзини утверждал, что «только рациональный метод организации рабочего класса Европы будет принимать в расчет священность национальности», и заявлял, что отказался присоединиться к Интернационалу, потому что тот нарушал данный принцип[67 - Mazzini G. The International: addressed to the Working Class, Part 1, Contemporary Review, 20 (June – Nov. 1872), 155–168; см. также Fiumara F. Mazzini e l’Internazionale (Pisa, 1968), 42–43; Willis K. The Introduction and Critical Reception of Marxist thought in Britain, 1850–1900, Historical Journal, 20:2 (June 1977), 417–459, cited at 427.]. Неудивительно, что Маркс рассмеялся в ответ на высказывание американского журналиста о влиятельности Мадзини, объяснив, что итальянец «отстаивает всего лишь старую идею о республике для среднего класса». В 1875 г., после смерти Мадзини, Маркс назвал его «самым непримиримым врагом Интернационала».
Борьба Мадзини и Маркса важна, поскольку принципы, которые они отстаивали, – национальность, с одной стороны, и коммунистический интернационализм, с другой – легли в основу начавшегося в 1917 г. соперничества между Вудро Вильсоном и Лениным за лидерство в постимпериалистическом мире. Однако история редко развивается по прямой, и в действительности обе идеологии утратили популярность после расцвета в середине века. Мы уже говорили о том, как Парижская коммуна разочаровала стареющего Мадзини: еще в 1861 г. он писал, что «мы низвели священный принцип национальности до озлобленного национализма». Даже в Италии популярность Мадзини после его смерти пошла на спад; по иронии судьбы Вудро Вильсон, отдавая дань памяти Мадзини в Генуе, проявил к нему больше внимания, чем родная страна[68 - Duggan C. Giuseppe Mazzini in Britain and Italy, in: Bayly C. A., Biagini E., eds. Giuseppe Mazzini and the Globalization of Democratic Nationalism, 1830–1920 (OUP, 2008), 187–211, об уменьшении его влияния.].
Одна из причин, по которой Мадзини лишился былой славы, заключалась в расколе между ним и социалистами. Другая состояла в том, что в десятилетия после Первой мировой войны все тяжелее становилось отстаивать благотворное, мирное влияние национализма. В Германии он породил новую угрозу, Рейх Бисмарка, вступивший в драматическую борьбу с Францией. Эскалация гонки вооружений сказалась на бюджетах всех ведущих держав. Мадзини, кроме того, удивительно расплывчато высказывался о том, какое приложение могут найти его идеи в этнически гетерогенных регионах Восточной Европы: иногда он вскользь упоминал о «славянско-румынско-эллинской конфедерации на руинах Турецкой империи», как будто национальная независимость требовалась только венграм и полякам[69 - De Rosen Jerivs A., ed. Mazzini’s Letters (London), “to a German” (Feb. 1861), 168.]. В Юго-Восточной Европе, по его мнению, должны были подняться сербы и венгры, запустив таким образом «восстание дюжины народов» против деспотизма Австрии и Турции. Однако к 1880-м гг., с появлением независимых государств, стало ясно, что в регионе, ныне известном как Балканы, новые нации были готовы вступить в войну друг против друга.
Кроме того, существовала экономическая проблема: в случаях Италии и Германии националистская программа влекла за собой объединение и смешение – образование более крупных государств и более крупных рынков из мелких, в то время как в Восточной Европе эффект был прямо противоположным – фрагментация рынков и умножение границ, а также возникновение других препятствий для взаимодействия. К концу XIX в. широкое распространение приобрел аргумент, изначально выдвинутый против принципа национальности английским историком лордом Эктоном в знаменитом эссе 1862 г. на эту тему. Эктон защищал империю как оплот гражданского общества в противовес деспотизму правления большинства, как политику, которая «включает различные национальности, не притесняя их», и настаивал, что «теория национальности… это шаг назад в истории». Все больше либералов соглашались с ним, поднимая вопрос о национальной дискриминации в Центральной и Восточной Европе, дискриминации между большими и малыми нациями, нациями «историческими», как Венгрия и Польша, и неисторическими, такими как словаки, сербы и рутены[70 - Lord Acton. Nationality (1862), in: The History of Freedom and Other Essays (London, 1909), 298.].
Ситуация с марксистским интернационализмом была ничуть не лучше. Централизованный революционный социализм, поддерживаемый Марксом, в 1880–1890-х гг. оттеснил анархизм, децентрализованный вариант власти рабочих под предводительством русского Михаила Бакунина. До своей смерти Марксу удалось спасти Интернационал, переехав в Нью-Йорк, где его не могли захватить сторонники Бакунина. Идеи анархизма процветали в рабочей среде как в Южной Европе, так и в обеих Америках. В России теория марксизма уступила место анархистскому террору 1880-х, распространившемуся затем по всей Европе, во многом при помощи агентов-провокаторов из тайных полиций разных государств. Анархисты были интернационалистами, но чурались идеологических рассуждений и любой постоянной структуры. На Международном съезде анархистов 1907 г. в Амстердаме участники несколько часов спорили о том, следует ли анархистам вообще стремиться к какой-либо организованности, а когда все же учредили международный комитет, он просуществовал еще меньше Интернационала Маркса. После серии убийств и взрывов, организованных группами, наводненными а подчас и организованными шпионами из тайной полиции (тема блестящего романа Г. К. Честертона «Человек, который был четвергом, 1908), анархизм был также дискредитирован и к началу XX в. как ветвь революционного социализма оказался в меньшинстве. Тем временем социал-демократические партии в кайзеровской Германии и Австро-Венгрии пришли к парламентаризму, как и Лейбористская партия в Соединенном Королевстве. Ведущий обозреватель по делам международного левого крыла той эпохи журналист Джон Рэй отмечал в 1901 г.: «Революционный социализм, становящийся все более оппортунистическим в последние годы, постепенно утрачивает былой пыл и низводится до изворотливого государственного социализма, устраивая в Парламенте битвы за незначительные, хотя и все равно вредоносные, изменения в существующем общественном укладе взамен старой войны до победного конца против нынешнего общества в любой форме»[71 - Rae J. Contemporary Socialism, 3rd ed. (London, 1901), IV–V.]. Маркс обратился к марксизму, обширной, но податливой идеологии, которую мощные социал-демократические партии, например в Германии и Австрии, воспринимали как способ анализировать современный капитализм, а не как руководство к революционным действиям. По мере того как социалистические партии получали представительство в парламентах, перспектива революции меркла. Их интернационализм превращался в пацифистскую ветвь международной политики. Сам Маркс, критиковавший старые мирные движения, однажды заявил, что «Международное товарищество трудящихся было мирным конгрессом, так как объединение рабочих из разных стран означало невозможность войн между странами». Тем не менее начало войны 1914 г. продемонстрировало ограничения социалистического интернационализма[72 - The Beehive, August 17, 1867.].
* * *
Фактически все три основных направления радикального интернационализма середины XIX в. пошли по схожему пути: от изначального оптимизма и воодушевления до определенного политического успеха к трудностям, которые не смогли преодолеть, а затем до тупика или стагнации. Всех их оживляла и поддерживала враждебность к планам реставрации в Европейском Концерте и убежденность в том, что должен существовать лучший способ управления делами на континенте, способ, подразумевающий распространение политической осознанности и глобальных связей, обеспечивающихся торговлей и сообщением. Однако они разделяли и общие ошибки: тенденцию недооценивать политические трудности, с которыми им приходилось сталкиваться, и чрезмерную уверенность в том, что перемены, происходящие в истории, будут им способствовать. Они неверно воспринимали политические задачи, стоящие перед современным государством, крепость дипломатии и агрессивность национализма. Фритредеры и пацифисты были потрясены воинственностью общественного мнения и возвратом к протекционизму в конце века; Мадзини предполагал, что националисты разделяют его ценности в борьбе за гуманность, однако у Бисмарка или Кавура не было времени на подобные сантименты. Маркс и его последователи считали голосование отвлекающим маневром, а классовую солидарность более мощной силой, чем этика или национальная лояльность, однако европейские рабочие хотели голосовать и были готовы к борьбе. По мере того как в Европе консолидировался национализм, а государства скорее укреплялись изнутри, чем распылялись вовне, возникло новое направление интернационалистской мысли и образа действия, более практическое и менее революционное. Оно признавало неизбежность конфликтов и искало пути их смягчения через открытие новых, более мирных процессов; оно предлагало более систематическую философию правления и – впервые – системный подход к формированию интернациональных институтов. Иными словами, хотя формы интернационализма, описанные выше, имели в будущем огромное идеологическое влияние, движение к международному управлению в конце XIX в. свелось, скорее, к поиску компромиссов между державами, а не к их объединению.
Глава 3
Законы и судьи
Изобретатели сомнительных общественных наук, кого вы хотите обмануть, утверждая, что трудитесь на благо человеческой расы? По-вашему, шестьсот миллионов варваров и дикарей к ней не относятся? А ведь они так же страдают… Раз уж вы обещаете сделать нас счастливыми, то не против ли Божьих планов ваши попытки дать счастье только цивилизованным народам, занимающим лишь крошечную часть планеты? Господи, да ведь вся человеческая раса – одна семья… По воле Божьей либо вся человеческая раса должна быть счастливой, либо счастья не достанется никому.