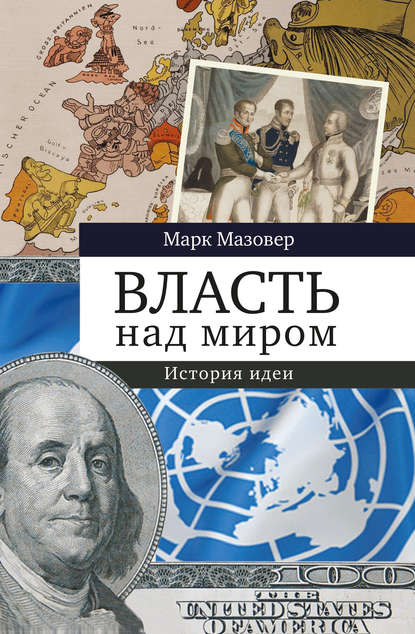По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Власть над миром. История идеи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шарль Фурье «Теория четырех движений и всеобщих судеб» (1808)
Пятьдесят лет, начавшиеся с парижской Декларации 1856 г. и закончившиеся Лондонской конференцией 1909 г., стали периодом величайшего прогресса интернационализма и более успешных попыток утвердить и зафиксировать международное право, чем в какие-либо другие полвека, а пожалуй, и во всей истории вместе взятой.
Амос Херши «История международного права с Вестфальского мира» (1912)
Всеобщий мирный конгресс 1851 г. в Лондоне призвал «всех сторонников мира подготавливать общественное мнение… к формированию авторитетного Кодекса международных законов». В отличие от пацифизма как такового, призыв к созданию кодекса имел широкий резонанс. В последующие десятилетия сложилась новая транснациональная элита, которая разделяла убежденность пацифистов в том, что спасение мира зависит от трансформации консервативного порядка, установленного Венским конгрессом, и от сокращения влияния дипломатов. Своим главным авторитетом они считали закон и профессионализацию международной юридической практики, а своим инструментом не массовую мобилизацию, а формирование новой дисциплины со своими собственными институтами, видением мира и чувством истории. Заложенные ими основы сохраняются в нашем обществе до сих пор, хотя всего лишь как тень их грандиозных замыслов, которые должны были воплотиться в полностью альтернативный способ поддержания отношений между государствами. Многие из них считали, что на кону, по словам выдающегося британского юриста, была возможность «юридической школе международного права одержать победу над дипломатической школой»[73 - Suganami H. The Domestic Order Analogy and World Order Proposals (Cambridge, 1989), 17.].
В то же время те, кому была доверена иностранная политика европейских великих держав, понимали, что международные законы могут при определенных обстоятельствах облегчить им работу и сделать ее более привлекательной в глазах общественного мнения. В качестве «общей цивилизующей силы» они предлагали средства для регулирования отношений между все более воинственными и раздраженными правительствами Европы; в эпоху лихорадочной колониальной экспансии они могли дать этичное оправдание стремлению к всемирному господству. На крупных дипломатических конференциях конца XIX в. даже самые скептически настроенные державы привлекали юристов в состав переговорщиков. К началу XX в. международное право стало одним из наиболее выдающихся примеров того, как некогда утопичные интернационалистские воззрения оказались затем восприняты и использованы государствами[74 - Классическая работа: Koskenniemi M. The Gentle Civiliser of Nations: the Rise and Fall of International Law (Cambridge). О правительственном интернационализме см.: Herren M. Governmental Internationalism and the Beginning of a New World Order in the Late Nineteenth Century, in: Geyer M., Paulmann J., eds. The Mechanics of Internationalism: Culture, Society and Politics from the (Oxford, 2001), 121–145.].
Люди 1873 года и правила войны
Те же войны, которые обозначили поражение мирных движений середины века, преобразовали роль закона. В 1863 г., во время американской Гражданской войны, президент Авраам Линкольн обратился к Фрэнсису Либеру, профессору политологии Колумбийского университета, ученому немецкого происхождения, с просьбой проинструктировать солдат о правильном обращении с гражданскими лицами и военнопленными. Либер не был ни юристом, ни пацифистом: горячий энтузиазм в деле германского национализма и в борьбе за независимость Греции объясняет его расхождения с американскими пацифистами и их грандиозными проектами. С другой стороны, будучи либералом, он верил в цивилизующую силу закона самого по себе. Оцененные поначалу весьма высоко, его инструкции представляли на самом деле несистематизированную мешанину из наблюдений, рекомендаций и запретов. Однако они были с интересом встречены за рубежом, и до 1860-х гг. Либер поддерживал связь с европейскими юристами, обсуждая идею создания кодекса международного права как средства улучшить взаимоотношения между странами. В результате его убежденность в силе интернационализма значительно укрепилась. «Интернационализм, – писал Либер незадолго до смерти, – это часть религии белого человека, поскольку он является приложением Евангелий к отношениям между нациями»[75 - Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, April 24, 1863, [Lieber Code], Section 1: pt. 29; Liber to Ruggles in: Curti M. Francis Lieber on Nationalism, Huntington Library Quarterly, 4:3 (April 1941), 263–292.].
В год, когда Либер написал свой кодекс, был сделан еще один шаг к сдерживанию войн, первый шаг в сторону интернационализации военных законов: основание Красного Креста в Женеве. Увидев в 1859 г. десятки тысяч тяжелораненых и умирающих солдат на поле битвы в Сольферино, где в сражении между французскими войсками и армией Габсбургов решалась судьба Италии, молодой швейцарский предприниматель по имени Анри Дюнан призвал к созданию нейтральной организации для ухода за ранеными солдатами. Совсем недавно, во время Крымской войны, Флоренс Найтингейл начала кампанию за реформу военного здравоохранения и профессионального ухода за ранеными, поэтому призыв Дюнана имел большой отклик. Женевский юрист Гюстав Муанье подхватил его идею, и комитет, который они с Дюнаном учредили в 1863 г., ныне считается первым управляющим органом международного движения Красного Креста. На следующий год швейцарский парламент организовал конференцию, в результате которой 12 государств подписали международную конвенцию об обращении с ранеными на поле боя.
Первая Женевская конвенция была важна по двум причинам. Во-первых, она происходила полностью за рамками системы Концерта и объединяла значительное количество небольших государств, а вот великие державы вошли в нее не все – многие присоединились позднее. Во-вторых, она обозначала отказ от прежних попыток пацифистов полностью устранить все войны и переход к юридической практике смягчения ведущихся войн. В Красном Кресте начался конфликт утописта Дюнана с более прагматично настроенным Муанье: раскол между ними символизировал расхождение путей пацифистов, описанных в предыдущей главе, и профессиональных юристов. Муанье принял участие в институционализации этой молодой профессии после Франко-прусской войны 1870–1871 гг., потрясшей Европу массовыми казнями, репрессиями и кровавой развязкой на мостовых Парижа. После этих событий, охваченный разочарованием от того, что воюющие стороны проигнорировали недавно подписанную Женевскую конвенцию, он собрал группу молодых юристов с реформаторскими убеждениями. Муанье был поражен «жестокостью, недостойной цивилизованного народа» в недавней войне, которую приписывал неопределенности в сфере военных законов. Его позицию поддерживали и остальные участники группы, в особенности либеральный бельгийский адвокат Гюстав Ролен-Жакмен, за несколько лет до этого начавший публиковать первый в мире журнал, посвященный международному праву. В 1873 г. он объединил нескольких коллег и основал новый Институт международного права в Генте; его целью было не широкое политическое движение, такое как старое пацифистское лобби, а скорее форум, на котором узкий круг профессиональных ученых мог бы встречаться и формировать новую дисциплину. «Люди 1873», как назвал их историк, считали себя одновременно непредубежденными юристами, сторонниками научного подхода к закону и вдохновенными защитниками «юридического сознания в цивилизованном мире». К ним относились в том числе ведущий швейцарский юрист Иоганн Каспар Блюнчли, американский адвокат Дэвид Дадли Филд (брат которого Сайрус прославился прокладкой телеграфного кабеля между США и Британией по дну Атлантики), Муанье из Красного Креста и еще несколько менее выдающихся фигур из Нидерландов. К Институту перешел и журнал Ролен-Жакмена «Обозрение международного права и сравнительного законотворчества», быстро завоевавший признание и ставший рупором новой организации.
Каждый человек отчасти является государственным лицом, утверждал Гюстав Ролен-Жакмен в первом выпуске журнала: международные отношения имеют слишком большое значение, чтобы полностью отдать их на откуп дипломатам[76 - Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations: the Rise and Fall of International Law, 1870–1960 (Cambridge, 2001).]. Законы определяют не короли и даже не парламенты, а глубинные течения в обществе: задача юриста выразить и сформулировать их. Однако такое потенциально радикальное определение законотворчества Ролен сразу же смягчал, поскольку стремился всеми силами способствовать росту престижа Института и своей профессии в целом. Вот почему он настаивал на том, чтобы держаться подальше и от «благонамеренных утопистов, желающих немедленного исчезновения войн», и от «слабых духом», которые считали, что в международных делах ничего изменить нельзя. Он избегал рассуждений на темы европейской политики, сосредоточиваясь преимущественно на составлении кодексов и исследованиях менее острых вопросов международного права[77 - Ibid., ch. 1, также p. 61.].
Вскоре к услугам Института и его организаторов стали прибегать государственные деятели, так что Институт доказал свою состоятельность. По инициативе царя Александра II в 1874 г. в Брюсселе была созвана конференция, на которой присутствовали делегаты от 15 стран: они предприняли первую попытку зафиксировать законы войны в виде кодекса. Подписать конвенцию тем не менее не получилось, поскольку не все государства были на это готовы, однако сама попытка указывала на растущую необходимость законодательства. Институт продолжал работу по составлению кодекса до конца 1870-х гг., занимаясь дальнейшим развитием брюссельских предложений, а затем после собрания в Оксфорде в 1880 г. выпустил собственный свод военных законов.
Один из наиболее выдающихся представителей юриспруденции, участвовавших в конференции, указал на растущий интерес к международному праву в совершенно другой сфере. Федор Мартенс, профессор юриспруденции Санкт-Петербургского университета и автор основного текста, рассмотренного на конференции, был достаточно близок к царю. Он также являлся горячим защитником идеи о том, что развитие международного права пойдет на пользу великим державам. «Страна, которая поддержит дело брюссельской конференции [1847 г.], – утверждал Мартенс, – станет первым из государств, признающим истинные цели современной цивилизации и уважающим законные ожидания цивилизованных народов». Закон в этом смысле был важен для России по двум причинам. Первая заключалась в том, что два наиболее очевидных ее соперника не проявляли к нему интереса (Британия, которая являлась крупнейшей мировой державой и была меньше связана с Европой, в нем не нуждалась, а Германия в лице своих генералов расценивала его как сдерживающий фактор для ее растущих военных аппетитов). Второй, не менее важной, причиной был статус «современной цивилизации», сам по себе имевший огромное значение для русских, которых часто обвиняли в примитивизме. В конце XIX в. ни одна европейская держава не стала бы мириться с таким обвинением[78 - Hull, Absolute Destruction, 123.].
Стандарты цивилизации
Несмотря на гордые заявления представителей новой профессии об их независимости и научном подходе к юридическим и общественным проблемам, представители позднего викторианского международного права основывали свою дисциплину на предположениях, характерных для того периода, и главным из них было превосходство европейской цивилизации. «Я уверен, что международное право находится в отношениях взаимного проникновения с ростом цивилизации, – писал Блюнчли, – и что любой шаг человечества на пути прогресса означает прогресс и для международного права»[79 - Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations, 47.]. В эпоху Наполеоновских войн французский утопист Шарль Фурье неоднократно разоблачал цивилизацию как самопровозглашенный миф и призывал мыслителей относиться к любым народам одинаково. Однако как только война закончилась, подобного рода критический романтизм угас; в действительности после 1815 г. у цивилизации появилось новое, более популярное значение, особенно благодаря Бенджамину Констану, противопоставившему милитаризм империй цивилизующему действию британской торговли[80 - Benveniste E. Civilisation – contribution a l’histoire du mot, Problemes de linguistique generale (Paris, 1966); Pagden A. The “defence of civilization” in eighteenth century social theory, History of the Human Sciences (May 1988), 1:1, 33–45.]. Благодаря этому термину сложилась своего рода культурная карта мира, с Европой в центре. К 1830-м гг. цивилизацию часто рассматривали, вслед за французским историком и политиком Гизо, как феномен, связывающий различные европейские государства и одновременно отделяющий Европу от остального мира. В своем труде 1836 г. «О цивилизации» Джон Стюарт Милль утверждал, что европейская цивилизация представляет собой высшую ступень современности, характерную для стран с городским обществом под правлением закона, обеспечивающего внутреннюю стабильность и свободу межгосударственных союзов. Государства наподобие Оттоманской империи были, по его мнению, примерами провала цивилизации, где правители царили над «народами пускай не совсем варварскими, которые достигли определенного прогресса в деле государственной организации, однако показали свою неспособность решать проблемы политической цивилизации в приемлемой форме». В соответствии с таким представлением о цивилизации Европа заслужила право вести мир за собой, основываясь на наборе предположительно универсальных законов. По словам последователя Мадзини, итальянского юриста Паскуале Фьоре, «единообразие человеческих существ ведет к заключению, что главенство законов, применяющихся ко всем формам человеческой деятельности в Magna civitas, является универсальным»[81 - Mill. On Civilization; Koskenniemi. Gentle Civiliser, 54–55.].
С учетом существования в мире самых разных культур и обществ юристы стремились продемонстрировать, как идея о стандартах цивилизации может предоставить критерии для определения глобальной иерархии и соответствующей дипломатической практики. Наверху иерархии стояли государства цивилизованные – европейские или основанные европейскими переселенцами. За ними шли варвары – оттоманы и китайцы, имевшие историю институционализации и определенную государственную мощь. Ниже всего стояли дикие народы Африки и Океании. Такая тройственность стала со временем еще более жесткой и была закреплена в законах. В 1840 г. для европейских держав было все еще допустимо прислать египетскому султану Мехмету Али приглашение присоединиться «к общественной системе Европы», а в 1856 г. такой же жест был сделан в отношении оттоманского султана в конце Крымской войны. В момент следующего крупного ближневосточного кризиса в 1876 г. подобные действия были уже недопустимы. Оттоманская и египетская политика модернизировалась достаточно быстро, однако отношение европейцев к этим государствам стало еще более жестким[82 - Gong G. The Standard of Civilization in International Law (Oxford, 1984). Также: Koskenniemi M. Histories of International Law: Dealing with Eurocentrism, Treaty of Utrecht chair, University of Utrecht, 2011.].
Еще один основатель Института международного права, профессор из Эдинбурга Джеймс Лоример учил, что трем уровням цивилизованного общества соответствуют три разновидности государственного признания, их называют: полностью политический, частично политический и естественный или просто человеческий. С тем, что дикари не заслуживают полного международного признания, соглашались практически все, однако что касается варварских государств, таких как Оттоманское и Китайское, некоторые ученые спорили, стоит открывать перед ними дверь или нет. Хотя новое международное право, писал Джон Уэстлейк, «было продуктом особой цивилизации современной Европы», тем не менее «наше международное сообщество обладает правом допускать сторонние государства к принятию ими международных законов, не обязательно допуская их в международные дела в целом». Другие возражали: вход в «круг подчиняющихся закону стран» не мог быть частичным, а о «полном признании» для неевропейских стран не было и речи. В любом случае, они определенно уступали цивилизованным странам – по крайней мере, пока не одерживали победу над европейскими державами в бою, как японцы в войне с Россией в 1905 г., которая стала подлинным потрясением для мировой истории, угрожавшим перевернуть всю иерархию, сформированную стандартами цивилизованности. Как иронично заметил японский дипломат, «мы показали, что не хуже вас можем устраивать кровавые бойни, и нас сразу пригласили за стол переговоров как людей цивилизованных»[83 - Японский дипломат цит. по Best G. Humanity in Warfare: the Modern History of the International Law of Armed Conficts (London), 141.].
Потенциально угрожающие последствия таких юридических формулировок проявились на берлинской конференции по делам колоний в 1884–1885 гг. Изначально это была попытка разрешить соперничество европейских государств в Африке, однако конференция превратилась в дискуссию о цивилизационной миссии и в попытку оправдать и узаконить контроль над африканскими странами. В Акте, заключавшем работу конференции, говорилось о необходимости «познакомить коренные народы с преимуществами цивилизации», а юристы обсуждали новые конституционные уложения, в частности о протекторатах, «в которых законы цивилизации с осторожностью применялись бы к делам варваров». Бельгийский король Леопольд нанял выдающегося английского адвоката сэра Треверса Твисса (еще одного члена Института) на роль своего представителя, благодаря чему, основываясь на подобных высокопарных рассуждениях, получил в свое распоряжение Свободное государство Конго. Твисс тоже был приглашен на конференцию, и не только для участия в разработке новой конституции, которая, что неудивительно, предоставляла королю Леопольду неограниченную власть, но и в качестве председателя комиссии, перед которой стояла задача составить свод законов для управления колониями в целом. Юристы, таким образом, создавали новую терминологию, через призму которой европейские государства могли оценивать справедливость притязаний друг друга на колониальные территории. Как ни удивительно, терминология ответственности, заботы и долга, прикрывавшая самые грязные и темные поступки колонизаторов, практически без изменений сохранилась до наших дней, став частью языка, посредством которого постколониальное «международное сообщество» ныне оправдывает действия своих исполнительных органов в виде Организации Объединенных Наций[84 - Об этом см.: Orford A. International Authority and the Responsibility to Protect (Cambridge, 2011).].
Результаты берлинской конференции снискали поддержку и других членов Института. По словам ведущего голландского юриста-международника Тобиаса Ассера, Свободное государство Конго было основано «не с обычной узколобостью, которую мы привыкли видеть, а ради торжества цивилизации и всеобщего блага». Основатель Института международного права бельгиец Гюстав Ролен-Жакмен высказывался с не меньшим энтузиазмом: якобы на конференции юристы доказали свою незаменимость в деле формулирования четких стандартов для действий государства. Когда же в Европу просочились новости об ужасах бельгийского правления в Конго, Ролен-Жакмен, защитник «духа интернационализма» (l’esprit d’internationalite), предпочел промолчать. Его бельгийский коллега Эрнест Нис, первый профессиональный историк международного права, считал Берлинский акт 1885 г. свидетельством решимости европейских держав заботиться об африканцах и помогать им на пути к цивилизации; нападки на Леопольда, по его мнению, были обусловлены исключительно конкуренцией с Британией в коммерческой сфере[85 - Fitzmaurice A. Liberalism and Empire in Nineteenth-Century International Law, HR, 117:1 (Feb. 2012), 122–140; De Baere G, Mills A. T. M. C. Asser and Public and Private International Law: the Life and Legacy of a “Practical Legal Statesman”, Working Paper 73, Leuven Center for Global Governance Studies, Sept. 2011, p. 10; Koskenniemi M. Histories of International Law, 6.].
Таким образом, в эпоху активной колонизации юристы были необходимы, поскольку настаивали на том, что «в интересах мировой цивилизации, чтобы закон и порядок, а также истинная свобода, присущие ей, распространились и царили по всему миру». Лоример, будучи чужд подобному глобализму, охлаждал слишком большие ожидания, напоминая своим читателям о силе других задействованных факторов:
Тот факт, что возможность помогать отстающей расе двигаться вперед, к целям человеческой жизни, всегда существует у цивилизованной нации, заставляет цивилизованную нацию использовать эту возможность; а используя ее, нация может принять позицию опекуна, не принимая в расчет волю отстающей расы. Получается, что цивилизация, внушая ту волю, которую считает рациональной, реальной и единственно возможной, по крайней мере по сравнению с иррациональной, феноменальной и расплывчатой волей отстающей расы, защищает – да будет позволено предположить – единственно возможную волю отстающей расы, то есть волю, к которой отстающая раса должна будет прийти, когда достигнет той же стадии цивилизованности, что и высшая раса.
Выражаясь менее академическим языком, сильный знает лучше: и вот мы уже подошли к идее, что международное сообщество должно заботиться о своих самых слабых членах, вне зависимости от их желания, – к идее, породившей мандаты Лиги, опеку ООН в XX в. и псевдопротектораты XXI в.
Международное право XIX в. было двуликим: юристы, подводя законные основания под колониальную экспансию, в то же время защищали уникальность Европы как общества суверенных национальных государств. В труде 1868 г. о национализме и интернационализме Фрэнсис Либер подчеркивал их взаимную сочетаемость: «Цивилизованные страны пришли к созданию сообщества и день за днем формируют благосостояние своих народов под наблюдением и защитой закона наций»[86 - Koskenniemi M. Gentle Civilizer, 67.]. В этом смысле закон являлся олицетворением представлений Мадзини о Европе для наций.
Двойственность нового подхода – гуманистические отношения между цивилизованными государствами и одновременно отказ от оговорок и ограничений, сформулированных более ранними теоретиками закона касательно построения и регулирования отношений с менее влиятельными народами за пределами Европы, – как никогда отчетливо проявилась в одном из самых крупных достижений юриспруденции того времени – Кодексе военных законов, принятом на Гаагской конференции. К 1898 г., когда царь Николай II предложил созвать большую мирную конференцию, гонка вооружений в Европе шла полным ходом, и политики все больше беспокоились по поводу военных расходов[87 - Morrill D. Tsar Nicholas II and the Call for the First Hague Conference, Journal of Modern History, 46:2 (June 1974), 296–313.]. Тем не менее стоило им собраться в Гааге, и острые разногласия между участниками чуть было не сорвали конференцию. В частности, там разразились острые дебаты между германцами с одной стороны и бельгийцами и голландцами с другой – они касались правил военной оккупации. Немцы, памятуя о событиях во Франции в 1870–1871 гг., требовали безусловного подчинения от жителей оккупированных территорий; другая сторона, также помнившая те времена, настаивала на том, чтобы у гражданского населения не было никаких обязательств, а над оккупационными войсками осуществлялся строгий контроль. К счастью, Федор Мартенс нашел выход из положения, и в преамбуле к Гаагским соглашениям, касающейся законов и обычаев войны, было преднамеренно расплывчато записано, что «население и завоеватели защищены и подчиняются принципам международного права, основанным на традициях, сложившихся между цивилизованными странами, на законах гуманности и на требованиях общественного мнения».
Доктрина военной оккупации должна была регулировать временное положение дел, при котором войска одного суверена управляли на территории другого, не ставя под сомнение претензии последнего на единоличный контроль. Само это понятие возникло только после поражения Наполеона. Ранее государства получали контроль над территориями других государств, просто одержав победу в войне. Однако система Концерта упразднила этот порядок, поскольку он основывался на предположительном снисхождении к притязаниям всех суверенов – членов Концерта. Если они хотели сосуществовать, а Концерт – играть свою роль, то одностороннее право захватывать территории путем войны исчезало, а ему на смену приходили переговоры с учетом интересов других держав и признание прав путем заключения договоров. Такая формальная военная оккупация как временное состояние – нечто среднее между боями и заключением мира – впервые была вынесена на обсуждение только в 1844 г.
Однако этот подход, разработанный для смягчения отношений между европейскими державами, не годился для «диких народов», поскольку они не имели признанного суверена. Земли «варваров», например в Северной Африке или на Ближнем Востоке, можно было «оккупировать»; на практике же такая оккупация зачастую становилась постоянной, как произошло у русской армии с оттоманской Болгарией и у войска Габсбургов с Боснией во время Ближневосточного кризиса 1875–1878 гг. Болгария стала сначала автономной, а затем независимой, в то время как Босния превратилась в часть Австрийской империи. Вместо того чтобы сохранить оттоманские институты нетронутыми, оккупанты приступили к коренным реформам: после 1878 г. Габсбурги вершили в Боснии свою цивилизующую миссию, точно так же как русские в Болгарии, а англичане в Египте. Один из теоретиков права после американской оккупации Ирака в 2003 г. назвал это «трансформирующей оккупацией»: безусловно, она не имела ничего общего с Гаагскими соглашениями.
Дискуссии 1899 г. дали определенные результаты в военной сфере. Вне закона оказались бомбардировки с воздуха, химическое оружие и разрывные пули, кроме того, было утверждено, что военная оккупация – это временное положение дел между двумя суверенными государствами. Однако активисты пацифизма, внимательно следившие за дискуссиями, испытали разочарование. Разоружение всерьез не обсуждалось, и стало ясно, что многие державы послали свои делегации просто ради факта присутствия, опасаясь, что иначе их станут критиковать; в Гааге они проявили себя ровно настолько, насколько требовалось, чтобы избежать критики. Например, министр иностранных дел Германии, инструктируя своих делегатов, сказал, что «нам надо продемонстрировать германскому общественному мнению, что мы внесли значительный гуманитарный вклад в работу конференции, сумев одновременно избежать непрактичных и опасных альтернатив». В вопросах, касающихся войны, голос военачальников, естественно, звучал куда громче, чем юристов. Генералы не стеснялись своей воинственности – антивоенные настроения постнаполеоновского периода давно остались позади: маршал фон Мольтке напомнил профессору юриспруденции Блюнчли в декабре 1880 г., что «вечный мир – это лишь мечта, и не всегда прекрасная. Война – элемент божественного порядка»[88 - Bulow cited in: Sheehan J. Where Have All the Soldiers Gone? The Transformation of Modern Europe (New York, 2008), 26; Moltke, in Best, 144.].
Отражая иерархический подход к цивилизации, Гаагские соглашения касались только конфликтов между двумя «цивилизованными» государствами[89 - Bhuta, 727.]. Таким образом, распространение международного права в дипломатии помогло снять защиту такого права с остальных стран. Одним из тревожных сигналов стало положение о том, что если африканцы или азиаты попытаются сопротивляться европейскому вмешательству, к ним нужно относиться как к стоящим вне закона. Постепенно формировался юридический язык, определяющий поведение колониальных войск. Британский свод законов военного права 1914 г. гласил, что «правила международного законодательства применяются только к военным действиям между цивилизованными нациями, когда обе стороны их принимают и готовы соблюдать. Они не применяются к войнам с нецивилизованными странами и племенами, где их заменяют приказы командующего и правила справедливости и гуманности, диктуемые частными обстоятельствами дела».
Взаимность являлась основным условием для вступления «под эгиду закона», в ее отсутствие, по мнению многих, разрешалось все необходимое, чтобы подчинить себе врага, слишком разгневанного или необразованного, чтобы вести с ним переговоры. Данному положению предстояла долгая жизнь, особенно после того, как воздушные силы стали признанным инструментом контроля над колониями. Задолго до «Шока и трепета» в Ираке и за полстолетия до того, как офицер ЦРУ Уильям Колби предложил крайне противоречивую программу по усмирению тех, кто проявлял симпатию к Вьетнаму, его отец, американский контрразведчик Элдридж Колби, написал внятную и откровенную статью о том, «Как бороться с дикими племенами», отражавшую данный подход. По мнению Колби, примитивные народы, неспособные на рациональные переговоры, заслуживали совершенно другого обращения:
Весьма любопытно следить за развитием международного права. Однако остается фактом, что против нецивилизованных народов, не знакомых с международным правом и не соблюдающих его, готовых использовать это как преимущество в борьбе с теми, кто такое право соблюдает, должны применяться другие меры. «Другие меры» не означают отказ от любых сдерживающих факторов… Однако … это иная разновидность войны. Для француза бомба, сброшенная на Реймский собор… это беззаконное деяние врага, воспламеняющее гневом темпераментную душу и провоцирующее ответную вражду… Для дикаря-фанатика же бомба, сброшенная с небес на священный храм его всемогущего Бога, – это знак и символ того, что Бог лишил его своего покровительства. Бомба, сброшенная на крепость в недоступной местности, – это свидетельство превосходящей силы и оснащенности его цивилизованного противника. Вместо того чтобы просто пробудить его гнев, подобные действия, скорее всего, заставят его поднять руки и сдаться. Если при этом и погибнет несколько «мирных» дикарей, потери все равно будут куда меньше, чем могли бы быть в ходе продолжительных операций более умеренного характера. Негуманное действие, таким образом, становится, по сути, гуманным[90 - Colby E. How to Fight savage tribes, 287.].
Вот как теоретизирование на темы законов вело к массовой резне, воздушным бомбардировкам и систематическим арестам, характерным для европейского империализма, что еще раз доказывало крайнюю жестокость конфликтов, оказавшихся за рамками законодательства. Еще до того, как бельгийское правительство в Конго стало синонимом беспощадности, критическая книга молодого Уинстона Черчилля поведала обществу, как англо-египетские войска, экипированные современными винтовками, и артиллерия под командованием сэра Герберта Китченера уничтожили 10 тысяч солдат армии Махди в Судане в отместку за гибель 48 их собственных солдат в битве при Омдурмане. Гаагская конвенция никак не повлияла на их действия; напротив, она стала своего рода юридическим оправданием для такой жестокости. Сброс бомб с воздушных шаров также был запрещен Гаагской конвенцией 1899 г., однако только при войнах между государствами, подписавшими ее. С момента первой такой бомбардировки, осуществленной итальянцами в Ливии в 1911 г., и до кампаний Королевских военно-воздушных сил в Афганистане и Ираке после Первой мировой войны бомбардировка с воздуха являлась для колониальных держав недорогим методом подавления недовольства среди коренного населения. Что за волшебство заключалось в наборе аргументов, которые превращали цивилизованного солдата в замену Бога, всемогущего, творящего добро и насылающего смерть с небес, – и все это под знаменем прогресса и международного права?
Британский журналист У. Т. Стид в статье, написанной вскоре после первой Гаагской конференции, говорил о своем потрясении от контраста между двумя формами интернационализма, сформировавшимися на пороге нового столетия. Внутри Европы цивилизация означала мир; за ее пределами – жестокость. В Париже посетители Всемирной выставки посиживали в шезлонгах в тени Эйфелевой башни и наблюдали за вращением планеты на модели гигантского Globe Celeste, с открытым ртом замирали перед первыми звуковыми картинами и эскалаторами. И в этот самый момент «новый интернационализм», как Стид его назвал, с неистовой силой буйствовал в Китае, оказавшемся под контролем «разношерстной толпы людей с разных континентов, разных религий и рас». Поэтому необходимо было как можно быстрее, продолжал Стид, воспользоваться возможностью, предоставляемой Гаагской конвенцией, и создать международный комитет, который смог бы выяснить все факты. Поднятый им вопрос заключался в том, сможет ли подлинный интернационализм, в котором мир так нуждался, обуздать захватнический дух международного вторжения и «силы алчности, наживы и неукротимой агрессии»[91 - Stead W. R. Internationalism at Paris and Pekin, Review of Reviews, 22 (Sept. 1900), 241.].
Какие бы факторы ни привели к восстанию, поведение международной экспедиции, сформированной для подавления мятежа китайских националистов, известного как Восстание боксеров, наглядно продемонстрировало, что стояло на кону во время дискуссий в Гааге. Русские отправили войска в Китай с приказом действовать в рамках международного права в том смысле, в каком сами его понимали; солдат проинструктировали вести себя сдержанно, избегать «ненужного кровопролития» и платить за товары, которые они конфисковали. Немцы заняли куда более жесткую позицию. Китайцы для них не просто стояли вне закона – они являлись законным объектом мести. Кайзер Вильгельм, провожая своих солдат, произнес чудовищную речь; упоминания в ней о гуннах так встревожили дипломатов, что они опубликовали сильно отредактированный вариант, добавив в речь откровенно подложные фрагменты, например о том, чтобы «открыть путь для цивилизации раз и навсегда»[92 - Prenzler J., ed. Die Reden Kaiser Wilhelms II [The Speeches of Kaiser Wilhelm II]. 4 volumes. Leipzig, n. d., 2. pp. 209-12. Репринт неофициальной версии речи приводится в: G?rtemaker M. Deutschland im 19. Jahrhundert. Entwicklungslinien [Germany in the 19th Century. Paths in Development]. Opladen 1996. Schriftenreihe der Bundeszentrale f?r politische Bildung, vol. 274, p. 357.].
Острая дихотомия между цивилизованными народами и варварами, таким образом, вела к печальным последствиям; однако сами по себе Гаагские соглашения не были решением всех проблем, в том числе и потому, что оставляли много простора для интерпретации. В Бельгии в 1914 г. – когда немцы показали британцам и американцам, что и вправду являются гуннами, – германская армия в действительности следовала собственным представлениям о том, что допускалось новыми правилами войны. Во многом, как и британцы в Египте, в одностороннем порядке переписывавшие правила оккупации, они решили, что «передача власти» от бельгийского короля оккупационным войскам отменяла его компетенции суверена. Немцы присвоили себе право переписывать законы и издавать декреты, упразднять местные власти и использовать экономику в собственных военных целях. В Сербии армия Габсбургов также действовала с позиций диктата, беспощадно карая за любое сопротивление и одновременно стремясь сохранить личину сурового, но честного носителя справедливости. В Гаагской конвенции формулировки, касающиеся передачи власти от бывшего суверена к новой оккупационной власти, были весьма расплывчатыми – такова оказалась цена за стремление в первую очередь добиться всеобщего согласия[93 - Benvenisti E., 33–47; о Габсбургах см.: Gumz J.].
Неудивительно поэтому, что к началу нового века международные юристы в условиях радикального кризиса стали скорее частью проблемы, а не ее решением. Дело было не только в том, что многие из «людей 1873» становились более консервативными и националистичными по мере обретения респектабельности и славы, – к концу века они уже отрицали социализм и монархизм, писали законы об экстрадиции политических преступников и высказывались все более антидемократично. Очевидно, причиной был закон, который теперь выглядел как оправдание грабежа: сильные державы могли разбойничать в полной уверенности, что закон на их стороне. На самом деле из юридической среды начинали раздаваться критические голоса, спрашивающие, не будут ли новые доктрины, позволявшие обращаться с неевропейцами с безудержной жестокостью, в дальнейшем угрожать также и европейским свободам. «Право на распространение цивилизации, – писал французский юрист Франц Деспарнье, – использовалось для того, чтобы отобрать у дикарей их независимость». Шарль Саломон зашел еще дальше: «Будьте бдительны! Права цивилизации могут послужить для оправдания жестоких нападений, даже в Европе… Разве здесь нет германской цивилизации, славянской цивилизации, латинской цивилизации? И разве мы не высказывались зачастую в пользу непререкаемого превосходства одной над другой?»[94 - Сited in: Fitzmaurice. Liberalism and Empire, 134.]
Дело Кримера
Следующая после 1899 г. мирная конференция в Гааге состоялась в 1907 г. и прошла с большим размахом. В ней участвовало больше стран, сильно расширился состав неевропейских наций, в основном из обеих Америк. Американский юрист, представляющий имперский Китай, Джон Фостер явился на конференцию со своим внуком, 19-летним студентом-второкурсником Принстонского университета по имени Джон Фостер Даллес, тогда впервые пробовавшим себя в дипломатии. Для его деда, опытнейшего американского дипломата, конференция 1907 г. была «в каком-то смысле самым важным событием в истории человечества. Впервые политические представители всех наций на земле встретились все вместе»[95 - Devine M. J., Foster J. W. Politics and Diplomacy in the Imperial Era, 1873–1917 (Athens, Ohio, 1981), 108.].
Но чего же им удалось добиться? Дворец Мира, построенный в Гааге вскоре после конференции, стал воплощением новых сил, преображающих порядок ведения международных дел, пока еще коренящихся в европейской модели цивилизации, но склоняющихся к чему-то более всеохватному. Сила и надежда отразились в ренессансных деталях этого строения, достойного Гаргантюа, в его колокольне, возвышающейся над равнинной Голландией. Залы с настенными панелями освещали электрические канделябры и люстры из желтой меди; их украшали витражи в лучших традициях Средневековья, их украшали дары от стран, принимавших участие в конференции 1907 г.: каррарский мрамор из Италии, японские шелковые гобелены, швейцарские часы, персидские ковры, статуя Христа из Аргентины и потрясающая ваза из яшмы с позолотой весом 3,2 тонны из России. Сам факт существования Дворца был весьма поучителен: он появился на свет в результате переговоров, прошедших в Гааге между двумя ведущими мировыми профессорами-дипломатами, русским Федором Мартенсом и американцем Эндрю Диксоном Уайтом, а финансирование было получено благодаря близкому знакомству последнего с американошотландским стальным магнатом Эндрю Карнеги, знаменитым противником профсоюзов и одновременно самым щедрым в мире филантропом, сторонником пацифистского движения в десятилетия, предшествовавшие Первой мировой войне.
Будучи первым примером значительного влияния частной филантропии на возникающие институты нового интернационализма, Дворец наглядно отражал перемены, происшедшие в мире дипломатии со времен Меттерниха. США присутствовали в международной дипломатии на высшем уровне, и Дворец являлся символом этого присутствия. Карнеги, начинавший свою карьеру как обычный телеграфный оператор, стал горячим сторонником интернационального пацифизма и в особенности международного арбитража, поэтому поддержал Диксона Уайта с его идеей строительства Дворца Мира.
Изначально он предназначался для Постоянной палаты третейского суда, возникшей в результате двух гаагских конференций. Однако с точки зрения подлинных политических достижений Дворец был проявлением веры в будущее. Вторую мирную конференцию в Гааге пришлось на год отложить из-за Русскояпонской войны, а когда она все-таки состоялась, пацифистские круги отреагировали на нее в первую очередь разочарованием. На конференции не обсуждалось сдерживание гонки вооружений между мировыми державами, не нашла широкой поддержки идея создания международного полицейского органа, который мог бы потребовать соблюдения постановлений международного третейского суда. Она лишь способствовала формированию и развитию добровольного арбитража, и для неизменно оптимистически настроенного Карнеги этого было достаточно.
В 78 лет Карнеги лично посетил Дворец: в 1913 г. он прибыл на его открытие. Во время этого визита он также открыл памятник своему современнику, почти столь же знаменитому, как сам Карнеги, – британскому мирному активисту сэру Рэндалу Кримеру, скончавшемуся пять лет назад. В наше время мало кто помнит имя этого английского профсоюзного деятеля, рожденного в бедности, – человека, которого уважали как Карнеги (пожалуй, величайший капиталист своей эпохи), так и Карл Маркс (величайший критик капитализма). Каменную стелу, установленную на могиле Кримера на кладбище Хэмпстед, отыскать довольно сложно, она не такая примечательная и не такая известная, как массивный бюст Маркса, стоящий всего в миле от нее. Тем не менее именно Кримеру Маркс был обязан приглашением присоединиться к Международному товариществу трудящихся в далекие дни 1864 г., и в следующие десятилетия Рэндал Кример прошел долгий путь. Несмотря на корни, помешавшие ему сыграть выдающуюся роль в дипломатии (его отец был извозчиком и сбежал вскоре после его рождения), Кример много лет посвятил борьбе за права рабочих и избирательной реформе, стал членом Парламента, а венцом его карьеры явилось получение Нобелевской премии мира – он был первым британцем, удостоенным ее. Кример широко прославился как основатель Межпарламентского союза, однако предметом его основного интереса в международных делах и причиной, по которой он получил премию мира, стал его вклад в развитие международного третейского суда. На его надгробии выгравированы меч, лежащий на оливковой ветви, и книга с названием «Договор о третейском суде». Действительно, вся его жизнь была посвящена движению, которое к началу Первой мировой войны в 1914 г. оказалось, пожалуй, единственным влиятельным направлением в интернационализме – кампании за международный третейский суд. Движению, успех которого в довоенные годы мог сравниться разве что с его же отторжением в десятилетия после нее.
«Друзья и сторонники мира сплачиваются в весьма уважаемое сообщество», – отмечал журнал Кримера «Арбитратор» в 1887 г., и действительно, движение за третейский суд по самой природе требовало поиска компромиссов с существующей системой дипломатии. Оно предлагало корректировку, пересмотр того, как проводилась политика между государствами, а не полный переворот. Американские пацифисты настаивали на том, чтобы заменить старую европейскую дипломатию арбитражными договорами, еще в 1830-х гг., однако только Крымская война и раскол в дипломатической системе Концерта инициировали поиск новых путей к улучшению международных отношений. Парижский договор, по которому был заключен мир в 1856 г., оговаривал условия посредничества от любой из стран-участниц в случае каких-либо трений. Однако как можно было заставить страну взять на себя эту роль? Некоторые утверждали, что если страны не будут добровольно соблюдать условия договора, он окажется пустым звуком. Другие считали, что необходимо создать определенные институты. Радикальный проанархически настроенный экономист Гюстав де Молинари писал, что поскольку Европой с 1815 г. управляют пять великих держав, логично будет ратифицировать существование этого Всеобщего Концерта и подкрепить его путем создания небольшой международной полицейской организации, способной обеспечить урегулирование конфликтов между его членами. Д. С. Милль предлагал установить сроки действия договоров и указывать, что следует делать, когда срок истекает. Он рассчитывал, что «нации цивилизованного мира смогут сотрудничать при создании подобного кодекса».
Ричард Кобден был горячим сторонником идеи третейского суда, которую неоднократно отстаивал в Палате общин, подчеркивая ее практичность как плана, «который не включает схему конгресса наций, не подразумевает веры в новое тысячелетие и не требует соблюдения принципов несопротивления». Один из предводителей мирного движения британский пацифист и член Парламента Генри Ричард работал вместе с Кобденом в рамках этой кампании. В 1848 г. Ричард стоял бок о бок с ним на мирном конгрессе в Париже; когда в мае 1885 г. он ушел с поста секретаря Лондонского общества мира, на котором проработал 37 лет, журнал «Апостол мира» написал, что «обвинения, выдвинутые против нас, в миссионерстве и отстаивании утопических иллюзий» были несправедливыми. С его поддержкой международного третейского суда мирное движение доказало свою реалистичность. Со временем этот факт стал еще более признанным (и очевидным): описывая делегатов, принимавших участие в Гаагской конференции 1907 г., один из ведущих американских представителей движения за третейский суд восхвалял их как «отнюдь не мечтателей и не теоретиков, но людей с выдающимся практическим опытом в государственном управлении, дипломатии и военном деле»[96 - Cobden, cited in: Nicholls D. Richard Cobden and the International Peace Congress Movement, 1848–1853, Journal of British studies, 30:4 (Oct. 1991), 351–376; Appleton L. Memoirs of Henry Richard, the Apostle of Peace (London, 1889), 210–212; John Watson Foster, in: Hammersmith J. John Watson Foster: “A Pacifst after a Fashion”, Indiana Magazine of History, 84:2 (June 1988), 124.].
Рэндал Кример был избран в Парламент от Восточного Лондона в 1885 г., в год смерти Ричарда, и принес с собой не только озабоченность положением трудящихся, но также интернационалистские задачи мирных активистов середины века. Вслед за Кобденом Кример полагал, что арбитражные договоры должны стать практическим и эффективным средством гарантировать мир между нациями. Еще в 1868 г., в своей первой, безуспешной, попытке избрания в Парламент, он заявил о стремлении создать «органы международного арбитража, чтобы разрешать споры между странами», утвердившись в роли провозвестника «эпохи мира»[97 - Evans H. Sir Randal Cremer: His Life and Work (London, 1909), 51.]. На следующих выборах, в 1874 г., он добавил к своей программе идею о создании кодекса международного права и «учреждения международного трибунала для мирного решения споров между нациями»[98 - Ibid.]. Несколькими годами ранее он учредил Мирный комитет трудящихся, призывавший к нейтралитету во Франко-прусской войне и к арбитражу в качестве «замены войн». Так возникла Международная арбитражная лига, со своей собственной газетой и издательским бизнесом, публиковавшим памфлеты, направленные против британской интервенции в Египте и империализма в целом.
Кример и сторонники арбитража представляли третье направление в интернационализме XIX в., отличавшееся и от Мадзини с его идеями высшей гармонии между нациями, к которой должна была привести революция, и от Маркса с его научным подходом и упором на будущее объединение пролетариев. Это направление прокладывало путь к миру более последовательно, открыто и свободно – через беспристрастных парламентариев и международных судей под предводительством взаимно согласованного кодекса законов, а также под эгидой здравого смысла и доверия, неотъемлемых от самого процесса арбитража. Оно осталось в тени, очевидно, по той причине, что, в отличие от двух других, не снискало в XX в. покровительства одной из великих держав. Однако это не умаляет его значения.
Как и два поколения пацифистов до него, Кример видел в США лучшее средство привести Старый Свет к новому типу дипломатии; в качестве члена Парламента он активно развивал контакты с Вашингтоном. Англо-американское сотрудничество имело решающее значение для сторонников арбитража, поскольку отношения между странами оставались достаточно сложными, чтобы в них не возникало серьезных разногласий, и в то же время достаточно близкими, чтобы начинать войну. Однако именно в эти годы и благодаря этому движению были заложены основы будущих «особых отношений». В 1872 г. знаменитое дело Алабамы об уроне, причиненном судами конфедератов, построенными в Британии, было урегулировано путем третейского суда (одновременно положившим конец американской угрозе захвата части Канады), что значительно продвинуло процесс развития арбитража. В 1895 г. он стал снова мелькать в заголовках в ходе другого, более серьезного, англо-американского кризиса, когда спор о границах между Венесуэлой и Британской Гвианой превратился в большой дипломатический конфликт, снова погашенный путем международного судебного решения. Сам Гладстон был в числе многих публичных фигур в Лондоне, включая Кримера, призывавших к постоянной системе арбитража между двумя великими англоговорящими странами. «Обращайтесь в суд, прежде чем начать войну» – так журналист У. Т. Стид назвал свой памфлет[99 - Boyle T. The Venezuela Crisis and the Liberal Opposition, 1895–1896, Journal of Modern History, 50:3 (1978), 1185–1212.].
В данном движении присутствовали как идеализм, так и политика, и стратегия. Либералы прекрасно знали, что венесуэльский кризис возник только потому, что США сочли себя вправе по-своему интерпретировать доктрину Монро, в результате чего сформировалось интервенционистское отношение к странам Центральной и Южной Америки. Однако они не возражали, поскольку считали, что рост влияния Америки как в своем полушарии, так и во всем мире был на руку Британии, и поэтому приветствовали арбитраж как средство скрепить англо-американский альянс. Кример, без устали пропагандировавший идею общего арбитражного договора между США и Великобританий, был, иными словами, «в струе» – политик, идеалы которого превращались в практическую альтернативу старой дипломатии.
Помогал ему и скрупулезный выбор союзников. Все больше стремящаяся утвердиться в мире администрация США в начале нового века отстаивала арбитражное движение по тем же причинам, что русский царь пацифизм, – как способ устранить угрозы, одновременно упрочив свою репутацию в глазах всего мира. При поддержке Международного американского конгресса 1890 г. в Вашингтоне, на котором было одобрено «принятие арбитража как принципа американского международного права», движение на короткий момент достигло успеха в качестве исключительно американского вклада в мирный процесс. Известный своей энергичной политикой в отношении менее значительных стран президент Теодор Рузвельт поддержал эту идею, сочтя ее полезной для отношений между великими державами; в 1902 г. он вернул к жизни Постоянную палату третейского суда, учрежденную тремя годами ранее. Когда европейские мирные активисты пожаловались ему, что новый суд оттесняют в сторону и он вот-вот исчезнет из-за недостатка работы, Рузвельт извлек на свет старый конфликт с Мехико, который обе стороны согласились передать на рассмотрение в Гаагу. Он также предложил созвать вторую международную конференцию в Гааге, чтобы продолжить работу, начатую в 1899 г., а когда Русско-японская война прервала процесс подготовки, выступил посредником между двумя сторонами на мирных переговорах, за что получил в 1906 г. Нобелевскую премию мира. Вручавший Рузвельту премию норвежский чиновник, также явно сторонник арбитража, заметил, что
двадцать или пятнадцать лет назад… борьба за мир выглядела совсем по-другому, нежели сейчас. Поначалу она воспринималась как утопическая идея, а ее сторонники – как благонамеренные, но слишком оптимистически настроенные идеалисты, которым нет места в практической политике, оторванные от реалий жизни. С тех пор ситуация радикально изменилась, поскольку в последние годы ведущие государственные деятели, даже главы государств, принимают в ней участие, отчего она приобрела совершенно другое значение в глазах общественного мнения[100 - Kuehl W. Seeking World Order: the United States and International Organisation to 1920 (Vanderbilt, 1969), 64–65; http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1906/press.html-not_2 (http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1906/press.html-not_2)].
Кример наверняка был бы удовлетворен. Инициативу Рузвельта возобновить гаагский мирный процесс побудил в действительности сигнал от еще одного детища Кримера – Межпарламентского союза, конгресс которого прошел в Сент-Луисе в 1904 г. Кример сыграл ведущую роль в образовании Межпарламентского союза в 1889 г. и являлся его вице-президентом и главой британской секции. В последнее десятилетие века он начал быстро расти (и существует до сих пор, хотя и лишь как бледная тень былого союза), став для Кримера трибуной, с которой он мог пропагандировать создание международного арбитражного суда. Общественное мнение могло считать русского царя и американского президента инициаторами двух гаагских конференций, однако без Кримера ни одна из них не состоялась бы. Признавая его вклад, в 1903 г. его самого, за три года до президента Рузвельта, наградили Нобелевской премией мира. Один тот факт, что сын извозчика из Портсмута смог достичь таких высот, уже говорил о революционных изменениях, происшедших в сфере ведения международных дел.
В речи, произнесенной на вручении премии, Кример вспоминал о своем долгом пути. Подводя итог переходу от утопических мечтаний активистов в его молодости к практической политике, он – как Ричард до него – упомянул о «паломниках мира», подобных ему, которых долгое время называли мечтателями и утопистами. Однако арбитраж широко доказал свою необходимость: здесь он упомянул о последних событиях в Северном море, которые чуть было не привели к войне между Британией и Россией: