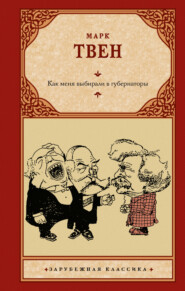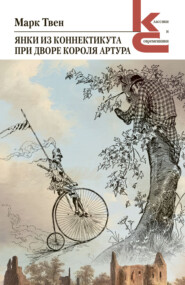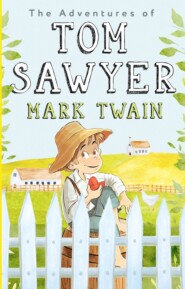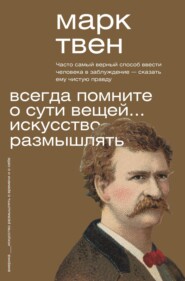По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жанна д'Арк
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь мы были в шести лье от замка Шинон, где находился король. Жанна сейчас же продиктовала мне письмо к нему. Она говорила, что совершила путь в полтораста лье, чтобы сообщить ему добрые вести, и просила разрешения передать ему эти вести с глазу на глаз. Она добавила, что хотя никогда не видела его, однако сразу его узнает и сумеет отличить, даже если бы он переоделся в чужое платье.
Оба рыцаря тотчас же отправились с этим письмом. Наш отряд спал все время после полудня, а после ужина мы порядочно-таки приободрились и развеселились, в особенности наш кружок молодых домремийцев. Нам была предоставлена уютная столовая деревенской харчевни, и первый раз за все эти бесконечные десять дней мы были избавлены от тревог, ужасов, лишений и утомительных трудов. Паладин вдруг снова стал самим собой, каким мы знали его прежде, и чванно разгуливал взад и вперед, как живое олицетворение самодовольства. Ноэль Ренгесон заметил:
– Я просто диву даюсь, как славно он нас выручил из беды.
– Кто? – спросил Жан.
– Да Паладин.
Паладин прикинулся глухим.
– Он-то тут при чем? – спросил Пьер д'Арк.
– При всем. Только вера Жанны в его осторожность и дала ей возможность сохранить самообладание. Насчет смелости она могла бы понадеяться на нас и на себя, но осторожность – первейшее дело на войне, в сущности-то говоря: осторожность – это редчайшая и высочайшая добродетель, а у Паладина ее хоть отбавляй – больше, чем у любого француза; больше, пожалуй, чем у шести десятков французов.
– Ну, ты опять норовишь дурака валять, Ноэль Ренгесон, – отозвался Паладин. – Тебе следовало бы обмотать вокруг шеи свой длинный язык да заткнуть конец его себе в ухо, а то как бы тебе не попасть в беду.
– Вот уж не знал, что в нем больше осторожности, чем у других людей, – сказал Пьер. – Ведь для осторожности нужна смекалка, а у него, я думаю, мозгов ничуть не больше, чем у любого из нас.
– Ошибаешься. Осторожность не имеет никакого отношения к мозгам; для нее мозги скорее являются помехой, потому что она не рассуждает, но чувствует. Высочайшая степень осторожности указывает на отсутствие мозгов. Осторожность есть свойство сердца – только сердца; мы повинуемся ей в силу чувства. Это видно из того, что, если бы она была свойством разума, она заставляла бы видеть опасность только там, где опасность действительно налицо; между тем…
– Охота вам слушать, что он мелет, проклятый олух! – пробурчал Паладин.
– …между тем как осторожность, являясь исключительно качеством сердца и руководясь чувством, а не разумом, преследует более широкие и возвышенные цели и чутко подмечает и предупреждает такие опасности, которых в действительности и в помине нет. Как, например, давеча ночью, когда Паладин среди тумана принял уши своей лошади за неприятельские копья и, соскочив, взобрался на дерево…
– Это ложь! Ложь, ни на чем не основанная! Послушайтесь моего совета, не верьте злостным выдумкам этой ехидной трещотки: он из года в год прилагал все старания, чтобы очернить меня, а потом примется злословить и на вас. Я слез с лошади, чтобы подтянуть подпругу, – провалиться мне, если это не так, хотите – верьте, не хотите – не надо.
– Вот он всегда таков: ни о чем не может спорить спокойно, но сразу идет напролом и становится строптивым. А замечаете, какая у него плохая память? Он помнит, что соскочил с лошади, но забыл обо всем остальном, даже о дереве. Впрочем, это естественно: он помнит, как спрыгнул с лошади, потому что это вошло у него в привычку. Он всегда поступал так, лишь только в передних рядах поднималась тревога и раздавался лязг оружия.
– Чего ради он слезал с лошади именно в такое время? – спросил Жан.
– Не знаю. По его мнению, чтоб подтянуть подпругу; по моему мнению – чтобы взобраться на дерево. В одну из ночей он на моих глазах девять раз взбирался на дерево.
– Ничего подобного ты не видал! Кто так нагло лжет, тот не достоин уважения. Предлагаю всем вам ответить на мой вопрос: верите ли вы словам этой змеи?
Видно было, что все пришли в замешательство. И только Пьер ответил неуверенно:
– Я… право, я не знаю, что сказать. Вопрос-то щекотлив. Как-то неловко не поверить человеку, когда он говорит напрямик; однако принужден сознаться, – хоть это не совсем вежливо, – что я не могу принять на веру его слова целиком. Нет, я не могу поверить, что ты вскарабкался на девять деревьев.
– Ну вот! – вскричал Паладин. – Небось самому стыдно стало, Ноэль? А сколько раз я взбирался на деревья, как ты полагаешь, Пьер?
– Только восемь раз.
Хохот, покрывший эти слова, довел Паладина до белого каления, и он сказал:
– Придет и мой черед – придет и мой черед! Рассчитаюсь с вами со всеми, можете на это положиться.
– Не трогайте его, – предупредил нас Ноэль. – Он делается настоящим львом, если его раздразнить. После третьей стычки я убедился в этом воочию. Когда сражение окончилось, то он вышел из кустов и напал на убитого один на один!
– Новая ложь! Остерегись – ты зашел слишком далеко. Будь благоразумнее, а не то тебе придется увидеть, как я нападаю на живого.
– То есть на меня. Этим ты уязвил меня больнее, чем всеми своими несправедливыми и грубыми речами. Какая неблагодарность к своему благодетелю…
– Благодетелю?.. А чем я обязан тебе, желал бы я знать?
– Ты обязан мне жизнью. Я стоял между неприятелем и твоими деревьями и оттеснял сотни и тысячи врагов, жаждавших твоей крови. И делал я это не ради похвальбы своею доблестью, но ради того, что я тебя люблю и не мог бы без тебя жить.
– Ну, будет тебе, замолчи! Я не желаю оставаться здесь долее и внимать такому глумлению. Я еще мог бы стерпеть твою ложь, но никак не любовь твою. Побереги эту отраву для кого-нибудь не столь брезгливого, как я. И прежде чем уйду, скажу вам вот что: во все время похода я скрывал свои подвиги, дабы не затемнять ваших крохотных отличий, но дать вам возможность приумножить свою скудную славу. Я всегда устремлялся вперед, где шла самая жаркая сеча, потому что я хотел быть вдали от вас: иначе вы увидели бы, как я повергаю врага, и убоялись бы, осознав свое бессилие. Я твердо вознамерился хранить эту тайну в груди своей, но вы побудили меня открыться. Если нужны вам свидетели, то поищите их вдоль пройденной нами дороги, – там лежат они. На той дороге была грязь непролазная – я вымостил ее телами убитых. Бесплодна была земля в окрестной стране – я удобрил ее кровью. То и дело меня просили удалиться из передовых рядов, потому что некуда было двинуться из-за множества моих жертв. И ты – ты, неверный! – утверждаешь, будто я влезал на деревья! Стыдись!
И он удалился, преисполненный величия, потому что перечень воображаемых подвигов успел вновь воодушевить и умиротворить его.
На другой день мы оседлали коней и двинулись к Шинону; Орлеан был теперь невдалеке позади нас – он задыхался в когтях англичан. Бог даст, скоро направим путь туда и поспешим на выручку. Из Жиана пришла уже весть и в Орлеан, что крестьянская Дева из Вокулера идет спасать осажденный город. Это известие вызвало большое волнение и породило великую надежду – в первый раз за пять месяцев эти бедняги увидели луч надежды. Они тотчас послали гонцов к королю, прося его взвесить это дело по совести и не отвергать такой помощи, как что-то ненужное. Гонцы эти теперь уже находились в Шиноне.
На полпути к Шинону мы опять наткнулись на вражеский отряд, который неожиданно показался из лесной чащи; вдобавок силы неприятеля были значительны. Но теперь мы были уже не новички, как девять или двенадцать дней назад; мы успели привыкнуть к подобным приключениям. Душа у нас не ушла в пятки, оружие не дрогнуло в руках. Мы приучились всегда быть готовыми к бою, всегда владеть собою и всегда встречать отпором любую опасность. Появление врагов встревожило нас не более, чем нашу предводительницу. Прежде чем они успели выстроиться, Жанна скомандовала: «Вперед!» – и мы ринулись прямо на них. Они не ожидали натиска; они показали тыл и рассеялись во все стороны, и мы на скаку опрокидывали их, точно соломенных людей. То была последняя засада на нашем пути; и подготовлена она была едва ли не самим де ла Тремуйлем, этим негодяем-предателем, министром и фаворитом короля.
Остановились мы в гостинице. И вскоре начало стекаться население всего города, чтобы взглянуть на Деву.
О, несносный король и несносный народ его! Наши два добрых рыцаря явились доложить Жанне об исходе своего поручения – явились негодующие. Они и мы все почтительно стояли, – как надлежит стоять в присутствии королей и тех, кто выше их, – пока Жанна не пригласила нас сесть; она была встревожена этим знаком внимания и уважения, не одобряла его и не привыкла к нему, хотя мы в ее присутствии не осмеливались держаться иначе с тех пор, как она предсказала смерть несчастного изменника, который утонул в тот же час, – мы убедились тогда окончательно, что она посланница Бога. Сэр де Мец начал:
– Король получил письмо, но нам не позволят говорить с ним лицом к лицу.
– Кто же запрещает?
– Никто не запрещает, но ближе всех стоят к нему три или четыре царедворца, – каждый из них предатель и интриган, – и они ставят всякие препятствия, пускаются на разные хитрости и пользуются лживыми предлогами, лишь бы только оттянуть дело. Главные из них – Жорж де ля Тремуйль и эта лукавая лисица, архиепископ реймский. Покуда король, благодаря их стараниям, бездействует да развлекается охотой да бражничаньем, они сильны и положение их тем прочнее. Если же он воспрянет, образумится и, как подобает мужу, обнажит меч на защиту страны и короны, то их могуществу наступит конец. Им лишь бы самим благоденствовать, а там – пусть погибнет страна, пусть погибнет король: это их не тревожит.
– Говорили вы с кем-нибудь, кроме них?
– Ни с кем из придворных; ведь придворные – покорные рабы этих змей; они перенимают их слова и поступки, сообразуются с их действиями, думают по их указке и вторят их речам. А потому все относятся к нам холодно; поворачиваются спиной и отходят в сторону при нашем появлении. Но мы говорили с посланцами из Орлеана. Они заявили с горячностью: «Удивительно, как это человек, находящийся в столь отчаянном положении, как король, может праздно и безучастно стоять в стороне; он видит гибель всего своего достояния – и палец о палец не ударит, чтобы остановить беду. Какое странное зрелище! Вот он заперт в крохотном уголке своего королевства, словно крыса в западне. Королевским дворцом ему служит этот огромный, унылый, как гробница, замок; там вместо занавесей – истлевшие тряпки, вместо убранства палат – развалившаяся мебель; там воистину царит мерзость запустения. В его казне сорок франков – ни сантима больше, Бог свидетель! У него нет войска и неоткуда достать его; и рядом с таким голодным убожеством вы видите этого бездержавного нищего, окруженного толпами шутов и любимых царедворцев, – все они разодеты в самые пышные шелка и бархат, каких не встретишь ни при одном дворе христианского мира. И ведь он знает, что с падением Орлеана – падет Франция; он знает, что, лишь только час пробьет, он превратится в беглеца и изгнанника и что в покинутой им стране над каждым клочком его великого наследства будет победоносно развеваться английское знамя; он знает все это, знает, что наш доблестный город совершенно одиноко, без всякой поддержки, борется с болезнями, голодом и нашествием, в надежде отвратить грозное бедствие; и тем не менее он отказывается нанести хотя бы единый удар, чтобы спасти город, он не хочет слышать наши просьбы, он даже не хочет видеть нас». Вот что сказали мне посланцы; они уже перестали надеяться.
Жанна мягко возразила:
– Как печально! Но они не должны отчаиваться. Дофин вскоре пожелает их выслушать. Передайте им это.
Она почти всегда называла короля дофином. По ее мнению, он, как не коронованный, еще не был королем.
– Мы передадим им, и эти слова успокоят их, так как они верят, что ты послана Богом. Архиепископ и его единомышленник опираются на этого старого воина, Рауля де Гокура, великого дворецкого. Человек он честный, но солдат и больше ничего; возвышенное недоступно его уму. Он не в состоянии понять, как это деревенская девушка, ничего не знающая в военном деле, возьмет в маленькую руку тяжелый меч и станет одерживать победы там, где полвека подряд опытные французские полководцы ничего не ждали, – и не находили, – кроме поражений. И он топорщит свои седые усы и подтрунивает.
– Когда сражается Господь, то не важно, большая или малая рука возьмется за Его меч. Со временем он убедится в этом. Есть ли в Шинонском замке хоть один наш доброжелатель?
– Да, – теща короля, Иоланта, королева Сицилии: она исполнена мудрости и доброты. Она беседовала с сэром Бертраном.
– Она сочувствует нам и ненавидит всю эту толпу королевских тунеядцев, – сказал Бертран. – Она проявила живую любознательность и осыпала меня тысячей вопросов, и я отвечал ей все, что знал. Затем она погрузилась в задумчивость и долго сидела неподвижно, так что я предположил, что она задремала и не скоро очнется. Но я ошибся. Она наконец заговорила, медленно, как бы беседуя с собой: «Ребенок семнадцати лет… девочка… выросла в деревне… не училась… не знает, как воевать, как обращаться с оружием, как руководить битвами… скромная, кроткая, боязливая… И вот она бросает в сторону свой пастушеский посох, надевает стальную кольчугу и мечом прокладывает себе путь через занятую неприятелем область, не теряя ни мужества, ни надежды, не зная страха… и приходит за полтораста лье к королю… она, которой надлежало бы трепетать и страшиться в присутствии короля… приходит, чтобы стать перед ним и сказать: «Не бойся! Господь послал меня спасти тебя!..» Ах, откуда может взяться такая вдохновенная отвага и убежденность, как не от самого Господа!» Она снова умолкла и задумалась, собираясь с мыслями, потом сказала: «Послана она Богом или нет, но есть в ней нечто, возвышающее ее над людьми, – над всеми людьми нынешней Франции; она – носительница того таинственного дара, который способен одушевить солдат и превратить трусливую толпу в доблестную рать, не знающую страха, – в войско, что идет на битву с радостью в глазах и с песнями на устах и, подобно буре, налетает на врага… Этим именно воодушевлением может спастись Франция – и только им, откуда бы оно ни исходило! В ней есть этот вдохновенный огонь, – я твердо верю, – ибо что другое могло поддерживать отвагу в этом ребенке и заставить ее презреть все опасности утомительного похода? Король должен увидеть ее лицом к лицу – и это будет!» Она отпустила меня с этими милостивыми словами, и я не сомневаюсь, что ее обещание будет исполнено. Они – эти животные – будут мешать ей всеми средствами, но в конце концов она восторжествует.
– Ах, кабы она была королем! – произнес с жаром другой рыцарь. – Слишком мало надежды, что самого короля удастся пробудить от спячки. Он окончательно махнул рукой на все и только о том и помышляет, как бы ему оставить все на произвол судьбы и убежать в другую страну. Посланцы говорят, что он находится во власти каких-то чар, убивающих в нем всякую надежду, что над всем этим тяготеет какая-то тайна, которую они не могут разгадать.
– Я знаю эту тайну, – сказала Жанна со спокойным убеждением. – Тайна эта известна мне и ему, а кроме нас – только Богу. Увидевшись с ним, поведаю ему нечто сокровенное, что развеет его тревогу, – и тогда он снова поднимет голову.