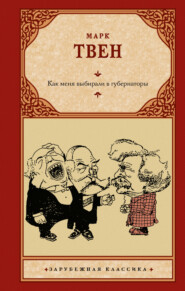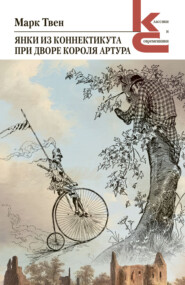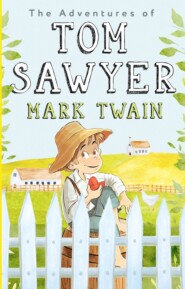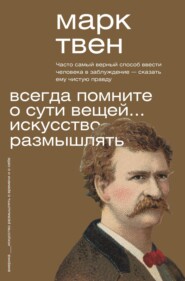По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жанна д'Арк
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В моих глазах обещание спасения есть великое сокровище.
– Думаешь ли ты, что после этого откровения ты была бы способна совершить смертный грех?
– На этот счет я ничего не знаю. Моя вера в спасение зиждится на соблюдении моей клятвы – сохранить в чистоте мое тело и мою душу.
– Если ты знаешь, что будешь спасена, то считаешь ли ты необходимым являться к исповеди?
Ловушка была придумана хитро, но простой и смиренный ответ Жанны обманул его надежды:
– Никто не может поручиться за безупречность своей совести.
Близился последний день этого нового суда. Жанна мужественно перенесла испытание. То была долгая борьба, утомительная для всех участников. Были испробованы все средства, чтобы обличить обвиняемую, но пока – все напрасно. Инквизиторы были до крайности утомлены и раздосадованы. Тем не менее они решили сделать еще одно усилие, потрудиться еще один день. И это было исполнено 17 марта. Вскоре после начала заседания Жанне снова расставили удачную ловушку:
– Согласна ли ты подчинить решению Церкви все твои слова и поступки, добрые или злые?
Это было хорошо придумано. Теперь Жанне грозила неминуемая опасность. Если она, позабыв осторожность, скажет «да», то она предоставит на суд этих людей уже не только себя, но и то дело, ради которого она пришла; а они быстро сумеют очернить источник и сущность ее вдохновения. Если же она скажет «нет», то на нее можно будет взвести обвинение в ереси.
Однако она справилась с затруднением. Церковную власть над собой, как над единичным членом Церкви, она отделила резкой пограничной чертой от всего, что имело отношение к ее посланничеству. Она заявила о своей любви к Церкви и о своей готовности защищать всеми силами христианскую веру; но поступки свои, совершенные по приказанию свыше, она признала подсудными лишь Богу, Который повелел их совершить.
Судья продолжал настаивать, чтобы она подчинила свои деяния решению Церкви. Она сказала:
– Я подчиню их решению Господа нашего, Который послал меня. Мне кажется, что Он и Его Церковь нераздельны и что тут не может быть разногласий. – Потом она повернулась к судье и сказала: – К чему эти пустые слова?
Тогда Жан де ла Фонтэн указал на ошибочность ее мнения, будто Церковь едина. Есть две Церкви: Церковь Торжествующая, которая есть Бог, святые, ангелы и праведники, пребывающая на Небе; и Церковь Воинствующая, которую олицетворяют наш святой отец, Папа Римский, наместник Божий, прелаты, духовенство и все добрые христиане и католики, – эта Церковь пребывает на земле, руководится Святым Духом и не может заблуждаться.
– Согласна ли ты подчиниться решению Церкви Воинствующей?
– К королю Франции меня послала Церковь Торжествующая, пребывающая на горних высотах, и только этой Церкви я дам отчет в своих делах. Церкви Воинствующей я ничего теперь не могу ответить.
Суд принял к сведению этот смелый отказ, чтобы в свое время извлечь из него пользу; а пока вопрос этот был оставлен, и началась долгая травля с прежними затасканными вопросами – они занялись опять феями, видениями, мужским платьем и тому подобными придирками.
После полудня сатанинский епископ занял председательское кресло и самолично возглавил остальную часть судебного заседания. Под самый конец один из судей задал следующий вопрос:
– Ты сказала монсиньору епископу, что будешь отвечать ему, как самому Папе, нашему святому отцу; а между тем ты упорно оставляешь без ответа многие вопросы. Быть может, Папе ты отвечала бы с большей полнотой, чем мон-синьору из Бовэ? Вероятно, ты сочла бы себя обязанной давать более обстоятельные ответы Папе, наместнику Бога?
И грянул гром среди безоблачного неба:
– Приведите меня к Папе. Я буду говорить ему все, что считаю нужным.
Багровое лицо епископа побледнело от замешательства. Если б Жанна знала! Если б она знала! Она подложила мину под этот мрачный заговор, и ей теперь ничего не стоило бы взорвать затеи епископа и развеять их по ветру; но она не знала этого. Она проронила свои слова по наитию, не подозревая, какая страшная сила таится в них, и некому было разъяснить ей, что она сделала. Я знал; знал и Маншон. И если бы она умела читать, мы могли бы надеяться как-нибудь послать ей весточку; но Жанна поняла бы только живую речь, а к ней никого близко не подпускали. И она продолжала сидеть, еще раз увенчанная лаврами победы, – сама того не зная. Она была страшно утомлена долгой борьбой или недугом, иначе она заметила бы впечатление своих слов и отгадала бы причину.
Много удачных ударов нанесла она, но это был самый удачный. Она воззвала к Риму. То было ее неоспоримое право. И если бы она продолжала настаивать, затея Кошона развалилась бы, как карточный дом, и он, в конце концов, потерпел бы беспримерно позорное поражение. Он умел дерзать, но у него не хватило бы дерзости противостоять этому требованию, если бы Жанна в нем упорствовала. Однако – нет: она, бедняжка, не знала, насколько этот могучий удар приблизил ее к жизни и к свободе.
Франция не была Церковью. Риму незачем было губить эту посланницу Бога. Рим дал бы ей справедливый суд, а это обеспечило бы ее спасение. Жанна покинула бы этот суд свободная, осыпаемая почестями и благословениями.
Но, видимо, была не судьба. Кошон сразу перевел речь в другое русло и поспешил закончить заседание. Когда Жанна удалялась медленной поступью, волоча тяжелые цепи, я почувствовал себя разбитым, ошеломленным; и я повторял про себя: «Так еще недавно она произнесла спасительное слово; она могла бы получить свободу; а между тем она идет на смерть; да, на смерть: я знаю, я чувствую это. Они удвоят стражу; они отныне никого не подпустят к ней, чтобы она не получила предупреждения и не повторила своих слов». Я пережил самый горький день за все это злосчастное время.
Глава XII
Итак, закончился и второй суд в тюрьме. Закончился, не дав определенного исхода. Я уже описал вам, каков был этот суд. В одном отношении он был еще низменнее, чем предыдущий, ибо на этот раз Жанне не сообщали выставляемых против нее обвинений и она была вынуждена сражаться в темноте. У нее не было возможности обдумать что-либо заранее; она не могла предвидеть расставленных сетей, не могла к ним приготовиться. Надо было обладать великим бесстыдством, чтобы так злоупотреблять беспомощностью бедной девушки. Случилось во время заседаний, что в Ру-ан заехал некий искусный законовед из Нормандии, мэтр Луайе, и я, кстати, сообщу вам его отзыв об этом суде, чтобы вы не сомневались в правдивости моего рассказа и не думали, что я, увлекшись защитой, преувеличиваю несправедливости и беззакония, жертвой которых была Жанна. Кошон показал Луайе свой proces и попросил его высказаться о суде. И вот какой отзыв он дал Кошону: он сказал, что вся эта затея не стоит выеденного яйца, потому что, во-первых, заседания суда были тайные, и этим исключалась свобода слова и действий обвиняемой стороны; во-вторых, обвинением была затронута честь французского короля, а между тем ему не предложили явиться для своей защиты или прислать своего уполномоченного заместителя; в-третьих, обвиняемой не были сообщаемы статьи обвинения; в-четвертых, обвиняемая, несмотря на свою молодость и неопытность, была вынуждена вести свою защиту без помощи адвоката, между тем как решался вопрос ее жизни и смерти.
Понравился ли Кошону такой отзыв? Нет. Он обрушился на Луайе, осыпал его самой необузданной бранью и поклялся, что утопит его. Луайе бежал из Руана и поспешил покинуть Францию; только этим он спас себе жизнь.
Как я уже сказал, второй суд кончился, не приведя ни к чему определенному. Однако Кошон не сдавался. Ему ничего не стоило созвать третий суд и – четвертый, и пятый, если будет нужно. Ему была почти обещана огромная награда – руанское архиепископство, если увенчаются успехом его старания сжечь тело и обречь на вечные муки душу этой молодой девушки, которая никому не сделала зла; а за такую цену, как сан архиепископа, такой человек, каким был Кошон, согласился бы сжечь и погубить пятьдесят ни в чем не повинных девушек, а не только одну.
И вот он на другой же день снова принялся за работу; и на этот раз он был уверен в себе и злорадно предвкушал успех. Ему и остальным крючкотворцам пришлось потратить девять дней на то, чтобы нахватать из показаний Жанны достаточное число отдельных мест и, прибавив немалую долю собственных измышлений, соорудить из всего этого новую пирамиду улик. И получилось страшное здание – целых шестьдесят шесть статей!
Этот огромный документ был на следующий день, 27 марта, отвезен в замок; и там началось новое разбирательство в присутствии двенадцати тщательно подобранных судей.
Путем голосования решили на сей раз прочесть Жанне все статьи обвинения. Возможно, что это было сделано под влиянием отзыва Луайе; возможно также, что они надеялись доконать пленницу утомительным чтением, которое, как оказалось, заняло несколько дней. Кроме того, они решили, что Жанна должна прямо отвечать на все вопросы; в случае отказа она будет считаться уличенной. Как видите, Кошон с каждым разом придумывал новые трудности; он затягивал сети все туже и туже.
Жанну привели. Епископ Бовэский обратился к ней с речью, которая могла бы даже его лицо залить краской стыда, – столько было в ней лицемерия и лжи. Он заявил, что в состав настоящего суда входят праведные и благочестивые служители Церкви, сердца коих преисполнены доброжелательства и сочувствия по отношению к ней; и что они вовсе не заботятся о нанесении ей телесных страданий, но желали бы только наставить ее и открыть ей пути истины и спасения.
Этот человек был сущий дьявол; подумайте только, каким ангелом он вдруг прикинулся вместе со своими бессердечными приспешниками.
А между тем худшее было еще впереди. Ибо вслед за тем он, во исполнение другого совета Луайе, имел бесстыдство предложить Жанне нечто такое, что, вероятно, приведет вас в изумление. Он сказал, что нынешний суд, принимая во внимание ее неопытность и неспособность разобраться в многосложных и трудных вопросах, которые подлежат рассмотрению, решил проявить свое милосердие и сострадание и потому предлагает ей выбрать из их среды одного или нескольких судей, которые могли бы помогать ей своими советами и указаниями!
Представьте себе – суд, составленный из Луазлера и подобных ему рептилий! Это было все равно, что разрешить агнцу пользоваться помощью волка. Жанна взглянула на Кошона, желая узнать, не шутит ли он, и, видя, что он, по крайней мере, притворяется искренним, она, конечно, отказалась.
Епископ и не ждал другого ответа. Он проявил свое «беспристрастие», об этом будет упомянуто в отчете, – а больше ему ничего не нужно.
Затем он приказал Жанне давать прямой ответ на каждое обвинение и пригрозил ей отлучением от Церкви, если она не исполнит этого или задержит свой ответ дольше известного времени. Да, он мало-помалу затягивал сети.
Тома де Курсель принялся за постатейное чтение бесконечного документа. Жанна отвечала поочередно на каждую статью; иногда она лишь указывала на несправедливость обвинения, иногда говорила, что ответ ее можно найти в отчетах предыдущих заседаний.
Какой это был странный документ! Какое обличение сердца человека – единственного существа, которому дано право гордиться, что оно создано по образу и подобию Божию! Знать Жанну д'Арк значило знать душу безгранично благородную, чистую, преданную, отважную, кроткую, великую, праведную, самоотверженную, смиренную, целомудренную, как полевые цветы, – олицетворение нежности, красоты, вдохновенного величия. А этот документ учил как раз обратному. Там нельзя найти ничего, что свойственно Жанне; зато в подробностях упомянуто все, что было ей чуждо.
Возьмите несколько обвинений и вспомните, о ком идет речь. Жанну назвали колдуньей, лжепророчицей, вызыва-тельницей и пособницей нечистой силы, проповедницей чернокнижия; говорили, что она не знает католического вероучения, что она еретичка, идолопоклонница, отступница, поносительница Бога и святых Его, мятежница, нарушительница тишины и порядка; она призывает людей к войне, к кровопролитию; она пренебрегает женской стыдливостью, надевая на себя платье мужчины и вступая на поприще воина; она обманывает и высшую знать, и народ; она присваивает себе Божественные почести, заставляя боготворить себя, предлагая народу лобзать свои руки и одежду.
Вот оно – мельчайшие события ее жизни искажены, извращены, вывернуты наизнанку. В раннем детстве она любила фей, говорила им слова утешения, когда они подверглись изгнанию, резвилась под их Древом и вокруг их источника, значит, она пособница нечистой силы. Она помогла опозоренной Франции встать и повела ее от победы к победе, значит, она была нарушительница тишины, – и действительно была! Она призывала к войне – и это опять-таки правда! И этим Франция будет гордиться и будет благодарить за это на протяжении грядущих веков! И ее боготворили, как будто она могла, бедняжка, воспрепятствовать этому, как будто ее можно за это осудить! И присмиревший ветеран, и робкий новобранец находили в ее взоре источник воинственной отваги и, прикоснувшись своими мечами к ее оружию, победоносно сражались, значит, она колдунья.
Так развертывались, одна за другой, все подробности документа, превращавшего в яд эти животворные волны, претворявшего золото в мишуру, безобразившего и искажавшего жизнь высокоблагородную и прекрасную.
Само собой разумеется, что шестьдесят шесть статей обвинения были только переделкой тех вопросов, которые были затронуты во время предшествующих разбирательств, а потому я лишь вкратце коснусь этого нового суда. Да и сама Жанна не входила в подробности; по большей части она лишь говорила: «Это неверно – passez outre», или: «Я уже ответила на этот вопрос – прикажите писцу прочесть отчет»; или же давала какой-нибудь краткий ответ.
Она не соглашалась признать свое посланничество подсудным земной Церкви. Отказ ее был внесен в отчет.
Она сказала, что предъявленное к ней обвинение, будто она обожествляла себя и искала людского поклонения, несправедливо.
– Если кто-либо целовал мои руки или одежду, – сказала она, – то это произошло не по моему желанию, и я всеми силами старалась избегать этого.
Она имела смелость заявить этому смертоносному судилищу, что она не считает фей злыми существами. Она знала, сколь опасно такое заявление, но она придерживалась правила говорить только правду, – если уж говорить. Об опасности она в таких случаях не думала. Замечание ее было опять-таки принято к сведению.
Как и раньше, она ответила отказом на вопрос, согласится ли она переменить мужскую одежду на женскую, если ей разрешат исповедаться. И она добавила еще:
– Если человек приобщается Святых Тайн, то вопрос о том, как он одет, является пустяком и не имеет значения в глазах Господа нашего.
Ее обвиняли в ее упрямой привязанности к мужскому платью, доходившей до того, что она не соглашалась переодеться даже ради благодатного допущения к обедне. Она произнесла с воодушевлением:
– Думаешь ли ты, что после этого откровения ты была бы способна совершить смертный грех?
– На этот счет я ничего не знаю. Моя вера в спасение зиждится на соблюдении моей клятвы – сохранить в чистоте мое тело и мою душу.
– Если ты знаешь, что будешь спасена, то считаешь ли ты необходимым являться к исповеди?
Ловушка была придумана хитро, но простой и смиренный ответ Жанны обманул его надежды:
– Никто не может поручиться за безупречность своей совести.
Близился последний день этого нового суда. Жанна мужественно перенесла испытание. То была долгая борьба, утомительная для всех участников. Были испробованы все средства, чтобы обличить обвиняемую, но пока – все напрасно. Инквизиторы были до крайности утомлены и раздосадованы. Тем не менее они решили сделать еще одно усилие, потрудиться еще один день. И это было исполнено 17 марта. Вскоре после начала заседания Жанне снова расставили удачную ловушку:
– Согласна ли ты подчинить решению Церкви все твои слова и поступки, добрые или злые?
Это было хорошо придумано. Теперь Жанне грозила неминуемая опасность. Если она, позабыв осторожность, скажет «да», то она предоставит на суд этих людей уже не только себя, но и то дело, ради которого она пришла; а они быстро сумеют очернить источник и сущность ее вдохновения. Если же она скажет «нет», то на нее можно будет взвести обвинение в ереси.
Однако она справилась с затруднением. Церковную власть над собой, как над единичным членом Церкви, она отделила резкой пограничной чертой от всего, что имело отношение к ее посланничеству. Она заявила о своей любви к Церкви и о своей готовности защищать всеми силами христианскую веру; но поступки свои, совершенные по приказанию свыше, она признала подсудными лишь Богу, Который повелел их совершить.
Судья продолжал настаивать, чтобы она подчинила свои деяния решению Церкви. Она сказала:
– Я подчиню их решению Господа нашего, Который послал меня. Мне кажется, что Он и Его Церковь нераздельны и что тут не может быть разногласий. – Потом она повернулась к судье и сказала: – К чему эти пустые слова?
Тогда Жан де ла Фонтэн указал на ошибочность ее мнения, будто Церковь едина. Есть две Церкви: Церковь Торжествующая, которая есть Бог, святые, ангелы и праведники, пребывающая на Небе; и Церковь Воинствующая, которую олицетворяют наш святой отец, Папа Римский, наместник Божий, прелаты, духовенство и все добрые христиане и католики, – эта Церковь пребывает на земле, руководится Святым Духом и не может заблуждаться.
– Согласна ли ты подчиниться решению Церкви Воинствующей?
– К королю Франции меня послала Церковь Торжествующая, пребывающая на горних высотах, и только этой Церкви я дам отчет в своих делах. Церкви Воинствующей я ничего теперь не могу ответить.
Суд принял к сведению этот смелый отказ, чтобы в свое время извлечь из него пользу; а пока вопрос этот был оставлен, и началась долгая травля с прежними затасканными вопросами – они занялись опять феями, видениями, мужским платьем и тому подобными придирками.
После полудня сатанинский епископ занял председательское кресло и самолично возглавил остальную часть судебного заседания. Под самый конец один из судей задал следующий вопрос:
– Ты сказала монсиньору епископу, что будешь отвечать ему, как самому Папе, нашему святому отцу; а между тем ты упорно оставляешь без ответа многие вопросы. Быть может, Папе ты отвечала бы с большей полнотой, чем мон-синьору из Бовэ? Вероятно, ты сочла бы себя обязанной давать более обстоятельные ответы Папе, наместнику Бога?
И грянул гром среди безоблачного неба:
– Приведите меня к Папе. Я буду говорить ему все, что считаю нужным.
Багровое лицо епископа побледнело от замешательства. Если б Жанна знала! Если б она знала! Она подложила мину под этот мрачный заговор, и ей теперь ничего не стоило бы взорвать затеи епископа и развеять их по ветру; но она не знала этого. Она проронила свои слова по наитию, не подозревая, какая страшная сила таится в них, и некому было разъяснить ей, что она сделала. Я знал; знал и Маншон. И если бы она умела читать, мы могли бы надеяться как-нибудь послать ей весточку; но Жанна поняла бы только живую речь, а к ней никого близко не подпускали. И она продолжала сидеть, еще раз увенчанная лаврами победы, – сама того не зная. Она была страшно утомлена долгой борьбой или недугом, иначе она заметила бы впечатление своих слов и отгадала бы причину.
Много удачных ударов нанесла она, но это был самый удачный. Она воззвала к Риму. То было ее неоспоримое право. И если бы она продолжала настаивать, затея Кошона развалилась бы, как карточный дом, и он, в конце концов, потерпел бы беспримерно позорное поражение. Он умел дерзать, но у него не хватило бы дерзости противостоять этому требованию, если бы Жанна в нем упорствовала. Однако – нет: она, бедняжка, не знала, насколько этот могучий удар приблизил ее к жизни и к свободе.
Франция не была Церковью. Риму незачем было губить эту посланницу Бога. Рим дал бы ей справедливый суд, а это обеспечило бы ее спасение. Жанна покинула бы этот суд свободная, осыпаемая почестями и благословениями.
Но, видимо, была не судьба. Кошон сразу перевел речь в другое русло и поспешил закончить заседание. Когда Жанна удалялась медленной поступью, волоча тяжелые цепи, я почувствовал себя разбитым, ошеломленным; и я повторял про себя: «Так еще недавно она произнесла спасительное слово; она могла бы получить свободу; а между тем она идет на смерть; да, на смерть: я знаю, я чувствую это. Они удвоят стражу; они отныне никого не подпустят к ней, чтобы она не получила предупреждения и не повторила своих слов». Я пережил самый горький день за все это злосчастное время.
Глава XII
Итак, закончился и второй суд в тюрьме. Закончился, не дав определенного исхода. Я уже описал вам, каков был этот суд. В одном отношении он был еще низменнее, чем предыдущий, ибо на этот раз Жанне не сообщали выставляемых против нее обвинений и она была вынуждена сражаться в темноте. У нее не было возможности обдумать что-либо заранее; она не могла предвидеть расставленных сетей, не могла к ним приготовиться. Надо было обладать великим бесстыдством, чтобы так злоупотреблять беспомощностью бедной девушки. Случилось во время заседаний, что в Ру-ан заехал некий искусный законовед из Нормандии, мэтр Луайе, и я, кстати, сообщу вам его отзыв об этом суде, чтобы вы не сомневались в правдивости моего рассказа и не думали, что я, увлекшись защитой, преувеличиваю несправедливости и беззакония, жертвой которых была Жанна. Кошон показал Луайе свой proces и попросил его высказаться о суде. И вот какой отзыв он дал Кошону: он сказал, что вся эта затея не стоит выеденного яйца, потому что, во-первых, заседания суда были тайные, и этим исключалась свобода слова и действий обвиняемой стороны; во-вторых, обвинением была затронута честь французского короля, а между тем ему не предложили явиться для своей защиты или прислать своего уполномоченного заместителя; в-третьих, обвиняемой не были сообщаемы статьи обвинения; в-четвертых, обвиняемая, несмотря на свою молодость и неопытность, была вынуждена вести свою защиту без помощи адвоката, между тем как решался вопрос ее жизни и смерти.
Понравился ли Кошону такой отзыв? Нет. Он обрушился на Луайе, осыпал его самой необузданной бранью и поклялся, что утопит его. Луайе бежал из Руана и поспешил покинуть Францию; только этим он спас себе жизнь.
Как я уже сказал, второй суд кончился, не приведя ни к чему определенному. Однако Кошон не сдавался. Ему ничего не стоило созвать третий суд и – четвертый, и пятый, если будет нужно. Ему была почти обещана огромная награда – руанское архиепископство, если увенчаются успехом его старания сжечь тело и обречь на вечные муки душу этой молодой девушки, которая никому не сделала зла; а за такую цену, как сан архиепископа, такой человек, каким был Кошон, согласился бы сжечь и погубить пятьдесят ни в чем не повинных девушек, а не только одну.
И вот он на другой же день снова принялся за работу; и на этот раз он был уверен в себе и злорадно предвкушал успех. Ему и остальным крючкотворцам пришлось потратить девять дней на то, чтобы нахватать из показаний Жанны достаточное число отдельных мест и, прибавив немалую долю собственных измышлений, соорудить из всего этого новую пирамиду улик. И получилось страшное здание – целых шестьдесят шесть статей!
Этот огромный документ был на следующий день, 27 марта, отвезен в замок; и там началось новое разбирательство в присутствии двенадцати тщательно подобранных судей.
Путем голосования решили на сей раз прочесть Жанне все статьи обвинения. Возможно, что это было сделано под влиянием отзыва Луайе; возможно также, что они надеялись доконать пленницу утомительным чтением, которое, как оказалось, заняло несколько дней. Кроме того, они решили, что Жанна должна прямо отвечать на все вопросы; в случае отказа она будет считаться уличенной. Как видите, Кошон с каждым разом придумывал новые трудности; он затягивал сети все туже и туже.
Жанну привели. Епископ Бовэский обратился к ней с речью, которая могла бы даже его лицо залить краской стыда, – столько было в ней лицемерия и лжи. Он заявил, что в состав настоящего суда входят праведные и благочестивые служители Церкви, сердца коих преисполнены доброжелательства и сочувствия по отношению к ней; и что они вовсе не заботятся о нанесении ей телесных страданий, но желали бы только наставить ее и открыть ей пути истины и спасения.
Этот человек был сущий дьявол; подумайте только, каким ангелом он вдруг прикинулся вместе со своими бессердечными приспешниками.
А между тем худшее было еще впереди. Ибо вслед за тем он, во исполнение другого совета Луайе, имел бесстыдство предложить Жанне нечто такое, что, вероятно, приведет вас в изумление. Он сказал, что нынешний суд, принимая во внимание ее неопытность и неспособность разобраться в многосложных и трудных вопросах, которые подлежат рассмотрению, решил проявить свое милосердие и сострадание и потому предлагает ей выбрать из их среды одного или нескольких судей, которые могли бы помогать ей своими советами и указаниями!
Представьте себе – суд, составленный из Луазлера и подобных ему рептилий! Это было все равно, что разрешить агнцу пользоваться помощью волка. Жанна взглянула на Кошона, желая узнать, не шутит ли он, и, видя, что он, по крайней мере, притворяется искренним, она, конечно, отказалась.
Епископ и не ждал другого ответа. Он проявил свое «беспристрастие», об этом будет упомянуто в отчете, – а больше ему ничего не нужно.
Затем он приказал Жанне давать прямой ответ на каждое обвинение и пригрозил ей отлучением от Церкви, если она не исполнит этого или задержит свой ответ дольше известного времени. Да, он мало-помалу затягивал сети.
Тома де Курсель принялся за постатейное чтение бесконечного документа. Жанна отвечала поочередно на каждую статью; иногда она лишь указывала на несправедливость обвинения, иногда говорила, что ответ ее можно найти в отчетах предыдущих заседаний.
Какой это был странный документ! Какое обличение сердца человека – единственного существа, которому дано право гордиться, что оно создано по образу и подобию Божию! Знать Жанну д'Арк значило знать душу безгранично благородную, чистую, преданную, отважную, кроткую, великую, праведную, самоотверженную, смиренную, целомудренную, как полевые цветы, – олицетворение нежности, красоты, вдохновенного величия. А этот документ учил как раз обратному. Там нельзя найти ничего, что свойственно Жанне; зато в подробностях упомянуто все, что было ей чуждо.
Возьмите несколько обвинений и вспомните, о ком идет речь. Жанну назвали колдуньей, лжепророчицей, вызыва-тельницей и пособницей нечистой силы, проповедницей чернокнижия; говорили, что она не знает католического вероучения, что она еретичка, идолопоклонница, отступница, поносительница Бога и святых Его, мятежница, нарушительница тишины и порядка; она призывает людей к войне, к кровопролитию; она пренебрегает женской стыдливостью, надевая на себя платье мужчины и вступая на поприще воина; она обманывает и высшую знать, и народ; она присваивает себе Божественные почести, заставляя боготворить себя, предлагая народу лобзать свои руки и одежду.
Вот оно – мельчайшие события ее жизни искажены, извращены, вывернуты наизнанку. В раннем детстве она любила фей, говорила им слова утешения, когда они подверглись изгнанию, резвилась под их Древом и вокруг их источника, значит, она пособница нечистой силы. Она помогла опозоренной Франции встать и повела ее от победы к победе, значит, она была нарушительница тишины, – и действительно была! Она призывала к войне – и это опять-таки правда! И этим Франция будет гордиться и будет благодарить за это на протяжении грядущих веков! И ее боготворили, как будто она могла, бедняжка, воспрепятствовать этому, как будто ее можно за это осудить! И присмиревший ветеран, и робкий новобранец находили в ее взоре источник воинственной отваги и, прикоснувшись своими мечами к ее оружию, победоносно сражались, значит, она колдунья.
Так развертывались, одна за другой, все подробности документа, превращавшего в яд эти животворные волны, претворявшего золото в мишуру, безобразившего и искажавшего жизнь высокоблагородную и прекрасную.
Само собой разумеется, что шестьдесят шесть статей обвинения были только переделкой тех вопросов, которые были затронуты во время предшествующих разбирательств, а потому я лишь вкратце коснусь этого нового суда. Да и сама Жанна не входила в подробности; по большей части она лишь говорила: «Это неверно – passez outre», или: «Я уже ответила на этот вопрос – прикажите писцу прочесть отчет»; или же давала какой-нибудь краткий ответ.
Она не соглашалась признать свое посланничество подсудным земной Церкви. Отказ ее был внесен в отчет.
Она сказала, что предъявленное к ней обвинение, будто она обожествляла себя и искала людского поклонения, несправедливо.
– Если кто-либо целовал мои руки или одежду, – сказала она, – то это произошло не по моему желанию, и я всеми силами старалась избегать этого.
Она имела смелость заявить этому смертоносному судилищу, что она не считает фей злыми существами. Она знала, сколь опасно такое заявление, но она придерживалась правила говорить только правду, – если уж говорить. Об опасности она в таких случаях не думала. Замечание ее было опять-таки принято к сведению.
Как и раньше, она ответила отказом на вопрос, согласится ли она переменить мужскую одежду на женскую, если ей разрешат исповедаться. И она добавила еще:
– Если человек приобщается Святых Тайн, то вопрос о том, как он одет, является пустяком и не имеет значения в глазах Господа нашего.
Ее обвиняли в ее упрямой привязанности к мужскому платью, доходившей до того, что она не соглашалась переодеться даже ради благодатного допущения к обедне. Она произнесла с воодушевлением: