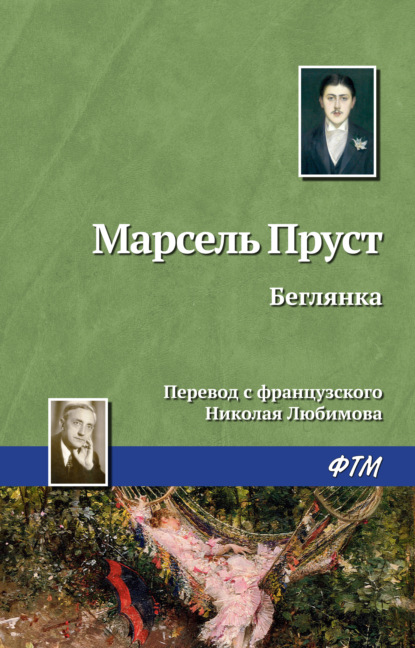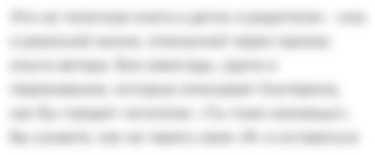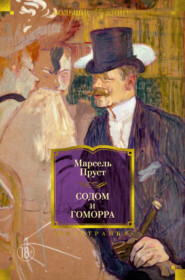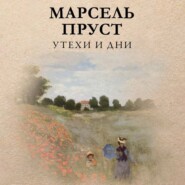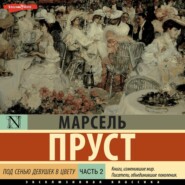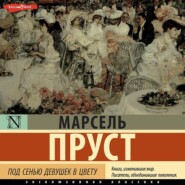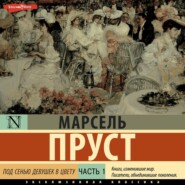По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Беглянка
Автор
Жанр
Год написания книги
1925
Марсель Пруст – один из крупнейших французских писателей, родоначальник современной психологической прозы. Самое значимое свое произведение, цикл романов «В поисках утраченного времени», писатель создавал в течение четырнадцати лет. Каждый роман цикла – и звено в цепи всего повествования, и самостоятельное произведение. Все семь книг объединены образом рассказчика, пробуждающегося среди ночи и предающегося воспоминаниям о своей жизни. Настоящее и прошлое, созерцание и воспоминание оказываются вне времени и объединяются в единую картину, закладывая основу нового типа романа – романа «потока сознания».
Шестой роман семитомной эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» вышел в свет через несколько лет после смерти автора. Первое издание на основе рукописей было опубликовано под названием «Исчезнувшая Альбертина».
На сайте электронной библиотеки Litportal вы можете скачать книгу Беглянка в формате fb2, rtf, pdf, txt, epub. У нас можно прочитать отзывы и рецензии о этом произведении.
Шестой роман семитомной эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» вышел в свет через несколько лет после смерти автора. Первое издание на основе рукописей было опубликовано под названием «Исчезнувшая Альбертина».
Скачать книгу в форматах
Помогите, пожалуйста, другим читателям нашего сайта, оставьте отзыв или рецензию о прочитанной книге.
Спасибо! Ваш отзыв был отправлен на модерацию.
Отзывы о книге Беглянка
sibkron
Отзыв с LiveLib от 17 июня 2015 г., 12:59
"Беглянка" завершает подцикл Пруста об отношениях Марселя и Альбертины.Большую часть романа составляет рефлексия героя об утрате своей возлюбленной. По мере чтения складывалось ощущение, что Альбертина скорее вещь, чем человек. Ну и, конечно, Пруст наглядно проиллюстрировал избитую поговорку-штамп: "что имеем — не храним, потерявши — плачем". Эгоизм героя не позволил ему высказаться прямо о любви к героине, о желании с ней быть (да и была ли в данном случае любовь? скорее желание иметь любимый артефакт/сокровище в шкатулке, скрытым ото всех), что привело к несчастному случаю (по тексту промелькнули мысли о суициде). Герой долго не может свыкнуться с мыслью о смерти девушки и пытается восстановить тайную сторону жизни Альбертины. Только, что это даст теперь? Да и утешение Марсель находит вполне быстро.Пожалуй, наименее понравившийся роман. Дело тут, конечно, не в переводе, хотя это мой первый Пруст в переводе Любимова, а скорее в том, что все темы и приемы сильно повторяются. А, в целом, Пруст - есть Пруст, и произведение как всегда у автора написано красиво.
laonov
Отзыв с LiveLib от 13 ноября 2021 г., 10:11
Добро пожаловать в ад.
Ад любви. Вместо Вергилия — Марсель Пруст, гомосексуалист, точнее, бисексуал.
Не бойтесь. 5 кругов ада уже пройдены. Беглянка — 6, предпоследний том эпопеи «Утраченного времени».
Шестой круг ада. Как известно, в 6 кругу, царила вечная скорбь и мучились еретики.
Сторожами были сёстры Фурии, со змеями вместо волос.
Эдакие Лилит, мстящие… мужчинам, точнее, тем, кто превращает любовь — в темницу, мучая её и сковывая свободу крыльев.
Фактически, шестой круг ада — Гоморра.
Таинственное и автономное царство в аду, сапфических женщин: главная героиня романа — Альбертина, ушла от мужчины… к женщине.
Как и положено в 6 кругу ада — у стены стоят голодные, раскрытые гробы, полыхающие не то огнём, не то осенью, в которой призрак обречён пребывать — вечно.
Осень, как место расставания? Осень — приглашение в ад?Постель посреди осени, застеленная туманом. Птицы летают в комнате: зрачок комнаты темно расширен: комната стала миром, и его замело осенью и печалью.
Возле постели стоят гробы.
В их раскрытости, обнажённости, есть что-то развратное.
Они в сумерках и лиственных плесках осени манят, подобно Сиренам: манят лечь с ними. Войти в них… медленно.
Человек в постели закрывает лицо руками.
Открылось со стуком окно и в комнату влетело два алых листа: сердцебиение воздуха.
Руки, мокрые от слёз, опускаются, медленно, как одеяло на лице ребёнка, укрывшегося с головой, от чудовищ.
Никаких гробов нет.
Возле стены стоят раскрытые чемоданы с женской одеждой.
На голубом, как высокое небо августа, платье, лежит кленовый алый лист…Достоевский писал, что если бы человечество умерло и предстало пред богом, то оно протянуло бы ему всего одну книгу: Дон Кихот, сказав: так мы поняли жизнь, Господи!
Книгу Пруста, не донесут до бога, даже контрабандой.
Только представьте: голубой и прохладный прибой цветов в раю.
Лежит ангел. Крылья его дышат медленной, солнечной рябью, то накрывая его почти с головой, то отступая.
Дует ветерок, листая крылья, словно страницы.
Вокруг играют счастливые дети.
Ангелы кружат в высокой, бесконечной лазури, как ласточки, вместо писка, вычерчивая в синеве мелодии чувств.
Достоевский с Набоковым идут по лугу и ловят бабочек.
Они не помнят, что написали Преступление и наказание, Лолиту. Не помнят об аде страстей.
Они помнят что-то другое, странное, как вместе написали роман: Бегство с земли.Слышится плачь. Достоевский с моложавым Набоковым оглядываются на ангела в цветах.
На груди его, как открытое сердце, лежит книга Пруста, и перелистывается ветерком: каждый лист — как солнечное сердцебиение воздуха.
Заалевшие крылья ударяются по цветам, словно руки в бинтах (порезаны запястья).
Всё смолкло в раю. Ангелы в небе затихли.
Островок ада, лунно взошёл в раю…
Этот роман Пруста, быть может раздают у входа в ад, спрашивают лишь одно: вы любили на Земле?Пруст очень точно, инфернально точно описывает анатомию разлуки: человек умер, а над ним смутно светят белые силуэты крыльев, словно врачи, грустно сошедшиеся над несчастным, для вскрытия.
Пруст описывает, как боль разлуки, вскрывает в душе все прежние боли разлук и трагедий, начиная с детства.
Помните, как Наташа Ростова, шёпотом, говорила Сонечке у вечернего окна о том, что когда вспоминаешь, вспоминаешь.. порой можно до того довспоминаться, что словно бы помнишь то, что было тогда, когда тебя ещё не было.
Мир обращается в сплошную рану, где нет ни тебя, ни бога, ни человека вообще.
Герой Пруста — словно Диоген времени, ищет при озябнувшем свете фонаря воспоминаний, не человека уже, но — любовь, Беатриче в Аду.Айседора Дункан однажды заметила, что в мире есть лишь один стон, один крик, и не важно, стонет ли это человек на смертном одре, стонут ли это любовники в жаркой и смятой постели, стонет ли это женщина во время родов или кричит родившийся младенец, навек удивившийся и ужаснувшийся — миру.
Всё есть крик и разлука: младенец покидает мать, любовники расстаются, душа покидает тело, немым и чёрным криком растут бездонные пространства между звёздами…
Я читал первые 26 стр. романа несколько дней: мне физически было больно дотронуться до книги.
Была попытка самоубийства, новая попытка души — убежать к звёздам.
Близкий мне человек покинул меня. Разум, тоже сделал попытку к побегу, но был ранен в спину и упал в цветы поздней осени.
Вместе с нм синхронно упал и тот, кто стрелял: в комнате, возле окна.Я боялся возвращаться домой, зная, что там меня ждёт книга Пруста — Ад.
Возвращался ночью.
Не включая свет, садился в кресло, закуривал и смотрел на тёмный столик, где была книга, молча смотревшая на меня.
Книга Пруста стала для меня карамазовским чёртом: я просто сидел в темноте и говорил с ней, и плакал, рассказывая где я был, что делал.
В книге, Марсель чудесно описывает один момент расставания, до боли знакомый многим из нас: силы уже на исходе, мыслей уже нет, и губы, как лунатики на карнизе ночи, подушки, не важно, шепчут милое имя того, кто ушёл (это ещё образы не Пруста, а мои, моя, боль.).
Какой-то памятью сердца, Пруст очерчивает образы не то ада, не то рая: мозг превращается в стену, которую, кто-то, шутя, исписал милым именем.
Пруст сравнивает эту перелётную стайку имён, взметнувшейся в небо, с покачнувшейся веточки губ (прости за этот образ, Марсель, это личное, ты поймёшь), с птицами.
Правда похоже на наш сон из юности, когда мы писали во сне и не только, имя нашей любимой на доске, когда нас вызвали к доске? Заполняли вечернее пространство доски именем, что разрывало сердце, пока учительница не стирала их грубо, а они проявлялись вновь.. как милое лицо при проявке фотографии, и на всех уроках дети проходили имя возлюбленной: кому Онегин писал письмо? Ей! В какую африканскую страну отправился Гумилёв? И снова её милое имя!
Последние слова Джордано Бруно перед сожжением? Её, Её милое имя!!
Вспоминается цветаевская строчка: имя твоё — птица в руке!У Пруста есть строчки, похожие на сверхновые звёзды.
Вроде смотришь, звезды, красота и боль. Всё как положено.
А приглядишься и увидишь, что вот эта вот строчка — нейтронная звезда, сердце мёртвой звезды: её плотность так велика, что свет её уже почти не покидает.
Щепотка этой звезды на Земле, весила бы десятки, тысячи тонн.
Эту тайну знают влюблённые, когда словно бы вес целой ночной улицы, мерцающей звёздными огоньками, ложится им на сердце.
Почему же в чудесной метафоре Пруста, мозг — стал стеной?
Та самая стена города Ид, в 6 круге ада?
Нет. Просто Пруст… словно бы вскрывает ангела на операционном столе, и читатель с изумлением следит за тем, что же ещё сверкнёт в руке врача, и читатель с ужасом узнаёт что-то знакомое, словно ангел есть в каждом из нас, но мы вспоминаем о нём когда любим или… когда нам хочется умереть.Пруст проводит симметричную параллель между разумом и пленницей — Альбертиной, совершившей побег.
Разум пытается разобраться в причинах утраты и боли, но как все дороги ведут в Рим, так все тропы сердца, ведут к любви.
Разум становится перед фактом своей тотальной немощи.
Любовь для него, ещё более безумная и таинственная вещь, чем ангелы и бог, только с той ошеломляющей разницей, что разум начинает ощущать эти крылатые голоса, разум словно бы падает на колени, принимая доводы сердца.
Разум в горе, впервые становится чувствительным и чувствует боль.
Чувствует, как что-то во тьме касается его, а он пока ещё не видит, что именно, и от этого ему ещё более жутко.
В некоторой мере, читатель видит в телескопичность стройно выстроенных страниц, словно линз, зарождение звезды ( или её утраты?) гомосексуальности и таинственной жизни на этой звезде, где быть может нет пола вообще а есть сплошная душа.
Альбертина — как женственная природа Марселя, с которой у него роман, и которая тянется не столько к женщинам, сколько к душе человеческой.
Беглянкой, неминуемо окажется либо душа твоя, полюбившая мужчину, либо лунная, оборотная твоя душа, полюбившая женщину.
Наивен или намеренно глуп тот, кто считает гомосексуализм — нормой. Он, как и творчество, любовь — болезненное кровотечение души. Вопрос лишь в том — внутренее или внешнее.
Желание приручить любовь, искусство, пол — разве не тоталитарно и жестоко? Потом уже не видно, как они кровоточат. Марсель так хотел приручить Альбертину...Стена, с начертанными на ней именами…
Похоже на ветхозаветный образ, правда?
На пиру Вавилонского царя — огненные письмена проступили на стене: взвешен, исчислен, измерен.
Как известно, Вальтасар лишился разума и ел на коленях траву, как животное.
Нечто подобное происходит и с Марселем.
Признание разумом любви — как высшего начала мира.
Возвращение разума к любви, словно блудного сына.
Что мы без любви? Даже не животные. Эти милые хвостатые и рогатые, эти чертинята природы, по своему любят.
Нет, без любви мы что-то бесконечно малое, как дрожащий тростник Паскаля пред звёздной бездной.
В идеале, именно дрожащий тростник должен был есть Вальтасар: со-ли-псизм исчезновения..Что нам Экклезиаст, с его — «всё суета сует»?
Каждый любивший и утративший любимого человека, знает, как мир может в миг стать суетой: ничего не хочется, всё пусто и не имеет смысла: звёзды, люди, строчки писем, прекрасные страницы книг, сердцебиения, словно бы написаны один мелом и бессмысленно движутся в разные стороны.
Как от звука ногтя по школьной доске — мурашки по сердцу, так и при чтении Пруста, было чувство, словно бы врач, копаясь во внутренностях ангела, увлёкся, заплакав, и… ковыряет уже стол, на котором простёрт ангел.
Пруст пишет, что в разлуке, боль так сильна, что желание прекратить её… сильнее, чем желание вернуть любимого.
Это же… дословное описание души, ставшей чёрной дырой, погасшей звездой, которую не может покинуть свет, последовав за той, кого любит.
Или же… тут бессознательный порыв бессмертной души, вслед за бессмертным чувством? — Если умереть самому, прекратить боль, и если бы мертва была и любимая, то никто ни от кого не смог бы больше уйти: тел больше нет, и души обнялись бы навека, среди звёзд.В какой-то миг, при чтении Пруста, моя душа вскрикивала: хватит, хватит, довольно!!
Но врач в белом халатике, похожем на накинутые на плечи, крылья, тихо плакал и копался в простёртом на столе ангеле, истекавшем человеческой кровью.
Я с ужасом видел, что врач уже режет себя: его ланцет проходит сквозь гордость и эго, так часто мешающие нам любить когда мы вместе и отдаляющие любимого человека от нас, когда мы в разлуке, мешая нам бросится к нему навстречу: ах, сколько раз душа бросалась, сквозь двери закрытые, стены, а несчастный разум и тело наблюдали за ней, грустно улыбаясь…
Более того, я точно знал, что ангел истекал моей группой крови, второй группой: ангел истекал кровью там, где было больно и мне: под левой грудью, в животе, шее, на левом запястье, в паху…
Это невыносимо! Эта книга — приглашение в ад!Боже мой, как часто я слышал, коробящие мне сердце, как от ногтя по стеклу, слова женщин: ах, Бальзак, как он понял нас, женщин! Ах, Достоевский, Моэм, Толстой!!
Словно женщина, это какой-то механизм, фатальный и повторяющийся, из-за какой то древней ошибки, боли, словно вздрагивающие плечи плачущего во тьме постели человека, и теперь этот механизм можно легко предсказать.
А что теперь? Не женщина, но — душа во мне, читая Пруста, бросалась в темноте от меня, курящего в кресле, припадала к столику и лежащей на ней книге, гладила её, целовала даже, шепча: боже, как ты меня понял, Пруст!
Меня! Не мужское и женское во мне, а нечто цельное и бесконечно большее — душу!Боже мой! сколько раз я шептал имя любимой в ночи одинокой постели, в ночи яркой сутолоки города!
Имя любимого человека превратилось в полустёртые чётки, которые непрестанно перебирали губы…
Стена разума, пола, с дрожащими, словно листва, именами любимого человека, прозрачно вспыхнула, став окном.
Комната наполнилась множеством голосов и светом далёких звёзд.
Голоса и звёзды, мучительно нежно, смешивались: звёзды были заселены именами моей любимой!
Свет звёзд падал в сумерках на книги любимой, её бокал, заколку…
Стен больше не было, они блаженно опали, словно окровавленная повязка с руки.
В тишине, среди звёзд, кровоточило сердце, словно рана.
Пола больше не было. И тела — не было.
Любимой, тоже не было, словно бы симметрично, крылато с полом и телом: пол и тело и любимую в комнате выключили в комнате, словно свет.
Меня, как только меня — больше не было.
Был я с любимой и я без любимой.
И что самое безумное (шизофрения расставания?) меня без любимой было столько же, сколько и с любимой: её милая расчёска, чёрный вязанный свитер, милый запах на одинокой подушке и даже зеркало в ванной, в котором мы больше не отразимся вдвоём — это я, и там, где, где на той стороне ночи и другого города, она — это тоже, я, и я не знаю, что эта часть меня — делает.
Может быть ей больно.. а я не чувствую. Её могут причинить ад, а я не почувствую, словно меня уже и нет.
Смотрю на её милый силуэт в сердце, как героиня в стихе Тютчева, смотрела на письма на полу, словно душа на сброшенное ею тело.
Без неё — меня больше нет. А быть может и не было.Пруст гениально обыгрывает эту распятость чувств, фотографический негатив благой вести: душа, в аду расставания, обречена подходить к милым, невинным вещам, касаться спины их воспоминаний, и, опустив глаза, говорить им о том, что любимой больше нет, что мира прежнего — нет.
Страшно взять вещь в руку: разожмёшь ладонь, а заколка бабочка, невесомо зависнет в воздухе, потеряв вместе с весом, и смысл.
Эта боль расставания, экзистенциально уравнивает утрату любимой и утрату мира.
Марсель боится себе признаться, что нечто в нём, любит Альбертину больше, чем он может любить, что ему в полной мере мешает любить — он сам: гордыня, эго, быть может — пол.
Марсель спускается в пещеру воспоминаний своих об Альбертине, словно Орфей, к Эвридике.
Может тайна обернувшегося Орфея, и трагедия, в том, что он обернулся ещё до входа в пещеру, на вечер и светлый шелест листвы: прощально обернулся на себя, прежнего, на всё то, что участвовало в его любви к Эвридике, и теперь всем этим нужно пожертвовать.. ради той, кто стал целым миром.
Тема двойничества Достоевского, у Пруста углубляется подпольем и пещерой гомосексуальности: Марсель поручает своему другу разузнать о сапфических пороках беглянки (эхо реальных событий - от Пруста сбежал его 'друг'), но в итоге, эта Орфеева тень Марселя, обретает гомосексуальные черты и женится на былой любви Марселя, фактически, Мнемозине.
Марсель теряет всё - любимую, друга, сосредотачиваясь на творчестве: тени забвения и смерти окружили его, и лишь чистый голос детства пробивается ариадновой нитью спасения.У Пруста, мотив высшего счастья, переживания красоты и трагедии, связан с детством.
Но в данном романе — или мне, смотрящего на роман, как в зеркало боли, это только кажется?, — данная тема предвосхищает философов экзистенциалистов.
Женщина, бросившая мужчину, обращает его.. нет, не в несчастного и беспомощного ребёнка — ах, Марсель лишь смутно мечтает, что как в детстве, когда он спал в темноте на постели, и ему снилось что-то страшное, могла войти мама, словно ангел, тепло и как-то бархатно наклонившись, поцеловав в лобик, накрыв одеялом, по самую душу, — а в нечто бесформенное и бессмысленное вне женщины — в нечто абортивное, исторгнутое из неё, ибо он был в ней и телом и душой — всем обнажённым бессмертием своим.
- Прощай, малыш.
Сказала Альбертина у двери перед сном. Для него — на ночь. Для неё — навсегда.
Словно Беатриче оставила Данте в аду…
Было бы справедливо, если бы оказавшись в аду, нас бы сопровождала путеводная душа любимого человека столь же долго, сколь сильно мы его любили.
Не все бы дошли до рая…
Значит ад — это наша Земля.Итальянский режиссёр, Паоло Пазолини, комментируя свой фильм «Медея», сказал: вообразите апостола Павла, упавшим с лошади и не обретшим, но утратившим бога.
Герой Пруста, с утратой женщины — теряет всё: неверие своё, бога, ощущение жизни, себя, время…
Читатель наблюдает предельный экзистенциализм, оставляющий позади даже Сартра.
Все знают, даже не читавшие Пруста, об эффекте печенья Мадлен, описанного в 1 томе: В сторону Свана.
Марсель пробует печенье с липовым чаем. Оно ласково тает во рту и смешивается с воспоминаниями детства: чудесное синее утро у бабушки, пробуждается на языке вместе с пением птиц и шелестом листвы: нёбо становится небом воспоминаний, души.
Это фактический образ причастия красоты, которое однажды просияет любовью и счастьем, уже другим, телесным причастием: теплотой женского запястья, плеча…И вот, спустя время, в сумерках опустевшей комнаты, на полу лежит душа и её тошнит.
Нет, не печеньем Мадлен, но — временем, всей памятью счастья, улыбок, лазурью плещущего неба в парке в листве высоких лип.
Мрачнейший образ извержения изо рта — причастия.
Помните надрывную строчку Есенина? — «Тело, Христово тело, выплёвываю изо рта!»
Роман развивается в душной обстановке клаустрофобических, дышащих осенью и небом, жёлтых стен
Преступления и наказания, только в перевёртыше фотографического негатива: Порфирий Петрович совершил преступление. Что то страшное для любви и свободы любимого человека, и теперь он мечется в бреду на постели, раскаивается и стыдится этого, разговаривает в сумерках комнаты сам с собой, на два голоса: женского и мужского, и ещё женского, другого, и мужского, незнакомого..
В сумерках слышится плач и смех. Плечи вздрагивают, словно занавески у приоткрытого кем-то окна…
Ах, письма Марселя и Альбертины.. похожи на фехтование ангелов: ни тот, ни другая, не сознаются даже не в том, что им больно, и они умирают, а в том — что они уже, умерли, но почему-то стыдятся своего общего бессмертия, говорящего о том, что они оба — любили.Иногда кажется, что у Марселя под кожей течёт не тёплая кровь, а, сразу — душа, воспоминания, детство.
Сделаешь надрезик на руке, и по запястью потекут голубые веточки времени.. утраченного, вечно убегающего от нас.
Я проверял. У меня течёт почему-то.. душа. Тёмные веточки души в сумерках комнаты.
Даже душевное, телесное изменение Альбертины, ставшей в глазах Марселя уже не такой красивой (располнела) кажется ни чем иным, как евхаристическим символом липового чая и печенья Мадлен, блаженно размягчённого в первые мгновения их тёплого слияния во рту.
В детстве, во время причастия, я прикусил до крови губу, нежно задумавшись о девочке.
Сладостная мысль о ней, тепло смешалась с мыслью о боге, окрасив моё детское сердце невиданным образом божественной девочки: я был в том миг нежным грешником, язычником, христианином и чем-то ещё… о чём пытался сказать Пруст.Марсель — Пигмалион воспоминаний, как и многие из нас, мучительно открывает для себя истину, что идеальное ощущение человека, без утраты своей свободы, и его, возможно лишь в трагизме импрессионистического расстояния воспоминаний и утраты.
Впрочем, это можно сказать и о счастье, истине.
Неспроста в романе появляется затравленным солнечным зайчиком, образ сексуального надругательства над ребёнком: с утратой любимого, мы становимся беззащитными, бескожными и ранимыми, как дети, в грубом и нелепом мире взрослых.
Словно бы мир без любимой кончился, провернулся с тёплым, лёгким шелестом, похожим на дождь на окне, как киноплёнка в кинотеатрах прошлого, после окончания фильма, и душа вновь оказалась в начале своего бессмысленно-прозрачного существования детства, идущего навстречу любимой.
Поэма Перси Шелли — Адонаис, выросла, крылато разрослась в своей мировой скорби, до романа романов: Беглянка.
Так плачут только по утраченным небесам и умершему богу.Боже мой, Пруст! Что ты наделал! Что ты написал!?
Невыносимо прекрасно. До боли… прекрасно.
Страшно с тобой провести эту ночь. Осталось дочитать всего пару страниц..
Через несколько дней откроют мою квартиру, войдут, и увидят страшное: на полу лежит мёртвый молодой человек.
На липовом столике, возле него, в сумерках, лежит на спине — книга Пруста: Беглянка, в которую воткнут нож.
Ах, как мне хотелось подбежать ночью к книге Пруста, схватить её и бросить в окно, запустив её далеко-далеко, как чёрт в Карамазовых, запустил топор, ставший спутником Земли.
Из книги Пруста, вышел бы идеальный спутник Земли, на которой полыхает осень, нет бога и быть может нет уже никого: и для кого я всё это пишу?
Маленький, комнатный Ад, летит вокруг Земли…
Пролетает возле круглого, навек удивлённого окошка космической станции, с не менее удивлённой в нём женщиной.
Почему у неё на глазах блестят слёзы?
Ад любви. Вместо Вергилия — Марсель Пруст, гомосексуалист, точнее, бисексуал.
Не бойтесь. 5 кругов ада уже пройдены. Беглянка — 6, предпоследний том эпопеи «Утраченного времени».
Шестой круг ада. Как известно, в 6 кругу, царила вечная скорбь и мучились еретики.
Сторожами были сёстры Фурии, со змеями вместо волос.
Эдакие Лилит, мстящие… мужчинам, точнее, тем, кто превращает любовь — в темницу, мучая её и сковывая свободу крыльев.
Фактически, шестой круг ада — Гоморра.
Таинственное и автономное царство в аду, сапфических женщин: главная героиня романа — Альбертина, ушла от мужчины… к женщине.
Как и положено в 6 кругу ада — у стены стоят голодные, раскрытые гробы, полыхающие не то огнём, не то осенью, в которой призрак обречён пребывать — вечно.
Осень, как место расставания? Осень — приглашение в ад?Постель посреди осени, застеленная туманом. Птицы летают в комнате: зрачок комнаты темно расширен: комната стала миром, и его замело осенью и печалью.
Возле постели стоят гробы.
В их раскрытости, обнажённости, есть что-то развратное.
Они в сумерках и лиственных плесках осени манят, подобно Сиренам: манят лечь с ними. Войти в них… медленно.
Человек в постели закрывает лицо руками.
Открылось со стуком окно и в комнату влетело два алых листа: сердцебиение воздуха.
Руки, мокрые от слёз, опускаются, медленно, как одеяло на лице ребёнка, укрывшегося с головой, от чудовищ.
Никаких гробов нет.
Возле стены стоят раскрытые чемоданы с женской одеждой.
На голубом, как высокое небо августа, платье, лежит кленовый алый лист…Достоевский писал, что если бы человечество умерло и предстало пред богом, то оно протянуло бы ему всего одну книгу: Дон Кихот, сказав: так мы поняли жизнь, Господи!
Книгу Пруста, не донесут до бога, даже контрабандой.
Только представьте: голубой и прохладный прибой цветов в раю.
Лежит ангел. Крылья его дышат медленной, солнечной рябью, то накрывая его почти с головой, то отступая.
Дует ветерок, листая крылья, словно страницы.
Вокруг играют счастливые дети.
Ангелы кружат в высокой, бесконечной лазури, как ласточки, вместо писка, вычерчивая в синеве мелодии чувств.
Достоевский с Набоковым идут по лугу и ловят бабочек.
Они не помнят, что написали Преступление и наказание, Лолиту. Не помнят об аде страстей.
Они помнят что-то другое, странное, как вместе написали роман: Бегство с земли.Слышится плачь. Достоевский с моложавым Набоковым оглядываются на ангела в цветах.
На груди его, как открытое сердце, лежит книга Пруста, и перелистывается ветерком: каждый лист — как солнечное сердцебиение воздуха.
Заалевшие крылья ударяются по цветам, словно руки в бинтах (порезаны запястья).
Всё смолкло в раю. Ангелы в небе затихли.
Островок ада, лунно взошёл в раю…
Этот роман Пруста, быть может раздают у входа в ад, спрашивают лишь одно: вы любили на Земле?Пруст очень точно, инфернально точно описывает анатомию разлуки: человек умер, а над ним смутно светят белые силуэты крыльев, словно врачи, грустно сошедшиеся над несчастным, для вскрытия.
Пруст описывает, как боль разлуки, вскрывает в душе все прежние боли разлук и трагедий, начиная с детства.
Помните, как Наташа Ростова, шёпотом, говорила Сонечке у вечернего окна о том, что когда вспоминаешь, вспоминаешь.. порой можно до того довспоминаться, что словно бы помнишь то, что было тогда, когда тебя ещё не было.
Мир обращается в сплошную рану, где нет ни тебя, ни бога, ни человека вообще.
Герой Пруста — словно Диоген времени, ищет при озябнувшем свете фонаря воспоминаний, не человека уже, но — любовь, Беатриче в Аду.Айседора Дункан однажды заметила, что в мире есть лишь один стон, один крик, и не важно, стонет ли это человек на смертном одре, стонут ли это любовники в жаркой и смятой постели, стонет ли это женщина во время родов или кричит родившийся младенец, навек удивившийся и ужаснувшийся — миру.
Всё есть крик и разлука: младенец покидает мать, любовники расстаются, душа покидает тело, немым и чёрным криком растут бездонные пространства между звёздами…
Я читал первые 26 стр. романа несколько дней: мне физически было больно дотронуться до книги.
Была попытка самоубийства, новая попытка души — убежать к звёздам.
Близкий мне человек покинул меня. Разум, тоже сделал попытку к побегу, но был ранен в спину и упал в цветы поздней осени.
Вместе с нм синхронно упал и тот, кто стрелял: в комнате, возле окна.Я боялся возвращаться домой, зная, что там меня ждёт книга Пруста — Ад.
Возвращался ночью.
Не включая свет, садился в кресло, закуривал и смотрел на тёмный столик, где была книга, молча смотревшая на меня.
Книга Пруста стала для меня карамазовским чёртом: я просто сидел в темноте и говорил с ней, и плакал, рассказывая где я был, что делал.
В книге, Марсель чудесно описывает один момент расставания, до боли знакомый многим из нас: силы уже на исходе, мыслей уже нет, и губы, как лунатики на карнизе ночи, подушки, не важно, шепчут милое имя того, кто ушёл (это ещё образы не Пруста, а мои, моя, боль.).
Какой-то памятью сердца, Пруст очерчивает образы не то ада, не то рая: мозг превращается в стену, которую, кто-то, шутя, исписал милым именем.
Пруст сравнивает эту перелётную стайку имён, взметнувшейся в небо, с покачнувшейся веточки губ (прости за этот образ, Марсель, это личное, ты поймёшь), с птицами.
Правда похоже на наш сон из юности, когда мы писали во сне и не только, имя нашей любимой на доске, когда нас вызвали к доске? Заполняли вечернее пространство доски именем, что разрывало сердце, пока учительница не стирала их грубо, а они проявлялись вновь.. как милое лицо при проявке фотографии, и на всех уроках дети проходили имя возлюбленной: кому Онегин писал письмо? Ей! В какую африканскую страну отправился Гумилёв? И снова её милое имя!
Последние слова Джордано Бруно перед сожжением? Её, Её милое имя!!
Вспоминается цветаевская строчка: имя твоё — птица в руке!У Пруста есть строчки, похожие на сверхновые звёзды.
Вроде смотришь, звезды, красота и боль. Всё как положено.
А приглядишься и увидишь, что вот эта вот строчка — нейтронная звезда, сердце мёртвой звезды: её плотность так велика, что свет её уже почти не покидает.
Щепотка этой звезды на Земле, весила бы десятки, тысячи тонн.
Эту тайну знают влюблённые, когда словно бы вес целой ночной улицы, мерцающей звёздными огоньками, ложится им на сердце.
Почему же в чудесной метафоре Пруста, мозг — стал стеной?
Та самая стена города Ид, в 6 круге ада?
Нет. Просто Пруст… словно бы вскрывает ангела на операционном столе, и читатель с изумлением следит за тем, что же ещё сверкнёт в руке врача, и читатель с ужасом узнаёт что-то знакомое, словно ангел есть в каждом из нас, но мы вспоминаем о нём когда любим или… когда нам хочется умереть.Пруст проводит симметричную параллель между разумом и пленницей — Альбертиной, совершившей побег.
Разум пытается разобраться в причинах утраты и боли, но как все дороги ведут в Рим, так все тропы сердца, ведут к любви.
Разум становится перед фактом своей тотальной немощи.
Любовь для него, ещё более безумная и таинственная вещь, чем ангелы и бог, только с той ошеломляющей разницей, что разум начинает ощущать эти крылатые голоса, разум словно бы падает на колени, принимая доводы сердца.
Разум в горе, впервые становится чувствительным и чувствует боль.
Чувствует, как что-то во тьме касается его, а он пока ещё не видит, что именно, и от этого ему ещё более жутко.
В некоторой мере, читатель видит в телескопичность стройно выстроенных страниц, словно линз, зарождение звезды ( или её утраты?) гомосексуальности и таинственной жизни на этой звезде, где быть может нет пола вообще а есть сплошная душа.
Альбертина — как женственная природа Марселя, с которой у него роман, и которая тянется не столько к женщинам, сколько к душе человеческой.
Беглянкой, неминуемо окажется либо душа твоя, полюбившая мужчину, либо лунная, оборотная твоя душа, полюбившая женщину.
Наивен или намеренно глуп тот, кто считает гомосексуализм — нормой. Он, как и творчество, любовь — болезненное кровотечение души. Вопрос лишь в том — внутренее или внешнее.
Желание приручить любовь, искусство, пол — разве не тоталитарно и жестоко? Потом уже не видно, как они кровоточат. Марсель так хотел приручить Альбертину...Стена, с начертанными на ней именами…
Похоже на ветхозаветный образ, правда?
На пиру Вавилонского царя — огненные письмена проступили на стене: взвешен, исчислен, измерен.
Как известно, Вальтасар лишился разума и ел на коленях траву, как животное.
Нечто подобное происходит и с Марселем.
Признание разумом любви — как высшего начала мира.
Возвращение разума к любви, словно блудного сына.
Что мы без любви? Даже не животные. Эти милые хвостатые и рогатые, эти чертинята природы, по своему любят.
Нет, без любви мы что-то бесконечно малое, как дрожащий тростник Паскаля пред звёздной бездной.
В идеале, именно дрожащий тростник должен был есть Вальтасар: со-ли-псизм исчезновения..Что нам Экклезиаст, с его — «всё суета сует»?
Каждый любивший и утративший любимого человека, знает, как мир может в миг стать суетой: ничего не хочется, всё пусто и не имеет смысла: звёзды, люди, строчки писем, прекрасные страницы книг, сердцебиения, словно бы написаны один мелом и бессмысленно движутся в разные стороны.
Как от звука ногтя по школьной доске — мурашки по сердцу, так и при чтении Пруста, было чувство, словно бы врач, копаясь во внутренностях ангела, увлёкся, заплакав, и… ковыряет уже стол, на котором простёрт ангел.
Пруст пишет, что в разлуке, боль так сильна, что желание прекратить её… сильнее, чем желание вернуть любимого.
Это же… дословное описание души, ставшей чёрной дырой, погасшей звездой, которую не может покинуть свет, последовав за той, кого любит.
Или же… тут бессознательный порыв бессмертной души, вслед за бессмертным чувством? — Если умереть самому, прекратить боль, и если бы мертва была и любимая, то никто ни от кого не смог бы больше уйти: тел больше нет, и души обнялись бы навека, среди звёзд.В какой-то миг, при чтении Пруста, моя душа вскрикивала: хватит, хватит, довольно!!
Но врач в белом халатике, похожем на накинутые на плечи, крылья, тихо плакал и копался в простёртом на столе ангеле, истекавшем человеческой кровью.
Я с ужасом видел, что врач уже режет себя: его ланцет проходит сквозь гордость и эго, так часто мешающие нам любить когда мы вместе и отдаляющие любимого человека от нас, когда мы в разлуке, мешая нам бросится к нему навстречу: ах, сколько раз душа бросалась, сквозь двери закрытые, стены, а несчастный разум и тело наблюдали за ней, грустно улыбаясь…
Более того, я точно знал, что ангел истекал моей группой крови, второй группой: ангел истекал кровью там, где было больно и мне: под левой грудью, в животе, шее, на левом запястье, в паху…
Это невыносимо! Эта книга — приглашение в ад!Боже мой, как часто я слышал, коробящие мне сердце, как от ногтя по стеклу, слова женщин: ах, Бальзак, как он понял нас, женщин! Ах, Достоевский, Моэм, Толстой!!
Словно женщина, это какой-то механизм, фатальный и повторяющийся, из-за какой то древней ошибки, боли, словно вздрагивающие плечи плачущего во тьме постели человека, и теперь этот механизм можно легко предсказать.
А что теперь? Не женщина, но — душа во мне, читая Пруста, бросалась в темноте от меня, курящего в кресле, припадала к столику и лежащей на ней книге, гладила её, целовала даже, шепча: боже, как ты меня понял, Пруст!
Меня! Не мужское и женское во мне, а нечто цельное и бесконечно большее — душу!Боже мой! сколько раз я шептал имя любимой в ночи одинокой постели, в ночи яркой сутолоки города!
Имя любимого человека превратилось в полустёртые чётки, которые непрестанно перебирали губы…
Стена разума, пола, с дрожащими, словно листва, именами любимого человека, прозрачно вспыхнула, став окном.
Комната наполнилась множеством голосов и светом далёких звёзд.
Голоса и звёзды, мучительно нежно, смешивались: звёзды были заселены именами моей любимой!
Свет звёзд падал в сумерках на книги любимой, её бокал, заколку…
Стен больше не было, они блаженно опали, словно окровавленная повязка с руки.
В тишине, среди звёзд, кровоточило сердце, словно рана.
Пола больше не было. И тела — не было.
Любимой, тоже не было, словно бы симметрично, крылато с полом и телом: пол и тело и любимую в комнате выключили в комнате, словно свет.
Меня, как только меня — больше не было.
Был я с любимой и я без любимой.
И что самое безумное (шизофрения расставания?) меня без любимой было столько же, сколько и с любимой: её милая расчёска, чёрный вязанный свитер, милый запах на одинокой подушке и даже зеркало в ванной, в котором мы больше не отразимся вдвоём — это я, и там, где, где на той стороне ночи и другого города, она — это тоже, я, и я не знаю, что эта часть меня — делает.
Может быть ей больно.. а я не чувствую. Её могут причинить ад, а я не почувствую, словно меня уже и нет.
Смотрю на её милый силуэт в сердце, как героиня в стихе Тютчева, смотрела на письма на полу, словно душа на сброшенное ею тело.
Без неё — меня больше нет. А быть может и не было.Пруст гениально обыгрывает эту распятость чувств, фотографический негатив благой вести: душа, в аду расставания, обречена подходить к милым, невинным вещам, касаться спины их воспоминаний, и, опустив глаза, говорить им о том, что любимой больше нет, что мира прежнего — нет.
Страшно взять вещь в руку: разожмёшь ладонь, а заколка бабочка, невесомо зависнет в воздухе, потеряв вместе с весом, и смысл.
Эта боль расставания, экзистенциально уравнивает утрату любимой и утрату мира.
Марсель боится себе признаться, что нечто в нём, любит Альбертину больше, чем он может любить, что ему в полной мере мешает любить — он сам: гордыня, эго, быть может — пол.
Марсель спускается в пещеру воспоминаний своих об Альбертине, словно Орфей, к Эвридике.
Может тайна обернувшегося Орфея, и трагедия, в том, что он обернулся ещё до входа в пещеру, на вечер и светлый шелест листвы: прощально обернулся на себя, прежнего, на всё то, что участвовало в его любви к Эвридике, и теперь всем этим нужно пожертвовать.. ради той, кто стал целым миром.
Тема двойничества Достоевского, у Пруста углубляется подпольем и пещерой гомосексуальности: Марсель поручает своему другу разузнать о сапфических пороках беглянки (эхо реальных событий - от Пруста сбежал его 'друг'), но в итоге, эта Орфеева тень Марселя, обретает гомосексуальные черты и женится на былой любви Марселя, фактически, Мнемозине.
Марсель теряет всё - любимую, друга, сосредотачиваясь на творчестве: тени забвения и смерти окружили его, и лишь чистый голос детства пробивается ариадновой нитью спасения.У Пруста, мотив высшего счастья, переживания красоты и трагедии, связан с детством.
Но в данном романе — или мне, смотрящего на роман, как в зеркало боли, это только кажется?, — данная тема предвосхищает философов экзистенциалистов.
Женщина, бросившая мужчину, обращает его.. нет, не в несчастного и беспомощного ребёнка — ах, Марсель лишь смутно мечтает, что как в детстве, когда он спал в темноте на постели, и ему снилось что-то страшное, могла войти мама, словно ангел, тепло и как-то бархатно наклонившись, поцеловав в лобик, накрыв одеялом, по самую душу, — а в нечто бесформенное и бессмысленное вне женщины — в нечто абортивное, исторгнутое из неё, ибо он был в ней и телом и душой — всем обнажённым бессмертием своим.
- Прощай, малыш.
Сказала Альбертина у двери перед сном. Для него — на ночь. Для неё — навсегда.
Словно Беатриче оставила Данте в аду…
Было бы справедливо, если бы оказавшись в аду, нас бы сопровождала путеводная душа любимого человека столь же долго, сколь сильно мы его любили.
Не все бы дошли до рая…
Значит ад — это наша Земля.Итальянский режиссёр, Паоло Пазолини, комментируя свой фильм «Медея», сказал: вообразите апостола Павла, упавшим с лошади и не обретшим, но утратившим бога.
Герой Пруста, с утратой женщины — теряет всё: неверие своё, бога, ощущение жизни, себя, время…
Читатель наблюдает предельный экзистенциализм, оставляющий позади даже Сартра.
Все знают, даже не читавшие Пруста, об эффекте печенья Мадлен, описанного в 1 томе: В сторону Свана.
Марсель пробует печенье с липовым чаем. Оно ласково тает во рту и смешивается с воспоминаниями детства: чудесное синее утро у бабушки, пробуждается на языке вместе с пением птиц и шелестом листвы: нёбо становится небом воспоминаний, души.
Это фактический образ причастия красоты, которое однажды просияет любовью и счастьем, уже другим, телесным причастием: теплотой женского запястья, плеча…И вот, спустя время, в сумерках опустевшей комнаты, на полу лежит душа и её тошнит.
Нет, не печеньем Мадлен, но — временем, всей памятью счастья, улыбок, лазурью плещущего неба в парке в листве высоких лип.
Мрачнейший образ извержения изо рта — причастия.
Помните надрывную строчку Есенина? — «Тело, Христово тело, выплёвываю изо рта!»
Роман развивается в душной обстановке клаустрофобических, дышащих осенью и небом, жёлтых стен
Преступления и наказания, только в перевёртыше фотографического негатива: Порфирий Петрович совершил преступление. Что то страшное для любви и свободы любимого человека, и теперь он мечется в бреду на постели, раскаивается и стыдится этого, разговаривает в сумерках комнаты сам с собой, на два голоса: женского и мужского, и ещё женского, другого, и мужского, незнакомого..
В сумерках слышится плач и смех. Плечи вздрагивают, словно занавески у приоткрытого кем-то окна…
Ах, письма Марселя и Альбертины.. похожи на фехтование ангелов: ни тот, ни другая, не сознаются даже не в том, что им больно, и они умирают, а в том — что они уже, умерли, но почему-то стыдятся своего общего бессмертия, говорящего о том, что они оба — любили.Иногда кажется, что у Марселя под кожей течёт не тёплая кровь, а, сразу — душа, воспоминания, детство.
Сделаешь надрезик на руке, и по запястью потекут голубые веточки времени.. утраченного, вечно убегающего от нас.
Я проверял. У меня течёт почему-то.. душа. Тёмные веточки души в сумерках комнаты.
Даже душевное, телесное изменение Альбертины, ставшей в глазах Марселя уже не такой красивой (располнела) кажется ни чем иным, как евхаристическим символом липового чая и печенья Мадлен, блаженно размягчённого в первые мгновения их тёплого слияния во рту.
В детстве, во время причастия, я прикусил до крови губу, нежно задумавшись о девочке.
Сладостная мысль о ней, тепло смешалась с мыслью о боге, окрасив моё детское сердце невиданным образом божественной девочки: я был в том миг нежным грешником, язычником, христианином и чем-то ещё… о чём пытался сказать Пруст.Марсель — Пигмалион воспоминаний, как и многие из нас, мучительно открывает для себя истину, что идеальное ощущение человека, без утраты своей свободы, и его, возможно лишь в трагизме импрессионистического расстояния воспоминаний и утраты.
Впрочем, это можно сказать и о счастье, истине.
Неспроста в романе появляется затравленным солнечным зайчиком, образ сексуального надругательства над ребёнком: с утратой любимого, мы становимся беззащитными, бескожными и ранимыми, как дети, в грубом и нелепом мире взрослых.
Словно бы мир без любимой кончился, провернулся с тёплым, лёгким шелестом, похожим на дождь на окне, как киноплёнка в кинотеатрах прошлого, после окончания фильма, и душа вновь оказалась в начале своего бессмысленно-прозрачного существования детства, идущего навстречу любимой.
Поэма Перси Шелли — Адонаис, выросла, крылато разрослась в своей мировой скорби, до романа романов: Беглянка.
Так плачут только по утраченным небесам и умершему богу.Боже мой, Пруст! Что ты наделал! Что ты написал!?
Невыносимо прекрасно. До боли… прекрасно.
Страшно с тобой провести эту ночь. Осталось дочитать всего пару страниц..
Через несколько дней откроют мою квартиру, войдут, и увидят страшное: на полу лежит мёртвый молодой человек.
На липовом столике, возле него, в сумерках, лежит на спине — книга Пруста: Беглянка, в которую воткнут нож.
Ах, как мне хотелось подбежать ночью к книге Пруста, схватить её и бросить в окно, запустив её далеко-далеко, как чёрт в Карамазовых, запустил топор, ставший спутником Земли.
Из книги Пруста, вышел бы идеальный спутник Земли, на которой полыхает осень, нет бога и быть может нет уже никого: и для кого я всё это пишу?
Маленький, комнатный Ад, летит вокруг Земли…
Пролетает возле круглого, навек удивлённого окошка космической станции, с не менее удивлённой в нём женщиной.
Почему у неё на глазах блестят слёзы?
-273C
Отзыв с LiveLib от 16 апреля 2013 г., 01:10
Хотя "Пленницу" и "Беглянку", этих рассеченных пополам врачебным скальпелем литературных сиамских близнецов, не вполне правильно рассматривать как самостоятельные произведения, их бытование в качестве двух вполне себе раздельных томиков не оставляет нам выбора. Эти две части нанизаны на единый нерв болезненной любви Марселя к Альбертине, любви, которая, достигнув своего абсурдного и неадекватного апофеоза, терпит чудовищное крушение. Лишь к концу шестого тома эпопеи нежные и хрупкие ростки новой жизни начинают пробиваться сквозь спекшийся шлак и пепел марселевой экзистенциальной катастрофы. Ну, знаете, запил, в окошко начал высовываться, по бабам ходить, все как у людей, короче. Ростки эти, кстати сказать, даны довольно сжато и набросочно - сроки Прусту определял самый безжалостный на свете издатель. Тут у "Пленницы" с "Беглянкой" снова общая на двоих беда. Однако чем "Беглянка" более ценна сама по себе - это ощущением безжалостного краха надежд и иллюзий, а также сначала робким, а потом все более и более отчаянным взглядом за ту сторону занавеса. Одержимость Марселя начинает приносить свои плоды, и плоды эти безжалостно горьки. В этом Прусту удалось ухватить самую суть правды, той самой правды, о которой он написал:
Правда и жизнь трудны, я их так и не разгадал, и в конце концов у меня осталось от всего этого впечатление, в котором душевная усталость, быть может, брала верх над горем.
Правда и жизнь трудны, я их так и не разгадал, и в конце концов у меня осталось от всего этого впечатление, в котором душевная усталость, быть может, брала верх над горем.