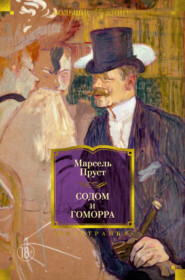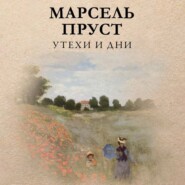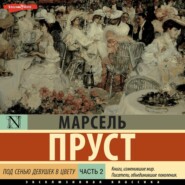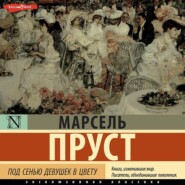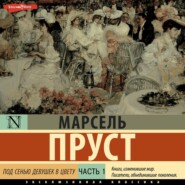По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В поисках утраченного времени. Книга 1. По направлению к Свану
Автор
Жанр
Год написания книги
1913
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пока тетя беседовала с Франсуазой, я с моими родителями бывал у обедни. Как я любил нашу церковь, как отчетливо представляю ее себе и сейчас! Ее ветхая паперть, почерневшая, дырявая, как шумовка, покосилась, в ее углах образовались впадины (так же как и на чаше со святой водой, к которой она подводила), словно легкое прикосновение одежды крестьянок, входивших в храм, их робких пальцев, которые они погружали в святую воду, могло от многовекового повторения приобрести разрушительную силу, могло продавить камень и провести на нем борозды, вроде тех, что оставляют на придорожной тумбе колеса, ежедневно задевающие за нее! Надгробные плиты, под которыми благородный прах похороненных здесь комбрейских аббатов образовывал как бы духовное возвышение для клироса, уже не являли собой косную и грубую материю, ибо время размягчило их, и они, словно мед, вытекли за пределы своей четырехугольности: одни, хлынув золотистой волной, увлекли за собою разукрашенные цветами готические буквицы и затопили белые фиалки мраморного пола; другие, наоборот, укоротились, сжав и без того краткую эллиптическую латинскую надпись, сообщив еще бо?льшую прихотливость расположению мелких литер, сблизив две буквы какого-нибудь слова, а прочие сверх всякой меры раздвинув. Витражи никогда так не переливались, как в те дни, когда солнца почти не было, и, если снаружи хмурилось, вы могли ручаться, что в церкви светло; одно из окон сплошь заполняла собой фигура, похожая на карточного короля, жившая в вышине, под сводом, между небом и землей, и в будничный полдень, после того как служба уже отошла, в одну их тех редких минут, когда церковь, проветренная, свободная, менее строгая, чем обычно, пышная, с солнечными пятнами на богатом своем убранстве, имела почти жилой вид, вроде залы со скульптурами и цветными стеклами в особняке, отделанном под стиль средневековья, косой синий свет витража озарял г-жу Сазра, на одно мгновение преклонившую колени и поставившую на ближайшую скамейку перевязанную крест-накрест коробочку печенья, которую она только что купила в кондитерской напротив и несла домой к завтраку; на другом окне гора розового снега, у подножия которой происходило сражение, словно заморозила самые стекла, налипла на них мутной своей крупой, превратила витраж в окно с наледью, освещенной некоей зарей (вне всякого сомнения, той самой, что обагряла запрестольный образ красками такой свежести, что казалось, будто они всего лишь на миг наложены проникшим извне отсветом, готовым вот-вот померкнуть, а не навсегда прикреплены к камню); и все окна были до того ветхие, что там и сям проступала их серебристая древность, искрившаяся пылью столетий и выставлявшая напоказ лоснящуюся и изношенную до последней нитки основу их нежного стеклянного ковра. Одно высокое окно было разделено на множество прямоугольных окошечек, главным образом – синих, похожих на целую колоду карт, разложенную, чтобы позабавить короля Карла VI[59 - Карл VI – король Франции (1380–1422).]; быть может, по нему скользил солнечный луч, а быть может, мой взгляд, перебегавший со стекла на стекло, то гасил, то вновь разжигал движущийся, самоцветами переливавшийся пожар, но только мгновение спустя оно все уже блестело изменчивым блеском павлиньего хвоста, а затем колыхалось, струилось и фантастическим огненным ливнем низвергалось с высоты мрачных скалистых сводов, стекало по влажным стенам, и я шел за моими родителями, державшими в руках молитвенники, словно не в глубине церковного придела, а в глубине пещеры, переливавшейся причудливыми сталактитами; еще мгновение – и стеклянные ромбики приобретали глубокую прозрачность, небьющуюся прочность сапфиров, усыпавших огромный наперсный крест, а за ними угадывалась еще более, чем все эти сокровища, радовавшая глаз мимолетная улыбка солнца; ее так же легко было отличить в той мягкой голубой волне, которой она омывала эти самоцветы, как на камнях мостовой, как на соломе, валявшейся на базарной площади; и даже в первые воскресенья, которые мы здесь проводили, приехав перед Пасхой, когда земля была еще гола и черна, улыбка солнца утешала меня тем, что испещряла ослепительный золотистый ковер витражей стеклянными незабудками, как она испещряла его в далекую весну времени наследников Людовика Святого[60 - Людовик Святой – Людовик IX, король Франции (1226–1270).].
Два гобелена изображали венчание Эсфири[61 - Эсфирь – героиня иудаистической мифологии, спасшая свой народ в эпоху владычества персидского царя Ксеркса (библейского Артаксеркса); главный персонаж Книги Эсфири, вошедшей в ветхозаветный канон. Став женой царя, она добивается пощады для иудеев.] на царство (по традиции Артаксерксу были приданы черты одного из французских королей, а Эсфири – принцессы Германтской, в которую король был влюблен), и оттого что краски расплылись, фигуры приобрели особую выразительность, рельефность, выступили в ином освещении: розовая краска на губах Эсфири чуть-чуть перешла за их очертания; на ее одежду желтая краска была положена так обильно, так густо, что одежда от этого казалась плотной и резко выделялась на потускневшем фоне. А зелень на деревьях, все еще яркая в нижней части вытканного шелком и шерстью панно, наверху «пожухла», и эта ее бледноватость оттеняла возвышавшиеся над темными стволами верхние желтеющие ветви, позлащенные косыми, жгучими лучами незримого солнца и сильно выгоревшие. Все это, и в еще большей мере драгоценные предметы, принесенные в дар церкви лицами, для меня почти легендарными (золотой крест, будто бы сделанный святым Элигием[62 - Святой Элигий (588–660) – был золотых дел мастером и наставником Дагоберта I (600–639), короля франков.] и подаренный Дагобертом, порфировая, с финифтяными украшениями, гробница сыновей Людовика Немецкого[63 - Людовик Немецкий (804–876) – внук Карла Великого, царствовал в восточной части империи Каролингов (843–876).]), предметы, благодаря которым у меня, когда мы направлялись к нашим скамьям, было такое чувство, словно я иду по долине, посещаемой феями, где селянин с изумлением замечает на скале, на дереве, в болоте осязаемый след их сверхъестественных появлений, – все это в моих глазах совершенно обособляло церковь от остального города; для меня она представляла собой здание, которое занимало пространство, имевшее, если можно так выразиться, четыре измерения, – четвертым было Время, – и двигало сквозь века свой корабль, который, устремляясь от пролета к пролету, от придела к приделу, казалось, побеждал и преодолевал не просто столько-то метров, но эпоху за эпохой и всякий раз выходил победителем; здание, скрывавшее грубый и суровый XI век в толще стен, из которых тяжелые его своды, всюду заделанные и замурованные глыбами бутового камня, выступали только в длинном проеме лестницы на колокольню, но и здесь он был прикрыт изящными готическими аркадами, кокетливо обступившими его, подобно тому как старшие сестры, чтобы посторонним не было видно их младшего брата, увальня, грубияна и оборванца, с приветливой улыбкой становятся перед ним; здание, вздымавшее над площадью прямо в небо свою башню, помнившую Людовика Святого и как будто сейчас еще видевшую его перед собой; здание, погружавшееся вместе со своим склепом в темь меровингской ночи, где, ощупью ведя нас под мрачным сводом с могучими ребрами, напоминавшим перепонку исполинской каменной летучей мыши, Теодор или его сестра освещали свечой гробницу внучки Зигеберта[64 - Зигеберт – Зигеберт III, король Австразии (634–656), восточной части франкской Галлии.], а на крышке гробницы – похожую на след допотопного животного впадину, образовавшуюся, по преданию, оттого, что «хрустальная лампада в ночь убийства франкской принцессы оторвалась от золотых цепей, на которых она висела в том месте, где сейчас находится абсида, и так, что хрусталь не разбился, а пламя не погасло, ушла в податливый камень».
Ну а что можно сказать о самой абсиде комбрейской церкви? Как же грубо она была сделана, – не говоря о художественности, в ней не чувствовалось даже религиозного настроения! Так как перекресток, на который она выходила, представлял собою низину, то снаружи толстая ее стена, в которой ничего церковного не было, высилась на цоколе из нетесаного камня с торчащими обломками; казалось, окна были в ней пробиты слишком высоко, а все вместе создавало впечатление скорее тюремной, нежели церковной стены. И конечно, впоследствии, когда я вспоминал виденные мною знаменитые апсиды, мне никогда бы и в голову не пришло сравнить их с апсидой комбрейской. Только однажды, свернув с одной провинциальной улочки, я увидел на перекрестке трех переулков обветшавшую высокую-высокую стену с пробитыми в ней вверху окнами, столь же асимметричную на вид, как и абсида в Комбре. И тут я не спросил себя, как в Шартре или в Реймсе, насколько сильно выражено в ней религиозное чувство, а лишь невольно воскликнул: «Церковь!»
Церковь! Такая привычная церковь на улице Святого Илария, куда выходили северные ее двери, вплотную, без всякого промежутка, примыкавшая с одной стороны к аптеке г-на Рапена, а с другой – к дому г-жи Луазо, простая жительница Комбре, которая могла бы иметь свой номер, если бы дома в Комбре вообще имели номера, и перед которой по утрам, выйдя от г-на Рапена, по дороге к г-же Луазо, должен был, казалось, останавливаться почтальон; и однако между нею и всем остальным проходила грань, которую моему разуму никогда не удавалось переступить. Хотя на подоконнике у г-жи Луазо стояли фуксии, у которых была дурная привычка раскидывать во все стороны свои тянувшиеся книзу ветки, цветы которых, не успев распуститься, прежде всего стремились охладить свои фиолетовые, пышущие здоровьем щеки, дотронувшись до сумрачного фасада церкви, – от этого они не становились для меня священными; и пусть мое зрение не улавливало расстояния между цветами и почерневшим камнем, в который они упирались, зато разум представлял себе, что их разделяет пропасть.
Колокольню Св. Илария было видно издали: когда Комбре еще не появлялся, незабываемый ее силуэт уже вычерчивался на горизонте; едва различив из окна вагона, в котором мы ехали на пасхальные дни из Парижа, как она движется по небесным просторам, поворачивая во все стороны железного своего петушка, отец говорил нам: «Собирайтесь, приехали». А на одной из самых наших дальних прогулок в Комбре было такое место, где стиснутая буграми дорога внезапно вырывалась на необозримую равнину с перелесками на горизонте и над ними возвышался один лишь острый шпиль колокольни Св. Илария, до того тонкий и розовый, что можно было подумать, будто он начерчен ногтем человека, которому хотелось придать этому виду, этой картине природы, и только природы, нечто от искусства, хотя бы этим намекнуть на участие в ней человека. Когда мы подходили ближе и могли различить остатки четырехугольной полуразрушенной башни, которая еще стояла рядом с колокольней, но была ниже ее, то меня особенно поражал сумрачный, коричневый цвет камня, а туманным осенним утром пурпурная развалина, высившаяся над виноградниками цвета грозового неба, казалась очень похожей на лозу дикого винограда.
На возвратном пути бабушка обыкновенно останавливалась на площади и предлагала мне посмотреть на башню. Из своих амбразур, расположенных парами, одна над другою, с тем оригинальным соблюдением одинаковости расстояния, что придает красоту и достоинство не только человеческим лицам, она выпускала, выбрасывала через определенные промежутки времени стаи ворон, и вороны с карканьем кружились, словно среди древних камней, до сих пор не мешавших воронам гомозиться, как бы их не замечавших, воронью стало невмоготу, потому что камни начали выделять из себя что-то несказанно жуткое, поразившее и спугнувшее его. Затем, исчертив во всех направлениях темно-лиловый бархат вечернего воздуха, вороны внезапно успокаивались и исчезали в глубине башни, утратившей свою враждебность и вновь сделавшейся гостеприимной, некоторые же из них располагались на зубцах и, казалось, не шевелились, а на самом деле, должно быть, ловили на лету насекомых – так чайки, неподвижные, как рыбаки, застывают на гребнях волн. Бабушка, сама не зная почему, полагала, что в колокольне Св. Илария отсутствует вульгарность, претенциозность, пошлость, а ведь именно за это отсутствие она любила природу, если только ее не портила рука человеческая, как например рука садовника моей двоюродной бабушки, за это же она любила гениальные произведения, именно это заставляло ее верить в неиссякающе благотворное влияние природы и искусства. И в самом деле: каждая часть церкви, открывавшаяся взору, отличалась от всякого другого здания особой мыслью, которая была в нее вложена, но ее самосознание сосредоточивалось, по-видимому, в колокольне, через колокольню она утверждала свою незаурядность, свою самобытность. От лица церкви говорила колокольня. Я убежден, что бабушка, сама того не подозревая, находила в комбрейской колокольне то, что она ценила больше всего: естественность и изящество. Ничего не понимая в архитектуре, она говорила: «Дорогие мои! Смейтесь надо мной: быть может, она и небезупречна, но ее древний необычный облик мне нравится. Я уверена, что если б она играла на рояле, то играла бы не сухо». Глядя на колокольню, следя взором за мягкой упругостью, за стремительным наклоном каменных ее скатов, соединявшихся вверху, словно молитвенно сложенные руки, бабушка так сливалась со шпилем, протянутым ввысь, что казалось, будто взгляд ее уносится вместе с ним; и в то же время она приветливо улыбалась старым потрескавшимся камням, из которых лишь самые верхние освещались закатом, и вот когда эти камни вступали в солнечную зону, то, сделавшись легче от света, они мгновенно взлетали – они были теперь высоко-высоко, словно голос, запевший фальцетом, взявший целой октавою выше.
Колокольня Св. Илария придавала каждому занятию, каждому часу дня, всем видам города особое обличье, увенчивала их и освящала. Из моей комнаты мне было видно только ее основание, вновь покрытое шифером, но, глядя, как теплым летним воскресным утром черными солнцами пылают шиферные плитки, я говорил себе: «Боже мой! Девять часов! Пора вставать к поздней обедне, иначе я не успею поздороваться с тетей Леонией», – и я точно знал, какую окраску принимает сейчас солнечный свет на площади, я чувствовал, как жарко и пыльно на рынке, представлял себе полумрак от опущенной шторы в пропахшем небеленым холстом магазине, куда мама, быть может, зайдет по дороге в церковь купить платочек, и воображал, как велит показать его ей приосанившийся хозяин, совсем было собравшийся запереть магазин и направлявшийся к себе в комнату надеть праздничный сюртук и вымыть с мылом руки, которые он имел обыкновение каждые пять минут потирать с деловым видом удачливого проныры даже в самых прискорбных обстоятельствах.
После службы мы шли к Теодору заказать хлебец побольше, потому что из Тиберзи должны были, пользуясь хорошей погодой, приехать к нам позавтракать наши родственники, и в это время колокольня, пропеченная и подрумяненная, точно огромный благословенный хлеб с верхней коркой, облитой солнечной глазурью, вонзала острый свой шпиль в голубое небо. А вечером, когда я возвращался с прогулки и думал о том, что скоро я распрощаюсь с мамой до утра, у колокольни на фоне гаснущего дня был такой кроткий вид, что казалось, будто это коричневого бархата подушка, которую кто-то положил поглубже на голубое небо, будто небо подалось под напором, образовало небольшую вмятину, чтобы дать ей место, и обтекло ее со всех сторон, а крики птиц, летавших вокруг нее, словно еще усиливали ее спокойствие, еще выше возносили ее шпиль и придавали ей нечто неизъяснимое.
Даже когда мы гуляли за церковью, там, откуда ее не было видно, нам мнилось, что все соотносится с колокольней, выглядывавшей между домами, и, пожалуй, она производила еще более сильное впечатление, когда вырисовывалась одна, без церкви. Конечно, есть много колоколен, которые кажутся еще прекраснее, когда вот так на них смотришь; в моей памяти хранятся узоры возвышавшихся над крышами колоколен, которые отличались в художественном отношении от тех узоров, что образовывали унылые улицы Комбре. Мне не забыть двух прелестных домов XVIII века в одном любопытном нормандском городке по соседству с Бальбеком, – домов, которые по многим причинам мне милы и дороги; и вот, если смотреть на них из чудесного сада, уступами спускающегося к реке, то видно, как готический шпиль прячущейся за ними церкви устремляется ввысь, точно довершая, точно увенчивая их фасады, но только он совсем иной, до того изящный, тщательно отделанный, розовый, блестящий, что сразу бросается в глаза его непричастность к ним, как непричастна пурпурная зазубренная стрелка веретенообразной, покрытой блестящей эмалью раковины к двум лежащим рядом красивым галькам, между которыми она была найдена на берегу моря. Даже в одном из самых некрасивых парижских кварталов я знаю окно, откуда виден не на первом, не на втором и даже не на третьем плане, которые образуются улицами с громоздящимися одна над другою крышами, фиолетовый колокол, временами принимающий красноватый оттенок, временами – и это один из самых лучших снимков, которые делает с него воздух, – пепельно-черный, на самом же деле это не что иное, как купол церкви Св. Августина, придающий сходство этому парижскому виду с некоторыми римскими видами Пиранези[65 - Пиранези, Джованни Батиста (1720–1778) – итальянский архитектор и гравер, автор многочисленных офортов («Древности Рима») зачастую фантасмагорического характера.]. Но во все эти гравюрки моя память, с какой бы любовью она их ни восстанавливала, бессильна вложить давным-давно мною утраченное, вложить чувство, которое заставляет нас не смотреть на предмет как на зрелище, а верить в него, как в существо, не имеющее себе подобных, – вот почему ни одна из них не имеет власти над целой эпохой в моей внутренней жизни, как властвуют над нею воспоминания о разных видах, которые принимала комбрейская колокольня в зависимости от того, с какой улицы, расположенной за церковью, я на нее смотрел. Видна ли она была нам в пять часов дня, слева, когда мы ходили за письмами на почту, через несколько домов от нас, неожиданно вздымавшаяся одинокой вершиной над грядою крыш; или если мы шли в противоположном направлении – справиться о здоровье г-жи Сазра, – и, зная, что надо свернуть на вторую улицу после колокольни, следили взглядом за этою грядою, после подъема шедшею под уклон; или если мы направлялись еще дальше от колокольни, на вокзал, и, видная сбоку, повернутая в профиль, она показывала нам другие срезы и плоскости, подобно геометрическому телу, застигнутому в прежде не наблюдавшийся момент его вращения вокруг оси; или, наконец, с берегов Вивоны, когда от апсиды, напрягшей все свои мускулы и приподнятой расстоянием, казалось, сыпались искры – так она силилась помочь колокольне устремить шпиль прямо в небо, – словом, колокольня неизменно притягивала взор, она господствовала надо всем, ее неожиданно возникавшая игла собирала вокруг себя дома и поднималась предо мною, точно перст Божий, – тело Бога могло быть от меня скрыто в толпе людей, но благодаря этому персту я никогда бы не смешал его с толпой. Еще и сейчас, когда в каком-нибудь большом провинциальном городе или в одном из парижских кварталов, который я плохо знаю, прохожий на вопрос: «Как пройти туда-то?» – показывает мне вдали, в виде приметы, на углу той улицы, которую я разыскиваю, каланчу или же остроконечную, священническую шапку монастырской колокольни, то достаточно моей памяти обнаружить хотя бы неопределенное сходство с дорогим, исчезнувшим образом, и если прохожий обернется, чтобы удостовериться, что я не заблудился, он с удивлением заметит, что, позабыв о прогулке или о деле, я стою подле колокольни и могу неподвижно стоять здесь часами, напрягая память и чувствуя, как в глубине моей души зе?мли, залитые водою забвения, высыхают и заселяются вновь; и тогда я непременно, но только еще сильнее волнуясь, чем когда расспрашивал прохожего, начинаю искать дорогу, поворачиваю за угол… но… уже только мысленно…
Возвращаясь из церкви, мы часто встречали инженера Леграндена, – его вечно задерживали дела в Париже, так что, если не считать святок, он приезжал к себе в Комбре в субботу вечером, а в понедельник утром уезжал. Он принадлежал к числу людей, которые не только сделали блестящую ученую карьеру, но и обладают совсем иного рода культурой – литературной, художественной, совершенно ненужной для их профессии, однако обнаруживающейся при разговорах с ними. Более сведущие, чем многие литераторы (мы тогда еще не знали, что Легранден довольно известен как писатель, и были бы очень удивлены, если б нам сказали, что знаменитый композитор написал музыку на его стихи), и отличающиеся большей «набитостью руки», чем многие художники, они убеждены, что жизнь у них сложилась неудачно, и работают они спрохвала, хотя не без затей, или же с неутомимой и надменной, презрительной, желчной и добросовестной старательностью. Высокий, стройный, с тонким задумчивым лицом, с длинными светлыми усами, с голубыми глазами, выражавшими разочарование, изысканно вежливый, такой интересный собеседник, какого мы отроду не слыхивали, Легранден считался у нас в семье образцом благородства и деликатности, натурой исключительной. Бабушке не нравилось в нем то, что он уж слишком красиво говорил, чересчур книжным языком, лишенным свободы, с какою тот же Легранден повязывал широким бантом галстук, так что он у него всегда болтался, с какою Легранден носил прямую и короткую, почти как у школьника, тужурку. Еще ее удивляли пламенные и частые его тирады против аристократии, против светского образа жизни и снобизма, «а ведь снобизм, конечно, и есть тот грех, что имеет в виду апостол Павел, когда говорит о грехе, которому нет прощения».
Бабушке не только было несвойственно светское тщеславие – она просто не понимала, что это такое, – вот почему ей казалось бессмысленным вкладывать столько душевного пыла в его осуждение. Кроме того, она полагала, что не очень-то красиво со стороны Леграндена, сестра которого была замужем за нижненормандским дворянином, проживавшим близ Бальбека, так яростно нападать на благородное сословие и даже упрекать Революцию, что она не всю знать гильотинировала.
– Здравствуйте, друзья! – говорил Легранден, идя нам навстречу. – Вы счастливы: вы можете жить здесь подолгу, а мне уже завтра надо возвращаться в Париж, в свою конуру. Ох! – вздыхал он, улыбаясь своей особенной улыбкой, в которой читались мягкая ирония, разочарованность и легкая рассеянность. – У меня в Париже полно ненужных вещей. Не хватает лишь необходимого: неба над головой. Живи так, мой мальчик, чтобы у тебя всегда было небо над головой, – обращаясь ко мне, добавлял он. – У тебя красивая, хорошая душа, художественная натура, – не лишай же ее необходимого.
Когда мы возвращались домой и тетя посылала узнать у нас, опоздала ли г-жа Гупиль к обедне, мы ничего не могли ей ответить. Зато мы усиливали ее тревогу сообщением, что в церкви работает художник – копирует с витража Жильберта Дурного[66 - Жильберт Дурной – вымышленный писателем персонаж, имя которого образовано по аналогии с историческими деятелями Франции. Одним из его прототипов можно считать Карла II (1332–1387), короля Наваррского, которого прозвали Дурным из-за интриг, направленных против Карла V.]. Франсуаза, которую немедленно посылали в бакалейную лавку, ничего толком не узнала, потому что в лавке не оказалось Теодора, а Теодор совмещал обязанности певчего, способствовавшего благолепию в храме, и приказчика в бакалейной лавке, и это обстоятельство, позволявшее ему поддерживать отношения со всеми слоями общества, сделало из него человека универсальных знаний.
– Ах! – вздыхала тетя. – Скорей бы приходила Евлалия! Уж она-то мне все расскажет.
Евлалия, глухая, расторопная хромоножка, «удалившаяся на покой» после смерти г-жи де ла Бретонри, у которой она служила с детства, снимала комнату около церкви и из церкви не выходила: то надо побыть на службе, то, когда службы нет, помолиться одной, то помочь Теодору; в свободное время она навещала больных, в частности тетю Леонию, которой она рассказывала все, что случалось за обедней или за вечерней. Прежние хозяева выплачивали ей скромную пенсию, но она не гнушалась случайным приработком и время от времени приводила в порядок белье настоятеля или же еще какой-либо важной духовной особы, проживавшей в Комбре. Ходила она в черной суконной накидке и в белом монашеском чепчике; какое-то кожное заболевание окрашивало часть ее щек и крючковатый нос в ярко-розовый цвет бальзамина. Ее приходы были большим развлечением для тети Леонии, никого уже, кроме священника, не принимавшей. Тетя постепенно отвадила гостей, потому что все они, с ее точки зрения, были повинны в том, что принадлежали к одной из двух категорий людей, которые она не переваривала. Одни, самые для нее невыносимые, от коих она отделалась в первую голову, советовали ей не «нянчиться с собой» и держались пагубного мнения, которое они, впрочем, выражали иногда чисто негативно: в неодобрительном молчании или же в скептической улыбке, – что пройтись по солнышку или скушать хорошо приготовленный бифштекс с кровью (меж тем как тетя за четырнадцать часов выпивала каких-нибудь два несчастных глотка виши), – это было бы для нее полезнее, чем постельный режим и лекарства. Другую категорию составляли лица, притворявшиеся убежденными в том, что болезнь тети серьезнее, чем она предполагает, или в том, что она себя не обманывает, что она действительно тяжело больна. Словом, те, кого она после некоторого колебания и упрашиваний Франсуазы принимала и кто во время визита доказывал, что он недостоин этой милости, потому что робко позволял себе заметить: «Хорошо бы вам промяться в погожий день» или в ответ на ее слова: «Мне так плохо, так плохо, это конец, дорогие друзья» возражал: «Да, потерять здоровье – это хуже всего! Но вы еще долго можете протянуть», – такие люди, и первой и второй категории, могли быть уверены, что после этого тетя их больше к себе не пустит. Франсуазу смешил испуганный вид тети, когда со своего ложа она замечала на улице Святого Духа кого-либо из таких лиц, должно быть, собиравшихся зайти к ней, или же когда к ней звонили, но еще больше забавляли Франсуазу своей изобразительностью всегда имевшие успех хитрости, к коим прибегала тетя, чтобы отказать гостям, а равно и озадаченные лица гостей, вынужденных удалиться, не повидав тетю, и в глубине души Франсуаза восхищалась своей госпожой: она считала, что, раз госпожа их к себе не пускает, стало быть, она выше их. Короче говоря, тетя требовала, чтобы посетители одобряли ее образ жизни, сочувствовали ей и в то же время уверяли, что она выздоровеет.
И вот в этом отношении Евлалия была незаменима. Тетя могла двадцать раз подряд повторять: «Это конец, милая Евлалия», – Евлалия двадцать раз ей на это отвечала: «Если знать свою болезнь так, как знаете ее вы, госпожа Октав, то можно прожить до ста лет – это мне еще вчера говорила госпожа Сазрен». (Одно из самых твердых убеждений Евлалии, которое не властно было поколебать бесчисленное множество веских доводов, заключалось в том, что настоящая фамилия этой дамы – не Саз-ра, а Сазрен.)
– А я не прошу у Бога, чтоб он продлил мне жизнь до ста лет, – возражала тетя, предпочитавшая не ограничивать свою жизнь определенным сроком.
Сверх того Евлалия умела, как никто, развлекать тетю, не утомляя, вот почему ее неизменные приходы по воскресеньям – помешать ей могло только что-нибудь непредвиденное – были для тети удовольствием, предвкушение которого всю неделю поддерживало в ней приятное расположение духа, но зато если Евлалии случалось немного опоздать, состояние тети становилось таким же мучительным, как у изголодавшегося человека. Блаженство ожидания, затягиваясь, превращалось в пытку: тетя поминутно смотрела на часы, зевала, ей было не по себе. Если Евлалия звонила в конце дня, то уже переставшая ждать тетя почти заболевала. В самом деле, по воскресеньям она только и думала что о приходе Евлалии, и Франсуаза после завтрака с нетерпением ждала, когда мы уйдем из столовой, чтобы ей можно было «заняться» тетей. И все же (особенно когда в Комбре устанавливалась ясная погода) много времени проходило после того, как гордый полуденный час, нисходивший с колокольни св. Илария и на миг украшавший ее двенадцатью лепестками своей звучащей короны, раздавался над нашим столом, подле благословенного хлеба, который тоже запросто являлся к нам из церкви, а мы все еще сидели перед тарелками со сценами из «Тысячи и одной ночи», осовевшие от жары, а еще больше от завтрака. И то сказать: постоянную основу нашего завтрака составляли яйца, котлеты, картофель, варенье, бисквиты – об этом Франсуаза нам больше уже и не объявляла, но она добавляла многое другое, в зависимости от того, что уродилось в полях и в садах, в зависимости от улова, от случайностей торговли, от любезности соседей и от своих собственных дарований, так что наше меню, подобно розеткам, высекавшимся в XIII столетии на порталах соборов, до известной степени отражало смену времен года и череду человеческой жизни; добавляла же Франсуаза то камбалу, потому что торговка поручилась Франсуазе за ее свежесть; то индейку, потому что ей попалась на глаза превосходная индейка на рынке в Русенвиль-ле-Пен; то испанские артишоки с мозгами, потому что она никогда еще нам их так не готовила; то жареного барашка, потому что на свежем воздухе аппетит разгуливается, а нагулять его вновь к обеду семи часов хватит; то шпинат – для разнообразия; то абрикосы – потому что они еще редкость; то смородину, потому что через две недели она уже сойдет; то малину, потому что ее принес Сван; то вишни, потому что это первые вишни из нашего сада – два года подряд вишня не цвела; то творог со сливками, который я тогда очень любил; то миндальное пирожное, потому что она заказала его с вечера; то хлебец, потому что нынче наша очередь нести его в церковь. Когда со всем этим бывало покончено, подавался приготовленный для всех нас, но в угоду главным образом моему отцу, который был особым любителем этого блюда, воздушный и легкий, как стихотворение «на случай», шоколадный крем – плод вдохновения и необыкновенной внимательности Франсуазы, в который она вкладывала весь свой талант. Если бы кто-нибудь к нему не притронулся, сказав: «Больше не могу, я сыт», – он был бы тотчас же низведен до степени тех невежд, которые, получив в подарок от художника его произведение, интересуются весом и материалом, а замысел и подпись не имеет для них никакой цены. Даже оставить крошечный кусочек на тарелке значило проявить такую же неучтивость, как уйти перед носом у композитора еще до того, как доиграли его вещь.
Наконец мама мне говорила: «Послушай: нельзя же тут сидеть до бесконечности. Если на дворе очень жарко, то иди к себе, но все-таки сперва подыши воздухом: нельзя прямо из-за стола браться за книгу». Я шел к желобу с насосом, во многих местах украшенному, подобно готической купели, саламандрами, отдавливавшими на выветрившемся камне подвижной рельеф своего точеного аллегоричного тела, и усаживался под кустом сирени на скамейку без спинки в том заброшенном уголке сада, откуда через калитку можно было выйти на улицу Святого Духа и где стояла примыкавшая к дому, но казавшаяся отдельной постройкой черная кухня, куда вели две ступени. Ее красный плиточный пол блестел, точно порфировый. Кухня была похожа не столько на пещеру Франсуазы, сколько на храмик Венеры. Она изобиловала приношениями молочника, фруктовщика, зеленщицы, – эти люди приходили даже из дальних деревушек, чтобы принести на алтарь Франсуазы первые свои плоды. А конек крыши был неизменно увенчан воркующим голубем.
Раньше я не засиживался в окружавшей этот храм священной роще; прежде чем подняться к себе и взяться за книгу, я заходил в помещавшуюся на первом этаже комнатку дедушкиного брата Адольфа, старого военного, вышедшего в отставку в чине майора, – комнатку, куда через открытые окна вплывала жара, а солнечные лучи заглядывали редко и откуда никогда не улетучивался непередаваемый, свежий аромат, запах леса и запах далекого прошлого, который мы так мечтательно втягиваем в себя в каком-нибудь заброшенном охотничьем домике. Но я уже несколько лет не заходил в комнату дедушки Адольфа, – он больше не приезжал в Комбре, потому что рассорился с моей семьей из-за меня, и вот при каких обстоятельствах.
В Париже меня раза два в месяц посылали навестить его, как раз когда он, в домашней куртке, кончал завтракать, а ему прислуживал лакей в блузе из полотна в лиловую и белую полоску. Дедушка Адольф ворчал, что я давно у него не был, что все его забыли, угощал меня марципанами или мандаринами, затем из столовой мы с ним шли через нежилую, неотапливаемую комнату, стены которой были украшены золотой резьбой, потолок расписан под небесную лазурь и где мебель была обита атласом, как у моих дедушки и бабушки, но только желтым, и входили в комнату, которую он называл своим «рабочим кабинетом»: здесь на стенах висели гравюры, изображавшие на черном фоне мясистую розовую богиню со звездой во лбу, правящую колесницей или восседающую на земном шаре, – такие гравюры пользовались успехом при Второй империи, так как в них находили что-то помпейское, затем любовь сменилась пренебрежением, а теперь их опять полюбили только потому (хотя выставляются обычно другие причины), что они напоминают Вторую империю. И я оставался у деда, покуда камердинер не приходил к нему спросить от имени кучера, когда подавать лошадей. Дед погружался в раздумье, а завороженный камердинер боялся вывести деда из задумчивости малейшим движением – он с любопытством ждал, чем это кончится, а кончалось это всегда одним и тем же. После напряженной внутренней борьбы дед неизменно изрекал: «В четверть третьего», – а камердинер с изумлением, но без всяких возражений повторял: «В четверть третьего? Слушаюсь… Я так и скажу…»
В то время я любил театр, но любил платонически, потому что родители еще не позволяли мне туда ходить, и имел весьма смутное понятие о том, какого рода это наслаждение; я представлял его себе примерно так, что каждый зритель смотрит в некий стереоскоп на картину, которую показывают ему одному, хотя она ничем не отличается от множества других картин, на которые направлены стереоскопы других зрителей.
Каждое утро я бегал к столбу читать афиши. Невозможно вообразить себе ничего более бескорыстного и ничего более счастливого, чем те мечтания, которые пробуждала во мне каждая анонсированная пьеса, – мечтания, связанные не только с образами, возникавшими из названий пьес, но и с цветом афиш, еще сырых и сморщенных от клея. На афишах Французской комедии, цвета бордо, были напечатаны такие странные названия, как «Завещание Цезаря Жиродо»[67 - «Завещание Цезаря Жиродо» (1859) – комедия Бело и Вильтара, поставленная в «Одеоне» в 1859 г. Роль в этой пьесе, которая фигурировала в программе «Комеди-Франсез» вплоть до 1890 г., принесла успех Саре Бернар.] или «Царь Эдип»[68 - «Царь Эдип» (ок. 430 до н. э.) – трагедия Софокла (496–406 до н. э.).], а на зеленых афишах Комической оперы меня поражали своим цветовым контрастом белоснежное перо, украшавшее «Бриллиантовую корону»[69 - «Бриллиантовая корона» – комическая опера французского композитора Обера (1782–1871), автор либретто Скриб (1791–1861), была поставлена в «Опера-Комик» в 1841 г.], и гладкий таинственный атлас «Черного домино»[70 - «Черное домино» – комическая опера Скриба и Обера, поставленная в «Опера-Комик» в 1837 г. Все эти произведения постоянно ставились в парижских театрах в 80-е гг. XIX века.], а так как родители предупредили меня, что на первый раз я должен буду выбрать какую-нибудь из этих двух пьес, то я силился постичь смысл их названий – ведь судить о пьесах я имел возможность только по названиям, – вызвать в воображении очарование, какое таят в себе для меня обе пьесы, сравнить удовольствие, которое я получу от одной и от другой, и в конце концов я до того явственно представлял себе то пьесу ослепительную, величественную, то тихую, бархатистую, что не знал, какую выбрать, так же как я заколебался бы, если б мне предложили на сладкое рис «Императрица» или шоколадный крем.
Все мои разговоры с товарищами вращались вокруг актеров, и, хотя я их еще не видел, игра артистов явилась для меня первой из тех многообразных форм, которая дала мне почувствовать, что такое проявляющее себя в этих формах Искусство. Малейшие различия в манере артистов произносить, оттенять тот или иной монолог имели для меня огромное значение. На основании того, что я о них слышал, их фамилии шли у меня в списке по степени их одаренности, и списки эти я мысленно повторял с утра до вечера, так что в конце концов они как бы затвердели у меня в мозгу и уже надоедали мне своею неизменностью.
Впоследствии в коллеже, воспользовавшись тем, что преподаватель на меня не смотрел, и заговорив с новичком, я всегда начинал с вопроса, был ли он уже в театре и считает ли он, что величайший наш актер, конечно, Го, второй – Делоне и так далее. И если, с его точки зрения, Февр был хуже Тирона, а Делоне – хуже Коклена, то внезапная подвижность, с какою имя Коклена, утратив окаменелость, съеживалось у меня в мозгу и переходило на второе место, чудодейственное проворство и животворящее воодушевление, с каким Делоне бывал оттесняем на четвертое место, рождали в моем обретшем восприимчивость и оплодотворенном уме ощущение расцвета и ощущение жизни.
Но если мысль об актерах так неотступно преследовала меня, если один вид Мобана, выходившего после полудня из Французской комедии, вызывал во мне дрожь и терзания влюбленного, то во сколько же раз тревога, охватывавшая меня при имени какой-нибудь звезды, сиявшем на дверях театра, или же когда лицо женщины, которую я принимал за актрису, мелькало передо мной сквозь стекло кареты, запряженной лошадьми с розами, цветшими между их челкой и ремнем уздечки, во сколько же раз эта тревога оказывалась длительнее и насколько же мучительнее были мои бесплодные усилия представить себе ее образ жизни! Имена наиболее знаменитых артистов шли у меня в списке по степени их одаренности: Сара Бернар, Берма?, Барте, Мадлена Броан, Жанна Самари[71 - …Сара Бернар, Берма?, Барте, Мадлена Броан, Жанна Самари… – Все приведенные имена актеров и актрис принадлежат известным исполнителям парижских театров конца XIX века. Исключение составляет Берма – вымышленный персонаж, чье искусство дает рассказчику богатую пищу для размышлений о смысле творчества.], но интересовали меня все. Так вот, мой дед Адольф был знаком со многими из них, а также с кокотками, которых я путал с актрисами. Он принимал их у себя. Мы бывали у него в определенные дни, потому что в другие дни к нему приходили женщины, с которыми его родня не встречалась, во всяком случае – не считала для себя возможным встречаться; что же касается деда, то он, как раз наоборот, был рад душой познакомить с моей бабушкой красивых вдов, которые, вернее всего, и замужем-то никогда не были, или графинь с громкими именами, которые, вне всякого сомнения, представляли собой всего лишь звучные псевдонимы, – и не только познакомить, но и преподнести им фамильные драгоценности, что уже не раз являлось причиной его ссоры с братом. Я часто слышал, как мой отец, когда в разговоре упоминалось имя актрисы, с улыбкой пояснял матери: «Приятельница твоего дяди». И мне приходило на ум: люди значительные, быть может, годами тщетно добиваются благосклонности женщины, не отвечающей на их письма и приказывающей консьержу не принимать их, а дедушка Адольф может от всего этого избавить такого мальчишку, как я, представив его у себя актрисе, недоступной для большинства, но являющейся его близким другом.
Ну так вот, – под предлогом, что один урок у меня переставлен до того неудачно, что это уже несколько раз мешало и будет мешать и впредь ходить к дедушке Адольфу, – однажды, выбрав день, когда мы обыкновенно его не навещали, я воспользовался тем, что мои родители позавтракали рано, вышел из дому и, вместо того чтобы пойти посмотреть на столб с афишами – туда меня пускали одного, – побежал к деду. У его подъезда стоял экипаж, запряженный парой с красной гвоздикой, прикрепленной к наглазникам; в петличке у кучера тоже была гвоздика. Еще на лестнице я услышал смех и женский голос, но стоило мне позвонить, как все стихло, а двери кто-то запер. Отворивший мне камердинер при виде меня смутился и сказал, что дедушка очень занят и навряд ли меня примет, но все-таки пошел доложить, и вслед за тем уже знакомый мне голос сказал: «Впусти его, пожалуйста, на минутку, меня разбирает любопытство. На карточке, которая стоит у тебя на столе, он удивительно похож на мать, на твою племянницу, ведь это ее карточка стоит рядом с его? Мне хочется только взглянуть на этого мальчугана».
Дед ворчал, сердился; в конце концов камердинер впустил меня.
На столе, по обыкновению, стояла все та же тарелка с марципанами; дедушка Адольф был в своей неизменной куртке, а напротив сидела молодая женщина в розовом шелковом платье, с большим жемчужным ожерельем на шее, и доедала мандарин. Не зная, как назвать ее: «мадам» или «мадемуазель», я покраснел и, почти не глядя в ее сторону, чтобы не заговорить с ней, подошел поздороваться с дедом. Она смотрела на меня с улыбкой; дед сказал ей: «Это мой внучатый племянник», но не познакомил нас – вернее всего потому, что после размолвок с братом он по возможности старался не сталкивать родственников с подобного рода знакомыми.
– Как он похож на мать! – сказала она.
– Да, но вы же видели мою племянницу только на карточке! – недовольным тоном живо возразил дед.
– Простите, дорогой друг! В прошлом году, когда вы тяжело болели, я столкнулась с ней на лестнице. Правда, она только промелькнула передо мной, да и на лестнице у вас темно, но я была ею очарована. У молодого человека такие же прекрасные глаза, как у нее, и потом еще вот это, – сказала она, проведя пальцем над бровями. – Ваша племянница носит ту же фамилию, что и вы, мой друг? – обратилась она с вопросом к деду.
– Он больше похож на отца, – проворчал дед: ему было не по душе знакомить ее с моей матерью даже заочно, даже называть фамилию. – Он весь в отца и еще в мою покойную матушку.
– Я не знакома с его отцом, – слегка наклонив голову, сказала дама в розовом, – и никогда не была знакома с вашей покойной матушкой. Помните? Ведь мы с вами познакомились вскоре после того, как вас постигло это большое горе.
Я испытывал легкое разочарование: молодая женщина ничем не отличалась от красивых женщин, которых я кое-когда видел в кругу нашей семьи, – например, от дочери одного из наших родственников, которого я всегда поздравлял с Новым годом. Приятельница деда Адольфа была только лучше одета, но у нее были такие же добрые и живые глаза, такой же открытый и приветливый взгляд. Я не находил в ней ничего театрального, чем я любовался на фотографиях актрис, не находил демонического выражения, соответствовавшего образу жизни, который, по моим представлениям, она должна была вести. Мне трудно было поверить, что это кокотка, и уж, во всяком случае, никогда бы я не поверил, что это кокотка шикарная, если б не видел экипажа, запряженного парой, розового платья, жемчужного ожерелья, если б мне не было известно, что мой дед водит знакомства только с людьми самого высокого полета. Но мне было непонятно, какое удовольствие находит миллионер, даривший ей экипаж, особняк и драгоценности, в том, чтобы проматывать свое состояние ради женщины с такой простой и приличной внешностью. И все же, стараясь представить себе ее жизнь, я подумал о том, что ее безнравственность смущала бы меня, пожалуй, сильнее, приобрети она для меня бо?льшую точность и определенность, – сильнее смущала бы меня незримость тайны какого-нибудь романа, какого-нибудь скандала, из-за которого ей пришлось покинуть отца и мать – мирных обывателей, который ославил ее на весь свет, благодаря которому теперь цвела, возвысилась до степени дамы полусвета и приобрела известность женщина, чье выражение лица и интонации придавали ей сходство со многими моими знакомыми и невольно заставляли смотреть на нее как на девушку из хорошей семьи, хотя никакой семьи у нее уже не было.
Между тем мы перешли в «рабочий кабинет», и дедушка Адольф, которого мое присутствие несколько стесняло, предложил ей папиросу.
– Нет, мой дорогой, – сказала она, – я, как вам известно, привыкла к папиросам, которые мне присылает великий князь. Я от него не скрыла, что они вызывают у вас ревность.
Тут дама в розовом достала из портсигара несколько папирос с надписью золотыми буквами на иностранном языке.
– Ну, конечно, я встретилась у вас с отцом этого молодого человека! – неожиданно воскликнула она. – Ведь это же наш внучатый племянник? Как я могла забыть! Его отец был так мил, так очарователен со мной! – добавила она скромно и растроганно.
Вообразив, сколь суров мог быть этот очаровательный, по ее выражению, прием, оказанный ей моим отцом – я хорошо знал его сдержанность и холодность, – я почувствовал неловкость, как если бы он совершил какую-нибудь неделикатность: от несоответствия между чрезмерной благодарностью, которую она к нему испытывала, и его нелюбезностью. Позднее я пришел к мысли, что одна из трогательных сторон роли, какую играют эти праздные и вместе с тем деятельные женщины, состоит в том, что они растрачивают свою доброту, свои дарования, вечно живущий в них сентиментальный идеал красоты – подобно всем художникам, они этот свой идеал не осуществляют, не вводят в рамки обыденности – и легко достающееся им золото на то, чтобы заключить в драгоценную и тонкую оправу неприглядную и неотшлифованную жизнь мужчин. Подобно тому как она наполняла курительную комнату, где мой дед принимал ее в куртке, прелестью своего тела, шелкового розового платья, жемчугов, той изысканностью, отпечаток которой накладывала на нее дружба с великим князем, точно так же она поступила с каким-нибудь ничтожным замечанием моего отца: она проделала над ним ювелирную работу, придала ему особое значение, дала ему высшую оценку и, вставив в него свой драгоценный, чистой воды взгляд, переливавшийся кротостью и благодарностью, превратила его в художественное изделие, в нечто «совершенно очаровательное».
– Ну, тебе пора, – обратился ко мне дедушка.
Я встал; у меня явилось неодолимое желание поцеловать руку дамы в розовом, но меня остановила мысль, что это не меньшая дерзость, чем похищение. С сильно бьющимся сердцем я задавал себе вопрос: «Поцеловать или не поцеловать?» – затем перестал спрашивать себя, что мне делать, – перестал для того, чтобы быть в состоянии хоть как-то действовать. Отметя все доводы, безотчетным, нерассуждающим движением я поднес к губам протянутую мне руку.
– Как он мил! Он уж умеет быть галантным, умеет ухаживать за женщинами – в дедушку пошел. Из него выйдет безукоризненный джентльмен, – чтобы придать фразе легкий английский акцент, добавила она сквозь зубы. – Пришел бы он ко мне на a cup of tea[72 - Чашка чаю (англ.).], как выражаются наши соседи – англичане. Пусть только утром пошлет «голубой листочек».
Я не знал, что такое «голубой листочек». Я не понимал половины того, о чем говорила дама, но из страха, что ее слова заключают в себе вопрос, на который было бы невежливо не ответить, я напрягал внимание, и это было для меня очень утомительно.
– Нет, нет, это невозможно, – передернув плечами, возразил дедушка Адольф. – Он очень занят, много занимается. Он на лучшем счету в коллеже, – прошептал он, чтобы я не мог слышать эту ложь и не стал опровергать его. – Как знать! Может, из него получится второй Виктор Гюго, а глядишь – что-нибудь вроде Волабеля[73 - Волабель, Ашиль Тенай де (1799–1879) – французский журналист, историк и политический деятель.].
– Я обожаю писателей, – сказала дама в розовом, – женщин понимают только они… Они да еще такие редкие люди, как вы. Простите мне мое невежество, друг мой, – кто такой Волабель? Это не его томики с золотым обрезом стоят у вас в шкафчике в спальне? Вы обещали мне дать их почитать, я буду очень бережно с ними обращаться.
Дедушка Адольф терпеть не мог давать читать свои книги; он и тут ничего не ответил и проводил меня в переднюю. Безумно увлекшись дамой в розовом, я покрыл страстными поцелуями пропахшие табаком щеки моего старого деда, и, когда он, довольно сконфуженный, не решаясь сказать прямо, намекнул на то, что он предпочел бы, чтобы я не проговорился об этой встрече родителям, я со слезами на глазах принялся уверять его, что он был со мной необычайно добр и что я непременно чем-нибудь отблагодарю его. В самом деле, я был ему так благодарен, что уже через два часа, сказав родителям несколько загадочных фраз и сочтя, что фразы эти бессильны дать им верное понятие о том, что со мной произошло нечто чрезвычайно важное, я решил для пущей ясности рассказать им во всех подробностях, как я побывал у деда. Мне в голову не могло прийти, что этим я ему врежу. Как мне могло прийти это в голову, раз я не собирался ему вредить? Я был далек от мысли, что мои родители усмотрят что-нибудь нехорошее в том, в чем я ничего нехорошего не усматривал. Ведь мы же сплошь и рядом не исполняем просьбу нашего друга извиниться перед какой-нибудь женщиной за то, что он не смог ей написать, – не исполняем потому, что считаем, что если мы не придаем этому его поступку никакого значения, то не придаст и она. Я, как и все прочие, рисовал себе, что мозг других людей – это косное и послушное вместилище, не способное к специфическим реакциям на то, что в него вводится; вот почему я был убежден, что, вкладывая в мозг моих родителей сообщение о моем новом знакомстве у деда, я одновременно выражаю мое положительное отношение к этой встрече, а это и была моя цель. На мое несчастье, мерило для оценки поведения деда Адольфа у моих родителей оказалось совершенно иное. По дошедшим до меня потом слухам, отец и дедушка имели с ним бурное объяснение. Несколько дней спустя, увидев на улице деда Адольфа, проезжавшего мимо в открытом экипаже, я почувствовал боль, благодарность, угрызения совести, и все это мне захотелось ему выразить. Чувства эти были так сильны, что по сравнению с ними поклон показался мне ничтожным, – он мог навести деда на мысль, что я отделываюсь банальной учтивостью. Я решил воздержаться от этого ничего не выражающего жеста и отвернулся. Дед подумал, что родители не велели мне с ним здороваться, и до конца жизни им этого не простил: умер он спустя много лет, но никто из нас больше с ним не виделся.
Вот почему я уже не заходил в запертую комнату деда Адольфа; я стоял около черной кухни, затем на пороге появлялась Франсуаза и говорила: «Я велю судомойке готовить кофе и подать горячей воды, а мне пора к госпоже Октав», – и тогда я шел прямо к себе и принимался за чтение. Судомойка у нас была существом как бы бесплотным, неким постоянным учреждением, на которое, несмотря на смену недолговечных форм, в каковые оно облекалось, – ни одна из них не прослужила у нас более двух лет, – неизменный круг обязанностей налагал печать преемственности и сходства. В тот год, когда мы, приехав на Пасху, увлекались спаржей, наша судомойка, которой обыкновенно приказывали чистить ее, являла собой несчастное, болезненное существо, донашивавшее ребенка, так что было даже странно, как это Франсуаза гоняет ее то туда, то сюда по всяким делам, а ведь она уже с трудом носила перед собой таинственную, с каждым днем становившуюся все полнее корзину изумительной формы, которая угадывалась под широким передником. Передник напоминал плащ на аллегорических фигурах Джотто, снимки с которых мне дарил Сван. Он-то и обратил наше внимание на это сходство и спрашивал о судомойке: «Как поживает Благость Джотто[74 - Джотто (1266–1336) – итальянский живописец.]?» И в самом деле: несчастная бабенка, отекшая от беременности, с прямыми квадратными щеками, походила на могучих, мужеподобных дев, точнее – матрон, этих олицетворений добродетелей из капеллы Арена[75 - Арена – капелла дель Арена в Падуе, украшенная фресками Джотто «Добродетели и Пороки».]. Теперь я понимаю, что у нее была еще одна черта, общая с падуанскими Добродетелями и Пороками. Подобно тому как ничто в лице судомойки не отражало красоты и души того дополнительного символа, который увеличивал ее живот и который она носила просто как тяжкое бремя, по-видимому не постигая его смысла, так и дебелая хозяйка, над которой в Арене было написано Caritas[76 - Милосердие (лат.).] и репродукция с которой висела в Комбре у меня в классной, безусловно, не подозревала, что она есть воплощение этой добродетели, ибо в ее энергичном заурядном лице не проскальзывало ничего даже отдаленно похожего на благость. Исполняя чудесный замысел художника, она попирает земные сокровища, но попирает с таким видом, будто топчет виноград, чтобы выдавить из него сок, или, вернее, будто она взобралась на мешки, чтобы стать выше. Она вручает Богу свое пылающее сердце, точнее сказать – она его передает ему, как протягивает кухарка пробочник из окошка подвального помещения тому, кто стоит у окна нижнего этажа. Казалось бы, у Зависти должно быть что-то завистливое во взгляде. Но в этой фреске символ занимает такое большое место и изображен так живо, змея, шипящая в устах Зависти и заполняющая собой весь ее широко раскрытый рот, так велика, что для того, чтобы удержать ее, лицевые мускулы Зависти напряжены, как у ребенка, надувающего шар, и все внимание Зависти – так же, как и наше – всецело сосредоточено на положении губ, и ей уже не до завистливых мыслей.
Как ни восхищался Сван фигурами Джотто, мне в течение долгого времени не доставляло ни малейшего удовольствия смотреть в классной, где были развешаны копии, которые он мне привез, на эту Благость без благости, на Зависть, похожую на иллюстрации из медицинской книги, где показано сжатие голосовой щели или язычка вследствие опухоли на языке или введения хирургического инструмента, на Справедливость, чье неприметное, невзрачное в своей правильности лицо смахивало на лица иных миловидных жительниц Комбре, богомольных, необаятельных, которых я видел в церкви и которые давно уже были зачислены в запасные войска Несправедливости. И лишь много спустя я уяснил себе, что своим потрясающим своеобразием, своею особою прелестью эти фрески обязаны той огромной роли, какую играет в них символ, и тем, что действие изображено на фреске не как символ – символическая идея нигде в ней не выступает, – а как нечто живое, действительно испытываемое, до осязаемости вещественное: это-то и придавало фрескам бо?льшую определенность, бо?льшую точность, их назидательность приобретала от этого бо?льшую картинность и бо?льшую яркость. Так же обстояло дело и с нашей бедной судомойкой: разве наше внимание не приковывалось к ее животу из-за тяжести, которая вздувала его? Так мысль умирающих часто бывает повернута к невыдуманной, мучительной, темной, утробной стороне смерти, к ее изнанке, именно к той ее стороне, которую она им показывает, которую она безжалостно дает им почувствовать и которая гораздо больше похожа на расплющивающую их тяжесть, на затрудненность дыхания, на жажду, чем на наше представление о смерти.
Должно быть, падуанские Добродетели и Пороки были выполнены в достаточной мере жизненно, раз они представлялись мне такими же живыми, как беременная служанка, и если она сама казалась мне столь же аллегоричной, как они. И быть может, эта непричастность (по крайней мере, внешняя) души человеческой к доброте, действующей через человека, имеет, помимо эстетического значения, если не психологическое, то, так сказать, физиономическое обоснование. Впоследствии мне приходилось встречать – например, в монастырях – истинно святые воплощения деятельной доброты, и у большинства из них был бодрый, положительный, безразличный, жесткий вид занятого хирурга, на их лицах нельзя было прочесть ни отзывчивости, ни жалости к страдающему человеку, ни страха дотронуться до больного места, – то были лица неласковые, лица неприятные, но с возвышенным выражением истинного милосердия.
Два гобелена изображали венчание Эсфири[61 - Эсфирь – героиня иудаистической мифологии, спасшая свой народ в эпоху владычества персидского царя Ксеркса (библейского Артаксеркса); главный персонаж Книги Эсфири, вошедшей в ветхозаветный канон. Став женой царя, она добивается пощады для иудеев.] на царство (по традиции Артаксерксу были приданы черты одного из французских королей, а Эсфири – принцессы Германтской, в которую король был влюблен), и оттого что краски расплылись, фигуры приобрели особую выразительность, рельефность, выступили в ином освещении: розовая краска на губах Эсфири чуть-чуть перешла за их очертания; на ее одежду желтая краска была положена так обильно, так густо, что одежда от этого казалась плотной и резко выделялась на потускневшем фоне. А зелень на деревьях, все еще яркая в нижней части вытканного шелком и шерстью панно, наверху «пожухла», и эта ее бледноватость оттеняла возвышавшиеся над темными стволами верхние желтеющие ветви, позлащенные косыми, жгучими лучами незримого солнца и сильно выгоревшие. Все это, и в еще большей мере драгоценные предметы, принесенные в дар церкви лицами, для меня почти легендарными (золотой крест, будто бы сделанный святым Элигием[62 - Святой Элигий (588–660) – был золотых дел мастером и наставником Дагоберта I (600–639), короля франков.] и подаренный Дагобертом, порфировая, с финифтяными украшениями, гробница сыновей Людовика Немецкого[63 - Людовик Немецкий (804–876) – внук Карла Великого, царствовал в восточной части империи Каролингов (843–876).]), предметы, благодаря которым у меня, когда мы направлялись к нашим скамьям, было такое чувство, словно я иду по долине, посещаемой феями, где селянин с изумлением замечает на скале, на дереве, в болоте осязаемый след их сверхъестественных появлений, – все это в моих глазах совершенно обособляло церковь от остального города; для меня она представляла собой здание, которое занимало пространство, имевшее, если можно так выразиться, четыре измерения, – четвертым было Время, – и двигало сквозь века свой корабль, который, устремляясь от пролета к пролету, от придела к приделу, казалось, побеждал и преодолевал не просто столько-то метров, но эпоху за эпохой и всякий раз выходил победителем; здание, скрывавшее грубый и суровый XI век в толще стен, из которых тяжелые его своды, всюду заделанные и замурованные глыбами бутового камня, выступали только в длинном проеме лестницы на колокольню, но и здесь он был прикрыт изящными готическими аркадами, кокетливо обступившими его, подобно тому как старшие сестры, чтобы посторонним не было видно их младшего брата, увальня, грубияна и оборванца, с приветливой улыбкой становятся перед ним; здание, вздымавшее над площадью прямо в небо свою башню, помнившую Людовика Святого и как будто сейчас еще видевшую его перед собой; здание, погружавшееся вместе со своим склепом в темь меровингской ночи, где, ощупью ведя нас под мрачным сводом с могучими ребрами, напоминавшим перепонку исполинской каменной летучей мыши, Теодор или его сестра освещали свечой гробницу внучки Зигеберта[64 - Зигеберт – Зигеберт III, король Австразии (634–656), восточной части франкской Галлии.], а на крышке гробницы – похожую на след допотопного животного впадину, образовавшуюся, по преданию, оттого, что «хрустальная лампада в ночь убийства франкской принцессы оторвалась от золотых цепей, на которых она висела в том месте, где сейчас находится абсида, и так, что хрусталь не разбился, а пламя не погасло, ушла в податливый камень».
Ну а что можно сказать о самой абсиде комбрейской церкви? Как же грубо она была сделана, – не говоря о художественности, в ней не чувствовалось даже религиозного настроения! Так как перекресток, на который она выходила, представлял собою низину, то снаружи толстая ее стена, в которой ничего церковного не было, высилась на цоколе из нетесаного камня с торчащими обломками; казалось, окна были в ней пробиты слишком высоко, а все вместе создавало впечатление скорее тюремной, нежели церковной стены. И конечно, впоследствии, когда я вспоминал виденные мною знаменитые апсиды, мне никогда бы и в голову не пришло сравнить их с апсидой комбрейской. Только однажды, свернув с одной провинциальной улочки, я увидел на перекрестке трех переулков обветшавшую высокую-высокую стену с пробитыми в ней вверху окнами, столь же асимметричную на вид, как и абсида в Комбре. И тут я не спросил себя, как в Шартре или в Реймсе, насколько сильно выражено в ней религиозное чувство, а лишь невольно воскликнул: «Церковь!»
Церковь! Такая привычная церковь на улице Святого Илария, куда выходили северные ее двери, вплотную, без всякого промежутка, примыкавшая с одной стороны к аптеке г-на Рапена, а с другой – к дому г-жи Луазо, простая жительница Комбре, которая могла бы иметь свой номер, если бы дома в Комбре вообще имели номера, и перед которой по утрам, выйдя от г-на Рапена, по дороге к г-же Луазо, должен был, казалось, останавливаться почтальон; и однако между нею и всем остальным проходила грань, которую моему разуму никогда не удавалось переступить. Хотя на подоконнике у г-жи Луазо стояли фуксии, у которых была дурная привычка раскидывать во все стороны свои тянувшиеся книзу ветки, цветы которых, не успев распуститься, прежде всего стремились охладить свои фиолетовые, пышущие здоровьем щеки, дотронувшись до сумрачного фасада церкви, – от этого они не становились для меня священными; и пусть мое зрение не улавливало расстояния между цветами и почерневшим камнем, в который они упирались, зато разум представлял себе, что их разделяет пропасть.
Колокольню Св. Илария было видно издали: когда Комбре еще не появлялся, незабываемый ее силуэт уже вычерчивался на горизонте; едва различив из окна вагона, в котором мы ехали на пасхальные дни из Парижа, как она движется по небесным просторам, поворачивая во все стороны железного своего петушка, отец говорил нам: «Собирайтесь, приехали». А на одной из самых наших дальних прогулок в Комбре было такое место, где стиснутая буграми дорога внезапно вырывалась на необозримую равнину с перелесками на горизонте и над ними возвышался один лишь острый шпиль колокольни Св. Илария, до того тонкий и розовый, что можно было подумать, будто он начерчен ногтем человека, которому хотелось придать этому виду, этой картине природы, и только природы, нечто от искусства, хотя бы этим намекнуть на участие в ней человека. Когда мы подходили ближе и могли различить остатки четырехугольной полуразрушенной башни, которая еще стояла рядом с колокольней, но была ниже ее, то меня особенно поражал сумрачный, коричневый цвет камня, а туманным осенним утром пурпурная развалина, высившаяся над виноградниками цвета грозового неба, казалась очень похожей на лозу дикого винограда.
На возвратном пути бабушка обыкновенно останавливалась на площади и предлагала мне посмотреть на башню. Из своих амбразур, расположенных парами, одна над другою, с тем оригинальным соблюдением одинаковости расстояния, что придает красоту и достоинство не только человеческим лицам, она выпускала, выбрасывала через определенные промежутки времени стаи ворон, и вороны с карканьем кружились, словно среди древних камней, до сих пор не мешавших воронам гомозиться, как бы их не замечавших, воронью стало невмоготу, потому что камни начали выделять из себя что-то несказанно жуткое, поразившее и спугнувшее его. Затем, исчертив во всех направлениях темно-лиловый бархат вечернего воздуха, вороны внезапно успокаивались и исчезали в глубине башни, утратившей свою враждебность и вновь сделавшейся гостеприимной, некоторые же из них располагались на зубцах и, казалось, не шевелились, а на самом деле, должно быть, ловили на лету насекомых – так чайки, неподвижные, как рыбаки, застывают на гребнях волн. Бабушка, сама не зная почему, полагала, что в колокольне Св. Илария отсутствует вульгарность, претенциозность, пошлость, а ведь именно за это отсутствие она любила природу, если только ее не портила рука человеческая, как например рука садовника моей двоюродной бабушки, за это же она любила гениальные произведения, именно это заставляло ее верить в неиссякающе благотворное влияние природы и искусства. И в самом деле: каждая часть церкви, открывавшаяся взору, отличалась от всякого другого здания особой мыслью, которая была в нее вложена, но ее самосознание сосредоточивалось, по-видимому, в колокольне, через колокольню она утверждала свою незаурядность, свою самобытность. От лица церкви говорила колокольня. Я убежден, что бабушка, сама того не подозревая, находила в комбрейской колокольне то, что она ценила больше всего: естественность и изящество. Ничего не понимая в архитектуре, она говорила: «Дорогие мои! Смейтесь надо мной: быть может, она и небезупречна, но ее древний необычный облик мне нравится. Я уверена, что если б она играла на рояле, то играла бы не сухо». Глядя на колокольню, следя взором за мягкой упругостью, за стремительным наклоном каменных ее скатов, соединявшихся вверху, словно молитвенно сложенные руки, бабушка так сливалась со шпилем, протянутым ввысь, что казалось, будто взгляд ее уносится вместе с ним; и в то же время она приветливо улыбалась старым потрескавшимся камням, из которых лишь самые верхние освещались закатом, и вот когда эти камни вступали в солнечную зону, то, сделавшись легче от света, они мгновенно взлетали – они были теперь высоко-высоко, словно голос, запевший фальцетом, взявший целой октавою выше.
Колокольня Св. Илария придавала каждому занятию, каждому часу дня, всем видам города особое обличье, увенчивала их и освящала. Из моей комнаты мне было видно только ее основание, вновь покрытое шифером, но, глядя, как теплым летним воскресным утром черными солнцами пылают шиферные плитки, я говорил себе: «Боже мой! Девять часов! Пора вставать к поздней обедне, иначе я не успею поздороваться с тетей Леонией», – и я точно знал, какую окраску принимает сейчас солнечный свет на площади, я чувствовал, как жарко и пыльно на рынке, представлял себе полумрак от опущенной шторы в пропахшем небеленым холстом магазине, куда мама, быть может, зайдет по дороге в церковь купить платочек, и воображал, как велит показать его ей приосанившийся хозяин, совсем было собравшийся запереть магазин и направлявшийся к себе в комнату надеть праздничный сюртук и вымыть с мылом руки, которые он имел обыкновение каждые пять минут потирать с деловым видом удачливого проныры даже в самых прискорбных обстоятельствах.
После службы мы шли к Теодору заказать хлебец побольше, потому что из Тиберзи должны были, пользуясь хорошей погодой, приехать к нам позавтракать наши родственники, и в это время колокольня, пропеченная и подрумяненная, точно огромный благословенный хлеб с верхней коркой, облитой солнечной глазурью, вонзала острый свой шпиль в голубое небо. А вечером, когда я возвращался с прогулки и думал о том, что скоро я распрощаюсь с мамой до утра, у колокольни на фоне гаснущего дня был такой кроткий вид, что казалось, будто это коричневого бархата подушка, которую кто-то положил поглубже на голубое небо, будто небо подалось под напором, образовало небольшую вмятину, чтобы дать ей место, и обтекло ее со всех сторон, а крики птиц, летавших вокруг нее, словно еще усиливали ее спокойствие, еще выше возносили ее шпиль и придавали ей нечто неизъяснимое.
Даже когда мы гуляли за церковью, там, откуда ее не было видно, нам мнилось, что все соотносится с колокольней, выглядывавшей между домами, и, пожалуй, она производила еще более сильное впечатление, когда вырисовывалась одна, без церкви. Конечно, есть много колоколен, которые кажутся еще прекраснее, когда вот так на них смотришь; в моей памяти хранятся узоры возвышавшихся над крышами колоколен, которые отличались в художественном отношении от тех узоров, что образовывали унылые улицы Комбре. Мне не забыть двух прелестных домов XVIII века в одном любопытном нормандском городке по соседству с Бальбеком, – домов, которые по многим причинам мне милы и дороги; и вот, если смотреть на них из чудесного сада, уступами спускающегося к реке, то видно, как готический шпиль прячущейся за ними церкви устремляется ввысь, точно довершая, точно увенчивая их фасады, но только он совсем иной, до того изящный, тщательно отделанный, розовый, блестящий, что сразу бросается в глаза его непричастность к ним, как непричастна пурпурная зазубренная стрелка веретенообразной, покрытой блестящей эмалью раковины к двум лежащим рядом красивым галькам, между которыми она была найдена на берегу моря. Даже в одном из самых некрасивых парижских кварталов я знаю окно, откуда виден не на первом, не на втором и даже не на третьем плане, которые образуются улицами с громоздящимися одна над другою крышами, фиолетовый колокол, временами принимающий красноватый оттенок, временами – и это один из самых лучших снимков, которые делает с него воздух, – пепельно-черный, на самом же деле это не что иное, как купол церкви Св. Августина, придающий сходство этому парижскому виду с некоторыми римскими видами Пиранези[65 - Пиранези, Джованни Батиста (1720–1778) – итальянский архитектор и гравер, автор многочисленных офортов («Древности Рима») зачастую фантасмагорического характера.]. Но во все эти гравюрки моя память, с какой бы любовью она их ни восстанавливала, бессильна вложить давным-давно мною утраченное, вложить чувство, которое заставляет нас не смотреть на предмет как на зрелище, а верить в него, как в существо, не имеющее себе подобных, – вот почему ни одна из них не имеет власти над целой эпохой в моей внутренней жизни, как властвуют над нею воспоминания о разных видах, которые принимала комбрейская колокольня в зависимости от того, с какой улицы, расположенной за церковью, я на нее смотрел. Видна ли она была нам в пять часов дня, слева, когда мы ходили за письмами на почту, через несколько домов от нас, неожиданно вздымавшаяся одинокой вершиной над грядою крыш; или если мы шли в противоположном направлении – справиться о здоровье г-жи Сазра, – и, зная, что надо свернуть на вторую улицу после колокольни, следили взглядом за этою грядою, после подъема шедшею под уклон; или если мы направлялись еще дальше от колокольни, на вокзал, и, видная сбоку, повернутая в профиль, она показывала нам другие срезы и плоскости, подобно геометрическому телу, застигнутому в прежде не наблюдавшийся момент его вращения вокруг оси; или, наконец, с берегов Вивоны, когда от апсиды, напрягшей все свои мускулы и приподнятой расстоянием, казалось, сыпались искры – так она силилась помочь колокольне устремить шпиль прямо в небо, – словом, колокольня неизменно притягивала взор, она господствовала надо всем, ее неожиданно возникавшая игла собирала вокруг себя дома и поднималась предо мною, точно перст Божий, – тело Бога могло быть от меня скрыто в толпе людей, но благодаря этому персту я никогда бы не смешал его с толпой. Еще и сейчас, когда в каком-нибудь большом провинциальном городе или в одном из парижских кварталов, который я плохо знаю, прохожий на вопрос: «Как пройти туда-то?» – показывает мне вдали, в виде приметы, на углу той улицы, которую я разыскиваю, каланчу или же остроконечную, священническую шапку монастырской колокольни, то достаточно моей памяти обнаружить хотя бы неопределенное сходство с дорогим, исчезнувшим образом, и если прохожий обернется, чтобы удостовериться, что я не заблудился, он с удивлением заметит, что, позабыв о прогулке или о деле, я стою подле колокольни и могу неподвижно стоять здесь часами, напрягая память и чувствуя, как в глубине моей души зе?мли, залитые водою забвения, высыхают и заселяются вновь; и тогда я непременно, но только еще сильнее волнуясь, чем когда расспрашивал прохожего, начинаю искать дорогу, поворачиваю за угол… но… уже только мысленно…
Возвращаясь из церкви, мы часто встречали инженера Леграндена, – его вечно задерживали дела в Париже, так что, если не считать святок, он приезжал к себе в Комбре в субботу вечером, а в понедельник утром уезжал. Он принадлежал к числу людей, которые не только сделали блестящую ученую карьеру, но и обладают совсем иного рода культурой – литературной, художественной, совершенно ненужной для их профессии, однако обнаруживающейся при разговорах с ними. Более сведущие, чем многие литераторы (мы тогда еще не знали, что Легранден довольно известен как писатель, и были бы очень удивлены, если б нам сказали, что знаменитый композитор написал музыку на его стихи), и отличающиеся большей «набитостью руки», чем многие художники, они убеждены, что жизнь у них сложилась неудачно, и работают они спрохвала, хотя не без затей, или же с неутомимой и надменной, презрительной, желчной и добросовестной старательностью. Высокий, стройный, с тонким задумчивым лицом, с длинными светлыми усами, с голубыми глазами, выражавшими разочарование, изысканно вежливый, такой интересный собеседник, какого мы отроду не слыхивали, Легранден считался у нас в семье образцом благородства и деликатности, натурой исключительной. Бабушке не нравилось в нем то, что он уж слишком красиво говорил, чересчур книжным языком, лишенным свободы, с какою тот же Легранден повязывал широким бантом галстук, так что он у него всегда болтался, с какою Легранден носил прямую и короткую, почти как у школьника, тужурку. Еще ее удивляли пламенные и частые его тирады против аристократии, против светского образа жизни и снобизма, «а ведь снобизм, конечно, и есть тот грех, что имеет в виду апостол Павел, когда говорит о грехе, которому нет прощения».
Бабушке не только было несвойственно светское тщеславие – она просто не понимала, что это такое, – вот почему ей казалось бессмысленным вкладывать столько душевного пыла в его осуждение. Кроме того, она полагала, что не очень-то красиво со стороны Леграндена, сестра которого была замужем за нижненормандским дворянином, проживавшим близ Бальбека, так яростно нападать на благородное сословие и даже упрекать Революцию, что она не всю знать гильотинировала.
– Здравствуйте, друзья! – говорил Легранден, идя нам навстречу. – Вы счастливы: вы можете жить здесь подолгу, а мне уже завтра надо возвращаться в Париж, в свою конуру. Ох! – вздыхал он, улыбаясь своей особенной улыбкой, в которой читались мягкая ирония, разочарованность и легкая рассеянность. – У меня в Париже полно ненужных вещей. Не хватает лишь необходимого: неба над головой. Живи так, мой мальчик, чтобы у тебя всегда было небо над головой, – обращаясь ко мне, добавлял он. – У тебя красивая, хорошая душа, художественная натура, – не лишай же ее необходимого.
Когда мы возвращались домой и тетя посылала узнать у нас, опоздала ли г-жа Гупиль к обедне, мы ничего не могли ей ответить. Зато мы усиливали ее тревогу сообщением, что в церкви работает художник – копирует с витража Жильберта Дурного[66 - Жильберт Дурной – вымышленный писателем персонаж, имя которого образовано по аналогии с историческими деятелями Франции. Одним из его прототипов можно считать Карла II (1332–1387), короля Наваррского, которого прозвали Дурным из-за интриг, направленных против Карла V.]. Франсуаза, которую немедленно посылали в бакалейную лавку, ничего толком не узнала, потому что в лавке не оказалось Теодора, а Теодор совмещал обязанности певчего, способствовавшего благолепию в храме, и приказчика в бакалейной лавке, и это обстоятельство, позволявшее ему поддерживать отношения со всеми слоями общества, сделало из него человека универсальных знаний.
– Ах! – вздыхала тетя. – Скорей бы приходила Евлалия! Уж она-то мне все расскажет.
Евлалия, глухая, расторопная хромоножка, «удалившаяся на покой» после смерти г-жи де ла Бретонри, у которой она служила с детства, снимала комнату около церкви и из церкви не выходила: то надо побыть на службе, то, когда службы нет, помолиться одной, то помочь Теодору; в свободное время она навещала больных, в частности тетю Леонию, которой она рассказывала все, что случалось за обедней или за вечерней. Прежние хозяева выплачивали ей скромную пенсию, но она не гнушалась случайным приработком и время от времени приводила в порядок белье настоятеля или же еще какой-либо важной духовной особы, проживавшей в Комбре. Ходила она в черной суконной накидке и в белом монашеском чепчике; какое-то кожное заболевание окрашивало часть ее щек и крючковатый нос в ярко-розовый цвет бальзамина. Ее приходы были большим развлечением для тети Леонии, никого уже, кроме священника, не принимавшей. Тетя постепенно отвадила гостей, потому что все они, с ее точки зрения, были повинны в том, что принадлежали к одной из двух категорий людей, которые она не переваривала. Одни, самые для нее невыносимые, от коих она отделалась в первую голову, советовали ей не «нянчиться с собой» и держались пагубного мнения, которое они, впрочем, выражали иногда чисто негативно: в неодобрительном молчании или же в скептической улыбке, – что пройтись по солнышку или скушать хорошо приготовленный бифштекс с кровью (меж тем как тетя за четырнадцать часов выпивала каких-нибудь два несчастных глотка виши), – это было бы для нее полезнее, чем постельный режим и лекарства. Другую категорию составляли лица, притворявшиеся убежденными в том, что болезнь тети серьезнее, чем она предполагает, или в том, что она себя не обманывает, что она действительно тяжело больна. Словом, те, кого она после некоторого колебания и упрашиваний Франсуазы принимала и кто во время визита доказывал, что он недостоин этой милости, потому что робко позволял себе заметить: «Хорошо бы вам промяться в погожий день» или в ответ на ее слова: «Мне так плохо, так плохо, это конец, дорогие друзья» возражал: «Да, потерять здоровье – это хуже всего! Но вы еще долго можете протянуть», – такие люди, и первой и второй категории, могли быть уверены, что после этого тетя их больше к себе не пустит. Франсуазу смешил испуганный вид тети, когда со своего ложа она замечала на улице Святого Духа кого-либо из таких лиц, должно быть, собиравшихся зайти к ней, или же когда к ней звонили, но еще больше забавляли Франсуазу своей изобразительностью всегда имевшие успех хитрости, к коим прибегала тетя, чтобы отказать гостям, а равно и озадаченные лица гостей, вынужденных удалиться, не повидав тетю, и в глубине души Франсуаза восхищалась своей госпожой: она считала, что, раз госпожа их к себе не пускает, стало быть, она выше их. Короче говоря, тетя требовала, чтобы посетители одобряли ее образ жизни, сочувствовали ей и в то же время уверяли, что она выздоровеет.
И вот в этом отношении Евлалия была незаменима. Тетя могла двадцать раз подряд повторять: «Это конец, милая Евлалия», – Евлалия двадцать раз ей на это отвечала: «Если знать свою болезнь так, как знаете ее вы, госпожа Октав, то можно прожить до ста лет – это мне еще вчера говорила госпожа Сазрен». (Одно из самых твердых убеждений Евлалии, которое не властно было поколебать бесчисленное множество веских доводов, заключалось в том, что настоящая фамилия этой дамы – не Саз-ра, а Сазрен.)
– А я не прошу у Бога, чтоб он продлил мне жизнь до ста лет, – возражала тетя, предпочитавшая не ограничивать свою жизнь определенным сроком.
Сверх того Евлалия умела, как никто, развлекать тетю, не утомляя, вот почему ее неизменные приходы по воскресеньям – помешать ей могло только что-нибудь непредвиденное – были для тети удовольствием, предвкушение которого всю неделю поддерживало в ней приятное расположение духа, но зато если Евлалии случалось немного опоздать, состояние тети становилось таким же мучительным, как у изголодавшегося человека. Блаженство ожидания, затягиваясь, превращалось в пытку: тетя поминутно смотрела на часы, зевала, ей было не по себе. Если Евлалия звонила в конце дня, то уже переставшая ждать тетя почти заболевала. В самом деле, по воскресеньям она только и думала что о приходе Евлалии, и Франсуаза после завтрака с нетерпением ждала, когда мы уйдем из столовой, чтобы ей можно было «заняться» тетей. И все же (особенно когда в Комбре устанавливалась ясная погода) много времени проходило после того, как гордый полуденный час, нисходивший с колокольни св. Илария и на миг украшавший ее двенадцатью лепестками своей звучащей короны, раздавался над нашим столом, подле благословенного хлеба, который тоже запросто являлся к нам из церкви, а мы все еще сидели перед тарелками со сценами из «Тысячи и одной ночи», осовевшие от жары, а еще больше от завтрака. И то сказать: постоянную основу нашего завтрака составляли яйца, котлеты, картофель, варенье, бисквиты – об этом Франсуаза нам больше уже и не объявляла, но она добавляла многое другое, в зависимости от того, что уродилось в полях и в садах, в зависимости от улова, от случайностей торговли, от любезности соседей и от своих собственных дарований, так что наше меню, подобно розеткам, высекавшимся в XIII столетии на порталах соборов, до известной степени отражало смену времен года и череду человеческой жизни; добавляла же Франсуаза то камбалу, потому что торговка поручилась Франсуазе за ее свежесть; то индейку, потому что ей попалась на глаза превосходная индейка на рынке в Русенвиль-ле-Пен; то испанские артишоки с мозгами, потому что она никогда еще нам их так не готовила; то жареного барашка, потому что на свежем воздухе аппетит разгуливается, а нагулять его вновь к обеду семи часов хватит; то шпинат – для разнообразия; то абрикосы – потому что они еще редкость; то смородину, потому что через две недели она уже сойдет; то малину, потому что ее принес Сван; то вишни, потому что это первые вишни из нашего сада – два года подряд вишня не цвела; то творог со сливками, который я тогда очень любил; то миндальное пирожное, потому что она заказала его с вечера; то хлебец, потому что нынче наша очередь нести его в церковь. Когда со всем этим бывало покончено, подавался приготовленный для всех нас, но в угоду главным образом моему отцу, который был особым любителем этого блюда, воздушный и легкий, как стихотворение «на случай», шоколадный крем – плод вдохновения и необыкновенной внимательности Франсуазы, в который она вкладывала весь свой талант. Если бы кто-нибудь к нему не притронулся, сказав: «Больше не могу, я сыт», – он был бы тотчас же низведен до степени тех невежд, которые, получив в подарок от художника его произведение, интересуются весом и материалом, а замысел и подпись не имеет для них никакой цены. Даже оставить крошечный кусочек на тарелке значило проявить такую же неучтивость, как уйти перед носом у композитора еще до того, как доиграли его вещь.
Наконец мама мне говорила: «Послушай: нельзя же тут сидеть до бесконечности. Если на дворе очень жарко, то иди к себе, но все-таки сперва подыши воздухом: нельзя прямо из-за стола браться за книгу». Я шел к желобу с насосом, во многих местах украшенному, подобно готической купели, саламандрами, отдавливавшими на выветрившемся камне подвижной рельеф своего точеного аллегоричного тела, и усаживался под кустом сирени на скамейку без спинки в том заброшенном уголке сада, откуда через калитку можно было выйти на улицу Святого Духа и где стояла примыкавшая к дому, но казавшаяся отдельной постройкой черная кухня, куда вели две ступени. Ее красный плиточный пол блестел, точно порфировый. Кухня была похожа не столько на пещеру Франсуазы, сколько на храмик Венеры. Она изобиловала приношениями молочника, фруктовщика, зеленщицы, – эти люди приходили даже из дальних деревушек, чтобы принести на алтарь Франсуазы первые свои плоды. А конек крыши был неизменно увенчан воркующим голубем.
Раньше я не засиживался в окружавшей этот храм священной роще; прежде чем подняться к себе и взяться за книгу, я заходил в помещавшуюся на первом этаже комнатку дедушкиного брата Адольфа, старого военного, вышедшего в отставку в чине майора, – комнатку, куда через открытые окна вплывала жара, а солнечные лучи заглядывали редко и откуда никогда не улетучивался непередаваемый, свежий аромат, запах леса и запах далекого прошлого, который мы так мечтательно втягиваем в себя в каком-нибудь заброшенном охотничьем домике. Но я уже несколько лет не заходил в комнату дедушки Адольфа, – он больше не приезжал в Комбре, потому что рассорился с моей семьей из-за меня, и вот при каких обстоятельствах.
В Париже меня раза два в месяц посылали навестить его, как раз когда он, в домашней куртке, кончал завтракать, а ему прислуживал лакей в блузе из полотна в лиловую и белую полоску. Дедушка Адольф ворчал, что я давно у него не был, что все его забыли, угощал меня марципанами или мандаринами, затем из столовой мы с ним шли через нежилую, неотапливаемую комнату, стены которой были украшены золотой резьбой, потолок расписан под небесную лазурь и где мебель была обита атласом, как у моих дедушки и бабушки, но только желтым, и входили в комнату, которую он называл своим «рабочим кабинетом»: здесь на стенах висели гравюры, изображавшие на черном фоне мясистую розовую богиню со звездой во лбу, правящую колесницей или восседающую на земном шаре, – такие гравюры пользовались успехом при Второй империи, так как в них находили что-то помпейское, затем любовь сменилась пренебрежением, а теперь их опять полюбили только потому (хотя выставляются обычно другие причины), что они напоминают Вторую империю. И я оставался у деда, покуда камердинер не приходил к нему спросить от имени кучера, когда подавать лошадей. Дед погружался в раздумье, а завороженный камердинер боялся вывести деда из задумчивости малейшим движением – он с любопытством ждал, чем это кончится, а кончалось это всегда одним и тем же. После напряженной внутренней борьбы дед неизменно изрекал: «В четверть третьего», – а камердинер с изумлением, но без всяких возражений повторял: «В четверть третьего? Слушаюсь… Я так и скажу…»
В то время я любил театр, но любил платонически, потому что родители еще не позволяли мне туда ходить, и имел весьма смутное понятие о том, какого рода это наслаждение; я представлял его себе примерно так, что каждый зритель смотрит в некий стереоскоп на картину, которую показывают ему одному, хотя она ничем не отличается от множества других картин, на которые направлены стереоскопы других зрителей.
Каждое утро я бегал к столбу читать афиши. Невозможно вообразить себе ничего более бескорыстного и ничего более счастливого, чем те мечтания, которые пробуждала во мне каждая анонсированная пьеса, – мечтания, связанные не только с образами, возникавшими из названий пьес, но и с цветом афиш, еще сырых и сморщенных от клея. На афишах Французской комедии, цвета бордо, были напечатаны такие странные названия, как «Завещание Цезаря Жиродо»[67 - «Завещание Цезаря Жиродо» (1859) – комедия Бело и Вильтара, поставленная в «Одеоне» в 1859 г. Роль в этой пьесе, которая фигурировала в программе «Комеди-Франсез» вплоть до 1890 г., принесла успех Саре Бернар.] или «Царь Эдип»[68 - «Царь Эдип» (ок. 430 до н. э.) – трагедия Софокла (496–406 до н. э.).], а на зеленых афишах Комической оперы меня поражали своим цветовым контрастом белоснежное перо, украшавшее «Бриллиантовую корону»[69 - «Бриллиантовая корона» – комическая опера французского композитора Обера (1782–1871), автор либретто Скриб (1791–1861), была поставлена в «Опера-Комик» в 1841 г.], и гладкий таинственный атлас «Черного домино»[70 - «Черное домино» – комическая опера Скриба и Обера, поставленная в «Опера-Комик» в 1837 г. Все эти произведения постоянно ставились в парижских театрах в 80-е гг. XIX века.], а так как родители предупредили меня, что на первый раз я должен буду выбрать какую-нибудь из этих двух пьес, то я силился постичь смысл их названий – ведь судить о пьесах я имел возможность только по названиям, – вызвать в воображении очарование, какое таят в себе для меня обе пьесы, сравнить удовольствие, которое я получу от одной и от другой, и в конце концов я до того явственно представлял себе то пьесу ослепительную, величественную, то тихую, бархатистую, что не знал, какую выбрать, так же как я заколебался бы, если б мне предложили на сладкое рис «Императрица» или шоколадный крем.
Все мои разговоры с товарищами вращались вокруг актеров, и, хотя я их еще не видел, игра артистов явилась для меня первой из тех многообразных форм, которая дала мне почувствовать, что такое проявляющее себя в этих формах Искусство. Малейшие различия в манере артистов произносить, оттенять тот или иной монолог имели для меня огромное значение. На основании того, что я о них слышал, их фамилии шли у меня в списке по степени их одаренности, и списки эти я мысленно повторял с утра до вечера, так что в конце концов они как бы затвердели у меня в мозгу и уже надоедали мне своею неизменностью.
Впоследствии в коллеже, воспользовавшись тем, что преподаватель на меня не смотрел, и заговорив с новичком, я всегда начинал с вопроса, был ли он уже в театре и считает ли он, что величайший наш актер, конечно, Го, второй – Делоне и так далее. И если, с его точки зрения, Февр был хуже Тирона, а Делоне – хуже Коклена, то внезапная подвижность, с какою имя Коклена, утратив окаменелость, съеживалось у меня в мозгу и переходило на второе место, чудодейственное проворство и животворящее воодушевление, с каким Делоне бывал оттесняем на четвертое место, рождали в моем обретшем восприимчивость и оплодотворенном уме ощущение расцвета и ощущение жизни.
Но если мысль об актерах так неотступно преследовала меня, если один вид Мобана, выходившего после полудня из Французской комедии, вызывал во мне дрожь и терзания влюбленного, то во сколько же раз тревога, охватывавшая меня при имени какой-нибудь звезды, сиявшем на дверях театра, или же когда лицо женщины, которую я принимал за актрису, мелькало передо мной сквозь стекло кареты, запряженной лошадьми с розами, цветшими между их челкой и ремнем уздечки, во сколько же раз эта тревога оказывалась длительнее и насколько же мучительнее были мои бесплодные усилия представить себе ее образ жизни! Имена наиболее знаменитых артистов шли у меня в списке по степени их одаренности: Сара Бернар, Берма?, Барте, Мадлена Броан, Жанна Самари[71 - …Сара Бернар, Берма?, Барте, Мадлена Броан, Жанна Самари… – Все приведенные имена актеров и актрис принадлежат известным исполнителям парижских театров конца XIX века. Исключение составляет Берма – вымышленный персонаж, чье искусство дает рассказчику богатую пищу для размышлений о смысле творчества.], но интересовали меня все. Так вот, мой дед Адольф был знаком со многими из них, а также с кокотками, которых я путал с актрисами. Он принимал их у себя. Мы бывали у него в определенные дни, потому что в другие дни к нему приходили женщины, с которыми его родня не встречалась, во всяком случае – не считала для себя возможным встречаться; что же касается деда, то он, как раз наоборот, был рад душой познакомить с моей бабушкой красивых вдов, которые, вернее всего, и замужем-то никогда не были, или графинь с громкими именами, которые, вне всякого сомнения, представляли собой всего лишь звучные псевдонимы, – и не только познакомить, но и преподнести им фамильные драгоценности, что уже не раз являлось причиной его ссоры с братом. Я часто слышал, как мой отец, когда в разговоре упоминалось имя актрисы, с улыбкой пояснял матери: «Приятельница твоего дяди». И мне приходило на ум: люди значительные, быть может, годами тщетно добиваются благосклонности женщины, не отвечающей на их письма и приказывающей консьержу не принимать их, а дедушка Адольф может от всего этого избавить такого мальчишку, как я, представив его у себя актрисе, недоступной для большинства, но являющейся его близким другом.
Ну так вот, – под предлогом, что один урок у меня переставлен до того неудачно, что это уже несколько раз мешало и будет мешать и впредь ходить к дедушке Адольфу, – однажды, выбрав день, когда мы обыкновенно его не навещали, я воспользовался тем, что мои родители позавтракали рано, вышел из дому и, вместо того чтобы пойти посмотреть на столб с афишами – туда меня пускали одного, – побежал к деду. У его подъезда стоял экипаж, запряженный парой с красной гвоздикой, прикрепленной к наглазникам; в петличке у кучера тоже была гвоздика. Еще на лестнице я услышал смех и женский голос, но стоило мне позвонить, как все стихло, а двери кто-то запер. Отворивший мне камердинер при виде меня смутился и сказал, что дедушка очень занят и навряд ли меня примет, но все-таки пошел доложить, и вслед за тем уже знакомый мне голос сказал: «Впусти его, пожалуйста, на минутку, меня разбирает любопытство. На карточке, которая стоит у тебя на столе, он удивительно похож на мать, на твою племянницу, ведь это ее карточка стоит рядом с его? Мне хочется только взглянуть на этого мальчугана».
Дед ворчал, сердился; в конце концов камердинер впустил меня.
На столе, по обыкновению, стояла все та же тарелка с марципанами; дедушка Адольф был в своей неизменной куртке, а напротив сидела молодая женщина в розовом шелковом платье, с большим жемчужным ожерельем на шее, и доедала мандарин. Не зная, как назвать ее: «мадам» или «мадемуазель», я покраснел и, почти не глядя в ее сторону, чтобы не заговорить с ней, подошел поздороваться с дедом. Она смотрела на меня с улыбкой; дед сказал ей: «Это мой внучатый племянник», но не познакомил нас – вернее всего потому, что после размолвок с братом он по возможности старался не сталкивать родственников с подобного рода знакомыми.
– Как он похож на мать! – сказала она.
– Да, но вы же видели мою племянницу только на карточке! – недовольным тоном живо возразил дед.
– Простите, дорогой друг! В прошлом году, когда вы тяжело болели, я столкнулась с ней на лестнице. Правда, она только промелькнула передо мной, да и на лестнице у вас темно, но я была ею очарована. У молодого человека такие же прекрасные глаза, как у нее, и потом еще вот это, – сказала она, проведя пальцем над бровями. – Ваша племянница носит ту же фамилию, что и вы, мой друг? – обратилась она с вопросом к деду.
– Он больше похож на отца, – проворчал дед: ему было не по душе знакомить ее с моей матерью даже заочно, даже называть фамилию. – Он весь в отца и еще в мою покойную матушку.
– Я не знакома с его отцом, – слегка наклонив голову, сказала дама в розовом, – и никогда не была знакома с вашей покойной матушкой. Помните? Ведь мы с вами познакомились вскоре после того, как вас постигло это большое горе.
Я испытывал легкое разочарование: молодая женщина ничем не отличалась от красивых женщин, которых я кое-когда видел в кругу нашей семьи, – например, от дочери одного из наших родственников, которого я всегда поздравлял с Новым годом. Приятельница деда Адольфа была только лучше одета, но у нее были такие же добрые и живые глаза, такой же открытый и приветливый взгляд. Я не находил в ней ничего театрального, чем я любовался на фотографиях актрис, не находил демонического выражения, соответствовавшего образу жизни, который, по моим представлениям, она должна была вести. Мне трудно было поверить, что это кокотка, и уж, во всяком случае, никогда бы я не поверил, что это кокотка шикарная, если б не видел экипажа, запряженного парой, розового платья, жемчужного ожерелья, если б мне не было известно, что мой дед водит знакомства только с людьми самого высокого полета. Но мне было непонятно, какое удовольствие находит миллионер, даривший ей экипаж, особняк и драгоценности, в том, чтобы проматывать свое состояние ради женщины с такой простой и приличной внешностью. И все же, стараясь представить себе ее жизнь, я подумал о том, что ее безнравственность смущала бы меня, пожалуй, сильнее, приобрети она для меня бо?льшую точность и определенность, – сильнее смущала бы меня незримость тайны какого-нибудь романа, какого-нибудь скандала, из-за которого ей пришлось покинуть отца и мать – мирных обывателей, который ославил ее на весь свет, благодаря которому теперь цвела, возвысилась до степени дамы полусвета и приобрела известность женщина, чье выражение лица и интонации придавали ей сходство со многими моими знакомыми и невольно заставляли смотреть на нее как на девушку из хорошей семьи, хотя никакой семьи у нее уже не было.
Между тем мы перешли в «рабочий кабинет», и дедушка Адольф, которого мое присутствие несколько стесняло, предложил ей папиросу.
– Нет, мой дорогой, – сказала она, – я, как вам известно, привыкла к папиросам, которые мне присылает великий князь. Я от него не скрыла, что они вызывают у вас ревность.
Тут дама в розовом достала из портсигара несколько папирос с надписью золотыми буквами на иностранном языке.
– Ну, конечно, я встретилась у вас с отцом этого молодого человека! – неожиданно воскликнула она. – Ведь это же наш внучатый племянник? Как я могла забыть! Его отец был так мил, так очарователен со мной! – добавила она скромно и растроганно.
Вообразив, сколь суров мог быть этот очаровательный, по ее выражению, прием, оказанный ей моим отцом – я хорошо знал его сдержанность и холодность, – я почувствовал неловкость, как если бы он совершил какую-нибудь неделикатность: от несоответствия между чрезмерной благодарностью, которую она к нему испытывала, и его нелюбезностью. Позднее я пришел к мысли, что одна из трогательных сторон роли, какую играют эти праздные и вместе с тем деятельные женщины, состоит в том, что они растрачивают свою доброту, свои дарования, вечно живущий в них сентиментальный идеал красоты – подобно всем художникам, они этот свой идеал не осуществляют, не вводят в рамки обыденности – и легко достающееся им золото на то, чтобы заключить в драгоценную и тонкую оправу неприглядную и неотшлифованную жизнь мужчин. Подобно тому как она наполняла курительную комнату, где мой дед принимал ее в куртке, прелестью своего тела, шелкового розового платья, жемчугов, той изысканностью, отпечаток которой накладывала на нее дружба с великим князем, точно так же она поступила с каким-нибудь ничтожным замечанием моего отца: она проделала над ним ювелирную работу, придала ему особое значение, дала ему высшую оценку и, вставив в него свой драгоценный, чистой воды взгляд, переливавшийся кротостью и благодарностью, превратила его в художественное изделие, в нечто «совершенно очаровательное».
– Ну, тебе пора, – обратился ко мне дедушка.
Я встал; у меня явилось неодолимое желание поцеловать руку дамы в розовом, но меня остановила мысль, что это не меньшая дерзость, чем похищение. С сильно бьющимся сердцем я задавал себе вопрос: «Поцеловать или не поцеловать?» – затем перестал спрашивать себя, что мне делать, – перестал для того, чтобы быть в состоянии хоть как-то действовать. Отметя все доводы, безотчетным, нерассуждающим движением я поднес к губам протянутую мне руку.
– Как он мил! Он уж умеет быть галантным, умеет ухаживать за женщинами – в дедушку пошел. Из него выйдет безукоризненный джентльмен, – чтобы придать фразе легкий английский акцент, добавила она сквозь зубы. – Пришел бы он ко мне на a cup of tea[72 - Чашка чаю (англ.).], как выражаются наши соседи – англичане. Пусть только утром пошлет «голубой листочек».
Я не знал, что такое «голубой листочек». Я не понимал половины того, о чем говорила дама, но из страха, что ее слова заключают в себе вопрос, на который было бы невежливо не ответить, я напрягал внимание, и это было для меня очень утомительно.
– Нет, нет, это невозможно, – передернув плечами, возразил дедушка Адольф. – Он очень занят, много занимается. Он на лучшем счету в коллеже, – прошептал он, чтобы я не мог слышать эту ложь и не стал опровергать его. – Как знать! Может, из него получится второй Виктор Гюго, а глядишь – что-нибудь вроде Волабеля[73 - Волабель, Ашиль Тенай де (1799–1879) – французский журналист, историк и политический деятель.].
– Я обожаю писателей, – сказала дама в розовом, – женщин понимают только они… Они да еще такие редкие люди, как вы. Простите мне мое невежество, друг мой, – кто такой Волабель? Это не его томики с золотым обрезом стоят у вас в шкафчике в спальне? Вы обещали мне дать их почитать, я буду очень бережно с ними обращаться.
Дедушка Адольф терпеть не мог давать читать свои книги; он и тут ничего не ответил и проводил меня в переднюю. Безумно увлекшись дамой в розовом, я покрыл страстными поцелуями пропахшие табаком щеки моего старого деда, и, когда он, довольно сконфуженный, не решаясь сказать прямо, намекнул на то, что он предпочел бы, чтобы я не проговорился об этой встрече родителям, я со слезами на глазах принялся уверять его, что он был со мной необычайно добр и что я непременно чем-нибудь отблагодарю его. В самом деле, я был ему так благодарен, что уже через два часа, сказав родителям несколько загадочных фраз и сочтя, что фразы эти бессильны дать им верное понятие о том, что со мной произошло нечто чрезвычайно важное, я решил для пущей ясности рассказать им во всех подробностях, как я побывал у деда. Мне в голову не могло прийти, что этим я ему врежу. Как мне могло прийти это в голову, раз я не собирался ему вредить? Я был далек от мысли, что мои родители усмотрят что-нибудь нехорошее в том, в чем я ничего нехорошего не усматривал. Ведь мы же сплошь и рядом не исполняем просьбу нашего друга извиниться перед какой-нибудь женщиной за то, что он не смог ей написать, – не исполняем потому, что считаем, что если мы не придаем этому его поступку никакого значения, то не придаст и она. Я, как и все прочие, рисовал себе, что мозг других людей – это косное и послушное вместилище, не способное к специфическим реакциям на то, что в него вводится; вот почему я был убежден, что, вкладывая в мозг моих родителей сообщение о моем новом знакомстве у деда, я одновременно выражаю мое положительное отношение к этой встрече, а это и была моя цель. На мое несчастье, мерило для оценки поведения деда Адольфа у моих родителей оказалось совершенно иное. По дошедшим до меня потом слухам, отец и дедушка имели с ним бурное объяснение. Несколько дней спустя, увидев на улице деда Адольфа, проезжавшего мимо в открытом экипаже, я почувствовал боль, благодарность, угрызения совести, и все это мне захотелось ему выразить. Чувства эти были так сильны, что по сравнению с ними поклон показался мне ничтожным, – он мог навести деда на мысль, что я отделываюсь банальной учтивостью. Я решил воздержаться от этого ничего не выражающего жеста и отвернулся. Дед подумал, что родители не велели мне с ним здороваться, и до конца жизни им этого не простил: умер он спустя много лет, но никто из нас больше с ним не виделся.
Вот почему я уже не заходил в запертую комнату деда Адольфа; я стоял около черной кухни, затем на пороге появлялась Франсуаза и говорила: «Я велю судомойке готовить кофе и подать горячей воды, а мне пора к госпоже Октав», – и тогда я шел прямо к себе и принимался за чтение. Судомойка у нас была существом как бы бесплотным, неким постоянным учреждением, на которое, несмотря на смену недолговечных форм, в каковые оно облекалось, – ни одна из них не прослужила у нас более двух лет, – неизменный круг обязанностей налагал печать преемственности и сходства. В тот год, когда мы, приехав на Пасху, увлекались спаржей, наша судомойка, которой обыкновенно приказывали чистить ее, являла собой несчастное, болезненное существо, донашивавшее ребенка, так что было даже странно, как это Франсуаза гоняет ее то туда, то сюда по всяким делам, а ведь она уже с трудом носила перед собой таинственную, с каждым днем становившуюся все полнее корзину изумительной формы, которая угадывалась под широким передником. Передник напоминал плащ на аллегорических фигурах Джотто, снимки с которых мне дарил Сван. Он-то и обратил наше внимание на это сходство и спрашивал о судомойке: «Как поживает Благость Джотто[74 - Джотто (1266–1336) – итальянский живописец.]?» И в самом деле: несчастная бабенка, отекшая от беременности, с прямыми квадратными щеками, походила на могучих, мужеподобных дев, точнее – матрон, этих олицетворений добродетелей из капеллы Арена[75 - Арена – капелла дель Арена в Падуе, украшенная фресками Джотто «Добродетели и Пороки».]. Теперь я понимаю, что у нее была еще одна черта, общая с падуанскими Добродетелями и Пороками. Подобно тому как ничто в лице судомойки не отражало красоты и души того дополнительного символа, который увеличивал ее живот и который она носила просто как тяжкое бремя, по-видимому не постигая его смысла, так и дебелая хозяйка, над которой в Арене было написано Caritas[76 - Милосердие (лат.).] и репродукция с которой висела в Комбре у меня в классной, безусловно, не подозревала, что она есть воплощение этой добродетели, ибо в ее энергичном заурядном лице не проскальзывало ничего даже отдаленно похожего на благость. Исполняя чудесный замысел художника, она попирает земные сокровища, но попирает с таким видом, будто топчет виноград, чтобы выдавить из него сок, или, вернее, будто она взобралась на мешки, чтобы стать выше. Она вручает Богу свое пылающее сердце, точнее сказать – она его передает ему, как протягивает кухарка пробочник из окошка подвального помещения тому, кто стоит у окна нижнего этажа. Казалось бы, у Зависти должно быть что-то завистливое во взгляде. Но в этой фреске символ занимает такое большое место и изображен так живо, змея, шипящая в устах Зависти и заполняющая собой весь ее широко раскрытый рот, так велика, что для того, чтобы удержать ее, лицевые мускулы Зависти напряжены, как у ребенка, надувающего шар, и все внимание Зависти – так же, как и наше – всецело сосредоточено на положении губ, и ей уже не до завистливых мыслей.
Как ни восхищался Сван фигурами Джотто, мне в течение долгого времени не доставляло ни малейшего удовольствия смотреть в классной, где были развешаны копии, которые он мне привез, на эту Благость без благости, на Зависть, похожую на иллюстрации из медицинской книги, где показано сжатие голосовой щели или язычка вследствие опухоли на языке или введения хирургического инструмента, на Справедливость, чье неприметное, невзрачное в своей правильности лицо смахивало на лица иных миловидных жительниц Комбре, богомольных, необаятельных, которых я видел в церкви и которые давно уже были зачислены в запасные войска Несправедливости. И лишь много спустя я уяснил себе, что своим потрясающим своеобразием, своею особою прелестью эти фрески обязаны той огромной роли, какую играет в них символ, и тем, что действие изображено на фреске не как символ – символическая идея нигде в ней не выступает, – а как нечто живое, действительно испытываемое, до осязаемости вещественное: это-то и придавало фрескам бо?льшую определенность, бо?льшую точность, их назидательность приобретала от этого бо?льшую картинность и бо?льшую яркость. Так же обстояло дело и с нашей бедной судомойкой: разве наше внимание не приковывалось к ее животу из-за тяжести, которая вздувала его? Так мысль умирающих часто бывает повернута к невыдуманной, мучительной, темной, утробной стороне смерти, к ее изнанке, именно к той ее стороне, которую она им показывает, которую она безжалостно дает им почувствовать и которая гораздо больше похожа на расплющивающую их тяжесть, на затрудненность дыхания, на жажду, чем на наше представление о смерти.
Должно быть, падуанские Добродетели и Пороки были выполнены в достаточной мере жизненно, раз они представлялись мне такими же живыми, как беременная служанка, и если она сама казалась мне столь же аллегоричной, как они. И быть может, эта непричастность (по крайней мере, внешняя) души человеческой к доброте, действующей через человека, имеет, помимо эстетического значения, если не психологическое, то, так сказать, физиономическое обоснование. Впоследствии мне приходилось встречать – например, в монастырях – истинно святые воплощения деятельной доброты, и у большинства из них был бодрый, положительный, безразличный, жесткий вид занятого хирурга, на их лицах нельзя было прочесть ни отзывчивости, ни жалости к страдающему человеку, ни страха дотронуться до больного места, – то были лица неласковые, лица неприятные, но с возвышенным выражением истинного милосердия.