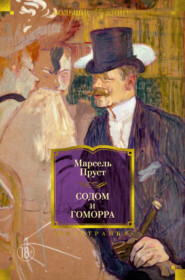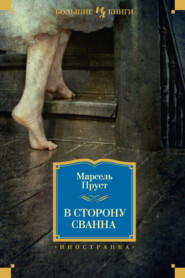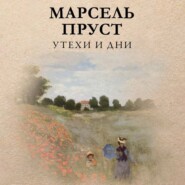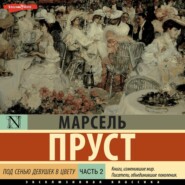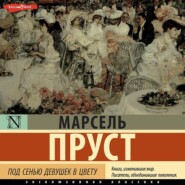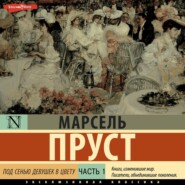По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Германт
Автор
Жанр
Год написания книги
1922
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эти теории Сен-Лу наполняли меня радостью. Они внушали мне надежду, что, живя здесь, в Донсьере, в обществе офицеров и слушая их разговоры за бокалами сотерна, бросавшего на них очаровательный отблеск, я, может быть, не грешил тем преувеличением, которое во время моего пребывания в Бальбеке придавало такие огромные размеры королю и королеве Океании, кружку четырех гастрономов, молодому игроку и зятю Леграндена, ставшими теперь в моих глазах совсем микроскопическими, почти несуществующими. То, что мне нравилось в настоящую минуту, не сделается, может быть, завтра безразличным, как это до сих пор всегда со мной случалось, – существо, которым я был в эту минуту, не обрекалось, может быть, в ближайшее время на разрушение, так как овладевшая мной в эти несколько вечеров пылкая и мимолетная страсть ко всему, что касалось военной жизни, находила в рассуждениях Сен-Лу относительно искусства войны солидное логическое обоснование, способное убедить меня настолько, чтобы я, не впадая в самообман, продолжал и после отъезда интересоваться работами моих донсьерских приятелей и искренно думал, что не замедлю к ним вернуться. Между тем, чтобы приобрести еще большую уверенность в том, что это искусство войны было действительно искусством в высоком смысле этого слова, я сказал Сен-Лу:
– Вы меня очень… извини, ты меня очень заинтересовал, но тут есть один пункт, который вызывает во мне недоумение. Я чувствую, что мог бы увлечься военным искусством, но для этого мне надо считать его не настолько отличным от прочих искусств, надо, чтобы в нем не все определялось усвоенным образцом. Ты говоришь о точном воспроизведении сражений. Действительно, есть нечто эстетическое, как ты говоришь, открывать под современным сражением сражение более старое, – не могу выразить, как эта мысль мне нравится. Но в таком случае неужели гений полководца ничего не значит? Неужели весь он сводится к тому, чтобы следовать образцам? Или же, возьмем аналогичную науку, неужели нет выдающихся генералов, подобных выдающимся хирургам, которые, имея дело с двумя тождественными с материальной точки зрения болезненными состояниями, чувствуют, однако, на основании какой-нибудь мелочи – может быть, подмеченной из собственного опыта, – но осмысленной, что в одном случае им следует делать скорее то-то, а в другом случае скорее то-то, что в одном случае хорошо бы было оперировать, а в другом – воздержаться от операции?
– Еще бы! Разумеется, есть. Сплошь и рядом ты видишь, что Наполеон не предпринимает атаки, когда согласно всем правилам должен бы атаковать, но какое-то смутное прозрение его удерживает. Возьмем для примера Аустерлиц или же его инструкции Ланну в тысяча восемьсот шестом году. Зато сколько генералов схоластически подражали тому или иному маневру Наполеона и достигали диаметрально противоположного результата. Десятки таких примеров дает кампания тысяча восемьсот семидесятого года. Но даже для уяснения того, что может предпринять противник, то, что он предпринимает, есть лишь симптом, могущий означать множество различных вещей. Каждая из этих вещей имеет одинаково шансов быть истинной, если ограничиваться логическими рассуждениями и научными данными, подобно тому как в некоторых сложных случаях всей медицинской науки мира недостаточно, чтобы решить, волокнистое ли строение у невидимой опухоли или же нет, следует ли делать операцию или не следует. Чутье, прозрение в духе госпожи де Теб (ты меня понимаешь) – вот что является решающим у выдающегося генерала, как и у выдающегося врача. Итак, я тебе приводил в качестве примера, что может означать разведка в начале сражения. Но она может означать десяток других вещей: например, внушить неприятелю мысль, что его собираются атаковать в определенном пункте, тогда как атака готовится в другом пункте; может служить завесой, которая помешает ему увидеть приготовления к действительной операции, принудит его увести войска, приковать их к другому месту, а не к тому, где они необходимы; может дать представление о силах, которыми неприятель располагает, прощупать его, заставить его открыть карты. Иногда даже тот факт, что в дело введены огромные силы, не является доказательством серьезности операции: она может быть осуществлена всерьез, хотя бы и была только уловкой, для того, чтобы эта уловка имела больше шансов обмануть противника. Если бы я имел время изложить тебе с этой точки зрения войны Наполеона, то, уверяю, эти простые классические движения, которые мы изучаем на полевой службе и которые ты увидишь, прогуливаясь ради удовольствия, поросенок… прости, я знаю, что ты болен… так вот, на войне, когда чувствуешь за ними бдительность, логику и глубокие изыскания высшего командования, они, эти простые движения, тебя волнуют, как огни маяка, чисто физический свет, за которым, однако, кроется разум и который обшаривает пространство, чтобы извещать суда об опасности. Я даже, может быть, делаю ошибку, говоря тебе только о военной литературе. В действительности, подобно тому как состав почвы, направление ветра и света указывают, в какую сторону будет расти дерево, условия, в которых протекает кампания, особенности страны, являющейся театром военных действий, предписывают в известном смысле и ограничивают планы, между которыми может выбирать генерал. Так что движение армий по горам, по определенного типа долинам или равнинам ты можешь предсказать, в его величавой красоте, почти с такой же точностью, как движение лавин.
– Теперь ты отрицаешь свободу у полководца и догадливость у противника, желающего прочитать его планы, хотя сейчас только наделил их этими качествами.
– Да ничуть! Припомни-ка ту книгу по философии, что мы с тобой читали в Бальбеке, где речь шла о богатстве мира возможностей по сравнению с действительным миром. Так вот, дело обстоит таким же образом с военным искусством. В данной ситуации напрашивается, скажем, четыре плана, между которыми генерал мог сделать выбор, подобно тому как болезнь может развиваться различными способами, каждый из которых врач должен встретить во всеоружии. И тут опять-таки человеческая слабость и величие являются причинами неизвестности. В самом деле, допустим, что случайные соображения (например, достижение побочных целей, недостаток времени или малочисленность и дурное снабжение личного состава) заставляют генерала предпочесть из этих четырех планов первый, менее совершенный, но который можно выполнить скорее и с меньшими затратами на территории, более богатой продовольствием. Начав с этого первого плана, который неприятель, сначала озадаченный, скоро разгадает, генерал может оказаться не в силах его осуществить, встретив слишком большие препятствия. Это то, что я называю риском, рожденным человеческой слабостью. Он может его оставить и попробовать второй, третий или четвертый план, но может случиться, что попробует первый – и это я называю человеческим величием, – лишь в качестве уловки, чтобы связать силы противника и напасть на него врасплох там, где он не ожидает атаки. Этот маневр был осуществлен под Ульмом: Мак, ждавший неприятеля с запада, был охвачен с севера, где он считал себя в полной безопасности. Пример мой, впрочем, не очень удачен. Ульм является лучшим образцом сражения с охватом, и он не раз еще будет повторен, потому что является не только классическим примером, которым будут вдохновляться генералы, но как бы необходимой формой (необходимой в числе других, что позволяет выбор, разнообразие), чем-то вроде типа кристаллизации. Но все это ничего не значит, потому что подобные условия все же искусственны. Возвращаясь к нашей книге по философии, скажу, что они подобны логическим принципам или научным законам: действительность с ними сообразуется, почти совпадает, но вспомни великого математика Пуанкаре: он не уверен, что даже математика – наука совершенно точная. Что же касается уставов самих по себе, о которых я тебе говорил, то они, в общем, имеют второстепенное значение и, кроме того, время от времени подвергаются изменениям. Что касается нас, кавалеристов, то мы живем уставом полевой службы тысяча восемьсот девяносто пятого года, который, можно сказать, отжил свое время, потому что основан на устарелой и непригодной теории, согласно которой кавалерийский бой имеет лишь чисто моральное значение благодаря устрашающему действию кавалерийской атаки на противника. Между тем самые умные из наших учителей, все, что есть лучшего в кавалерии, и особенно майор, о котором я тебе говорил, полагают, напротив, что исход сражения будет решаться рукопашной схваткой в настоящем смысле слова, где пойдут в ход сабли и пики и где более стойкая сторона окажется победительницей не только морально, благодаря устрашающему впечатлению, но и материально.
– Сен-Лу прав, и весьма вероятно, что ближайший устав полевой службы будет носить черты этой эволюции, – сказал мой сосед.
– Я не досадую на твое одобрение, так как твои суждения, видимо, действуют сильнее на моего друга, чем мои, – со смехом сказал Сен-Лу, оттого ли, что зарождающаяся симпатия между его товарищем и мной немного раздражала его, или же оттого, что считал долгом вежливости ее санкционировать этим официальным признанием. – Кроме того, я, может быть, преуменьшил значение уставов. Их подвергают изменениям, это верно. Но пока что они руководят военной обстановкой, планами кампании и концентрации вооруженных сил. Если они отражают неправильную стратегическую концепцию, то могут оказаться исходным моментом поражения. Все это вещи, пожалуй, чересчур технические для тебя, – заметил он, обращаясь ко мне. – Главное, уясни себе хорошенько, что фактором, наиболее содействующим развитию военного искусства, являются сами войны. В течение кампании, если она сколько-нибудь продолжительна, одна из воюющих сторон сплошь и рядом пользуется уроками, которые ей дают успехи и промахи противника, совершенствует его методы, причем и противник, в свою очередь, не отстает. Но все это дело прошлое. Вместе с ужасающим прогрессом артиллерии будущие войны, если только они будут, окажутся настолько короткими, что, прежде чем воюющие стороны успеют извлечь из них урок, уже заключат мир.
– Не будь таким обидчивым, – сказал я Сен-Лу в ответ на то, что он говорил перед этими заключительными словами. – Я тебя слушал во все уши!
– Если ты обещаешь впредь не сердиться по пустякам и мне разрешишь, – сказал приятель Сен-Лу, – то я добавлю к сказанному тобой, что если сражения подражают друг другу и друг на друга накладываются, то происходит это не только вследствие планов военачальника. Может случиться, что какая-нибудь его ошибка (например, недооценка сил противника) заставляет его требовать от своих войск чрезмерных жертв, которые иначе части принесут с такой безграничной самоотверженностью, что роль их станет от того аналогичной роли такой-то другой части в таком-то другом сражении, и их будут приводить в истории в качестве равнозначных призеров. Если держаться в рамках тысяча восемьсот семидесятого года, то такими примерами будут: прусская гвардия у Сен-Прива, тюркосы у Фрешвилера и у Виссенбурга.
– Вот именно: равнозначных, – совершенно точно, великолепно! Ты умница, – воскликнул Сен-Лу.
Я не остался равнодушен к этим последним примерам, как вообще не был равнодушен, когда мне в частном вскрывали общее. Однако в данную минуту меня интересовал гений полководца, мне хотелось отдать себе отчет, в чем он заключается, как взялся бы за дело гениальный полководец, чтобы восстановить скомпрометированное положение в такой обстановке, в которой полководец бездарный не мог бы сопротивляться, что, по словам Сен-Лу, было вещью вполне возможной и делалось Наполеоном неоднократно. И, чтобы уяснить, что представляют собой военные способности, я просил сравнений между генералами, известными мне по именам, просил сказать, кто из них по своим качествам наиболее подходит для роли полководца, кто из них наилучший тактик, рискуя надоесть моим новым приятелям, которые, впрочем, не подавали и виду, что это им докучает, и отвечали мне с неиссякаемой добротой.
Я чувствовал себя огражденным (не только от простиравшейся кругом темной холодной ночи, из которой к нам время от времени доносился свисток поезда, лишь ярче оттенявший удовольствие находиться здесь, среди друзей, или бой часов, к счастью, еще далекий от той минуты, когда эти молодые люди должны будут снова надеть сабли и вернуться домой, но и от всех внешних забот, даже от воспоминаний о герцогине Германтской) добротой Сен-Лу, которой доброта его приятелей, с ней соединявшаяся, придавала как бы большую плотность, а также теплом этой маленькой столовой и изысканностью подававшихся нам кушаний. Они столько же тешили мое воображение, сколько ублажали мой желудок; иногда на них можно было видеть кусочки природы, из которой они были извлечены: шероховатую чашу устрицы с остававшимися на ней каплями соленой воды, узловатую ветку винограда с пожелтевшими листьями, – несъедобные, поэтичные и далекие, как пейзаж, вызывавшие в течение обеда представления о полуденном отдыхе под виноградным кустом и прогулке по морю. В другие вечера это природное своеобразие кушаний подчеркивалось только поваром, который выкладывал их на блюдо в естественном обрамлении, точно произведения искусства: так, вареная рыба подавалась на длинном фаянсовом блюде, где, рельефно выделяясь на пучках синеватых трав, нетронутая, но скрюченная, оттого что живой была брошена в кипяток, окруженная каймой раковин крохотных своих спутников: крабов, креветок и улиток, – она как будто являлась керамическим изделием Бернара Палисси[10 - Палисси, Бернар (1510–1590) – французский естествоиспытатель и художник-керамист.].
– Я ревную, я взбешен, – полушутливо-полусерьезно говорил мне Сен-Лу, намекая на бесконечные мои разговоры в сторонке с его приятелем. – Значит, вы находите его умнее меня? Значит, вы его любите больше меня? Значит, только он для вас и существует?
Мужчины, безумно влюбленные в какую-нибудь женщину и живущие в обществе мужчин, увлекающихся женщинами, позволяют себе шутки, на которые другие, считающие их не столь невинными, никогда бы не решились.
Когда разговор делался общим, приятели избегали заводить речь о Дрейфусе из боязни задеть Сен-Лу. Однако через неделю двое его товарищей обратили внимание на то, как странно, что, живя в военной среде, он является таким убежденным дрейфусаром, почти антимилитаристом. «Это оттого, – сказал я, не желая углубляться в подробности, – что влияние среды вовсе не имеет такого значения, как принято думать…» Я рассчитывал этим и ограничиться, не повторяя мыслей, которые я развивал Сен-Лу несколько дней назад. Все же, так как и эти слова были уже мной сказаны почти буквально, собирался извиниться, прибавив: «Это то самое, что несколько дней назад…» – но не учел оборотной стороны восхищения, с которым Робер относился ко мне и некоторым другим лицам. Это восхищение дополнялось таким основательным усвоением их мыслей, что через двое суток он забывал, что мысли эти не его. Таким образом, Сен-Лу счел своим долгом горячо меня приветствовать и поддержать мой скромный тезис с таким выражением, как если бы он всегда сидел у него в голове и я только охотился в его владениях.
– Ну да! Среда не имеет значения.
И продолжал с такой энергией, как будто опасался, что я его прерву или не пойму:
– Подлинное влияние оказывает среда интеллектуальная! Мы люди идеи.
Он остановился на мгновение с улыбкой человека, хорошо обдумавшего свои мысли, уронил монокль и вонзился в меня глазами, точно буравчиками.
– Все люди одной идеи одинаковы, – произнес он с вызывающим видом.
По всей вероятности, Сен-Лу совершенно забыл, что несколько дней назад я ему сказал эти самые слова, которые он так хорошо запомнил. Не все вечера приходил я в ресторан Сен-Лу в одинаковом расположении духа. Если какое-нибудь воспоминание, какое-нибудь огорчение способны нас покинуть, так что мы больше их не замечаем, то бывает, что они возвращаются и иногда долго с нами не расстаются. Случались вечера, когда, идя через город в ресторан, я до такой степени тосковал по герцогине Германтской, что у меня дух захватывало: казалось, будто часть моей грудной клетки вырезана искусным анатомом, удалена и заменена равной частью нематериального страдания, эквивалентом тоски и любви. Как бы ловко ни были пригнаны швы, нам очень не по себе, когда тоска по какому-нибудь существу заменила в нас внутренние органы; нам кажется, что она занимает больше места, чем эти органы, мы непрестанно ее ощущаем, и кроме того, какая тягостная раздвоенность быть вынужденным сознавать часть своего тела. Но, кажется, мы способны на большее. При малейшем ветерке тяжело вздыхаешь от стеснения в груди, а также от истомы. Я смотрел на небо и, если оно было чистое, говорил себе: «Может быть, она в деревне и смотрит на те же звезды». И, кто знает, вернувшись в ресторан, не услышу ли я от Робера: «Приятная весть: тетушка пишет, что хотела бы тебя видеть. Она приезжает сюда». Не только на небесный свод помещал я мысль о герцогине Германтской. Малейшее нежное дуновение, казалось, приносило мне весть о ней, как некогда о Жильберте среди волнующихся полей Мезеглиза: мы не меняемся, мы вкладываем в чувство, которое относим к какому-нибудь существу, множество уснувших элементов, им пробуждаемых, но ему чуждых. И кроме того, что-то такое в нас всегда старается привести эти частные чувства к более высокой истине, то есть связать их с чувством более общим, присущим всему человечеству, так что отдельные люди и страдания, ими причиняемые, служат нам только поводом приобщиться к нему. Если к муке моей примешивалось некоторое наслаждение, так это оттого, что я сознавал ее крохотной частицей вселенской любви. Конечно, узнавая, как мне казалось, в переживаемом мной страдании муки, которые я испытывал по поводу Жильберты или в те вечера, в Комбре, когда мама не оставалась в моей комнате, а также запомнившиеся мне некоторые страницы Бергота – страдании, с которым герцогиня Германтская, ее холодность, ее отсутствие, не были связаны так отчетливо, как причина связывается с действием в уме ученого, – я не заключал отсюда, что герцогиня не является этой причиной. Разве не бывает, что неопределенная физическая боль распространяется лучеобразно из больной части на соседние области, которые она, однако, покидает и окончательно рассеивается, если врач нащупывает точку, откуда она исходит? И все же перед этим ее протяжение придавало ей в наших глазах такую безграничность и фатальность, что, бессильные ее объяснить и даже локализовать, мы считали невозможным от нее вылечиться. Продолжая идти к ресторану, я думал: «Уже четырнадцать дней, как я не видел герцогини Германтской». Четырнадцать дней казались огромным сроком, конечно, лишь мне, потому что, когда дело касалось герцогини Германтской, я считал время минутами. Для меня не только звезды и ветерок, но даже арифметические деления времени приобретали нечто мучительное и поэтическое. Каждый день был подобен теперь подвижному гребню текучего холма: по одной стороне его я мог, чувствовал я, спуститься в забвение, а по другой меня уносила потребность увидеться вновь с герцогиней. И я переваливался с одной стороны на другую, лишенный устойчивого равновесия. Однажды я подумал: «Может быть, сегодня вечером будет письмо», – и, придя обедать, набрался храбрости и спросил Сен-Лу:
– Не получил ли ты, случайно, известий из Парижа?
– Получил, – мрачно ответил он, – скверные известия.
Я вздохнул с облегчением, поняв, что огорчения касались только моего друга и что известия были от его любовницы, но тотчас сообразил, что они первым делом надолго помешают Роберу свести меня к своей тетке.
Я узнал, что между ним и его любовницей разыгралась ссора – в письмах или же во время ее кратковременного посещения Робера от поезда до поезда. А все ссоры, даже менее серьезные, какие у них бывали до сих пор, казались непоправимыми, ибо она бывала не в духе, топала ногами, плакала по столь же непонятным причинам, как дети, которые забираются в чулан, не приходят к обеду, отказываясь от всяких объяснений, и только громче ревут, когда, исчерпав все доводы, им дают шлепка. Сен-Лу ужасно страдал от этой размолвки, но сказать так – значит, слишком упростить дело и тем исказить правильное представление об этом страдании. Когда он очутился один и ему не оставалось больше ничего, как только думать о своей любовнице, уехавшей с чувством уважения к нему, которым она прониклась, видя его таким энергичным, то его терзаниям в первые часы после разлуки положила конец мысль о непоправимости происшедшего, а прекращение тревоги – вещь настолько отрадная, что эта решительная ссора приобрела в его глазах в некоторой степени ту же прелесть, какую имело бы примирение. То, от чего он начал страдать немного позже, были, так сказать, вторичные тягостные чувства, непрестанно притекавшие из него самого при мысли, что она, может быть, искренне хотела бы примириться, что нет ничего невозможного, что она ждала только слова от него, что в ожидании она в отместку сделает, может быть, в такой-то вечер, в таком-то месте такую-то вещь, и что для того, чтобы ее удержать, ему стоило бы только ей телеграфировать о своем приезде, что, может быть, другие пользуются упускаемым им временем и что через несколько дней будет уже слишком поздно обращаться к ней, потому что она будет уже занята. О всех этих возможностях он ничего не знал, его любовница хранила молчание, которое, в конце концов, довело его до такого исступления, что он начал спрашивать себя, не скрывается ли она где-нибудь в Донсьере или не уехала ли в Индию.
Говорят, что молчание – сила; в совсем другом смысле оно – страшная сила, находясь в распоряжении тех, кого мы любим. Оно увеличивает тревогу любовника, который ждет. Ничто так не манит приблизиться к какому-нибудь существу, как то, что нас с ним разлучает, а есть ли более непреодолимая преграда, чем молчание? Говорят также, что молчание – пытка, и что оно способно помутить рассудок у того, кто бывает обречен на него в тюрьмах. Но какая пытка – куда более сильная, чем хранить молчание, – сносить его от человека, которого любишь! Робер говорил себе: «Что же она делает, почему так молчит?» Он говорил также: «Что же я сделал, что она так молчит? Она, может быть, меня возненавидела, и навсегда». И он винил себя. Таким образом, молчание действительно мутило его рассудок благодаря ревности и угрызениям совести. Кроме того, более жестокое, чем молчание тюрем, молчание это само является тюрьмой. Промежуточный слой пустоты, непроницаемый, однако, для взоров покинутого, стоит перед ним не вещественной, правда, но непреодолимой стеной. Нет более ужасного освещения, чем молчание, которое нам показывает не одну отсутствующую, но тысячи, и каждая из них совершает измену по-своему. Иногда, в минуту внезапного успокоения, Робер считал, что это молчание сейчас нарушится и что придет долгожданное письмо. Он его видел, оно было в пути, он прислушивался к каждому шуму, он был уже утолен, он бормотал: «Письмо! Письмо!» – но воображаемый оазис нежности, мелькнув, исчезал, и он снова беспомощно брел по незыблемой пустыне бесконечного молчания.
Он заранее переживал все без исключения виды мучительного разрыва, хотя временами считал, что разрыва можно избежать, подобно тем людям, которые приводят в порядок все свои дела, готовясь к мнимому переселению, и мысль которых, не знающая, где ей придется остановиться на другой день, в иные мгновения мечется, отделившись от них, подобно изъятому сердцу больного, которое продолжает биться, оторванное от остального тела. Во всяком случае, надежда, что любовница вернется, давала ему силы мужественно переносить разрыв, вроде того как надежда, что удастся вернуться живым с поля сражения, помогает солдату безбоязненно встретить смерть. И так как привычка из всех человеческих растений меньше всего нуждается в питающей почве для того, чтобы жить, и первой показывается на самой голой с виду скале, то, может быть, переживая заранее притворную разлуку, он в заключение искренно свыкся бы с ней. Но неизвестность поддерживала в нем состояние, которое, будучи связано с воспоминанием об этой женщине, походило на любовь. Он принуждал себя, однако, не писать ей, думая, может быть, что при некоторых условиях менее мучительно жить без любовницы, чем вместе с нею, и что после сцены их разлуки необходимо подождать ее извинений, так как иначе она не сохранила бы к нему того, что он считал если не любовью, то по крайней мере хорошим мнением и уважением. Он ограничивался тем, что ходил на телефон, который только что провели в Донсьере, и спрашивал новости или давал предписания горничной, которую приставил к своей приятельнице. Эти переговоры были, однако, делом довольно сложным и отнимали у него много времени, потому что, сообразуясь с мнением своих литературных друзей, считавших столицу безобразной, но особенно ради своих животных: собак, обезьян, канареек и попугая, непрестанный крик которых сделался невыносимым хозяину ее парижского дома, – любовница Робера незадолго перед этим сняла небольшую усадьбу в окрестностях Версаля. Теперь Сен-Лу в Донсьере ни минуты не спал по ночам. Однажды, сидя у меня, он немного вздремнул, сраженный усталостью, но вдруг заговорил, хотел бежать, хотел чему-то воспрепятствовать: «Я слышу, вы не… вы не…» – и проснулся. Он объяснил мне, что только что ему снилось, будто он в деревне у вахмистра. Этот вахмистр старался не допустить его к одной части дома. Сен-Лу догадался, что вахмистр скрывает у себя очень богатого и очень развратного лейтенанта, который, как ему было известно, усердно добивался благосклонности его приятельницы. И вдруг он во сне явственно услышал повторяющиеся через правильные промежутки крики, какие обыкновенно испускала его любовница в минуты сладострастия. Он хотел силою заставить вахмистра провести его в эту комнату, но тот удерживал Робера, не давая ему войти, с укоризненным видом, которого Робер, по его словам, никогда не мог бы забыть.
– Дурацкий сон, – закончил он свой рассказ, все еще не в силах отдышаться.
Но я отлично видел, что в течение часа после этого он несколько раз порывался телефонировать любовнице, чтобы попросить ее помириться. Недавно завел телефон мой отец, но не знаю, могло ли это принести какую-нибудь пользу Сен-Лу. К тому же мне казалось не очень удобным поручать моим родителям или даже аппарату, поставленному у них, посредническую роль между Сен-Лу и его любовницей, несмотря на всю изысканность и благородство ее чувств. Кошмар, душивший Сен-Лу, понемногу изгладился из его сознания. С рассеянным и неподвижным взором он заходил ко мне все эти ужасные дни, которые, следуя один за другим, начертали для меня великолепную дугу вроде грубо сколоченной рампы, откуда Робер не переставая спрашивал себя, какое решение собирается принять его приятельница.
Наконец, она обратилась к Сен-Лу с вопросом, согласится ли он ее простить. Поняв, что разрыва удалось избежать, он тотчас увидел все неудобные стороны примирения. К тому же он страдал теперь меньше и почти примирился со своим горем, которое при возобновлении связи грозило через несколько месяцев снова обостриться. Он недолго колебался, а если вообще колебался, то лишь потому, что получил наконец уверенность, что может вернуть свою любовницу, – может вернуть, а следовательно, и вернет. Но она его просила пощадить ее покой и не приезжать в Париж первого января. А у Сен-Лу недоставало мужества, будучи в Париже, не повидать ее. Зато она соглашалась поехать с ним в путешествие, но для этого ему надобен был продолжительный отпуск, которого капитан, князь Бородинский, не хотел ему давать.
– Мне очень досадно, так как из-за этого откладывается наш визит к моей тетушке. Но я непременно приеду в Париж на Пасху.
– В это время мы не сможем пойти к герцогине Германтской, потому что я буду уже в Бальбеке. Но это не имеет решительно никакого значения.
– В Бальбеке? Но ведь вы ездили туда только в августе.
– Да, но в этом году по состоянию здоровья мне придется поехать раньше.
Больше всего он боялся, чтобы после его рассказов у меня не составилось плохого суждения о его любовнице. «Она несдержанна только потому, что слишком прямодушна, слишком во власти своих чувств. Но это женщина возвышенная. Ты не можешь себе представить, какая поэтическая у ней душа. Ежегодно она проводит День поминовения всех усопших в Брюгге. Это хорошо, не правда ли? Если когда-нибудь с ней познакомишься, ты увидишь, какое благородство…» И так как Сен-Лу пропитан был языком, которым говорили возле этой женщины в литературных кругах, то он закончил: «В ней есть нечто астральное, нечто пророческое. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Нечто от поэта, который является почти жрецом».
В продолжение всего обеда я искал предлога, который позволил бы Сен-Лу попросить тетку принять меня, не дожидаясь его приезда в Париж. Такой предлог я наконец нашел: то было мое желание вновь посмотреть картины Эльстира, великого художника, с которым мы с Сен-Лу познакомились в Бальбеке. Желание это к тому же было искреннее, ибо если во время моих посещений Эльстира я требовал от его живописи научить меня любви и пониманию вещей лучших, чем сама она: настоящей оттепели, подлинной провинциальной рыночной площади, живых женщин на пляже (самое большее, я бы заказал ему портрет реальностей, которые не умел углубить: например, дороги, обсаженной боярышником, – не с тем, чтобы он сохранил для меня их красоту, а с тем, чтобы открыл ее мне), то теперь, напротив, желание мое возбуждала оригинальность, прелесть его картин, и больше всего я хотел увидеть другие картины Эльстира.
Мне казалось вдобавок, что самые ничтожные его картины были чем-то непохожим на шедевры даже прославленных художников. Произведения его составляли как бы замкнутое царство с непереходимыми границами, не имеющее себе равных. Жадно коллекционируя редкие журналы, в которых печатались статьи о нем, я узнал из них, что он начал лишь недавно писать пейзажи и натюрморты, а дебютировал мифологическими картинами (фотографии двух таких картин я видел в его мастерской), после чего долгое время был под впечатлением японского искусства.
Некоторые самые характерные произведения его различных манер находились в провинции. Какой-нибудь дом в Андели, хранивший один из лучших его пейзажей, казался мне столь же драгоценным, внушал столь же живое желание путешествовать, как та мельница в окрестностях Шартра, в жерновой камень которой вправлен знаменитый витраж. И к владельцу этого шедевра, к этому человеку, который, запершись, как астролог, в глубине своего неуклюжего дома на главной улице, вопрошал это зеркало мира – картину Эльстира, купленную им, может быть, за несколько тысяч франков, – я чувствовал себя влекомым той симпатией, что объединяет – вплоть до сердец, до характеров – людей, мыслящих одинаково с нами по какому-нибудь существенному вопросу. Между тем три значительных произведения моего любимого художника значились в одном из этих журналов собственностью герцогини Германтской. Таким образом, в тот вечер, когда Сен-Лу сообщил мне о поездке своей приятельницы в Брюгге, я мог в общем искренно бросить ему, как бы невзначай, за обедом, в присутствии его друзей:
– Да, относительно последней нашей беседы по поводу дамы, о которой мы говорили. Ты помнишь Эльстира, художника, с которым я познакомился в Бальбеке?
– Ну разумеется.
– Ты помнишь мое восхищение им?
– Отлично помню, помню и письмо, которое мы велели ему передать.
– Так вот, одна из причин, отнюдь не самая важная, причина довольно второстепенная, по которой я желал бы познакомиться с упомянутой дамой, ты знаешь, конечно, какая.
– Боже, какое предисловие!
– Причина в том, что у нее есть по крайней мере одна прекрасная картина Эльстира.
– Вот как! Я не знал.
– Эльстир будет, вероятно, в Бальбеке на Пасху: вы знаете, что он проводит теперь почти весь год на этом побережье. Мне бы очень хотелось посмотреть его картину до отъезда. Не знаю, в достаточно ли коротких отношениях вы с вашей теткой: вы не могли бы, представив ей вашего покорного слугу в достаточно выгодном свете, чтобы она не отказала, попросить у нее для меня разрешения посмотреть картину Эльстира без вас, если вы не приедете?
– Разумеется, я ручаюсь за нее, берусь вам это устроить.
– Робер, как я вас люблю.
– Это очень мило, но хорошо было бы также, если бы вы мне говорили «ты», как вы обещали и как ты начал было говорить.
– Вы меня очень… извини, ты меня очень заинтересовал, но тут есть один пункт, который вызывает во мне недоумение. Я чувствую, что мог бы увлечься военным искусством, но для этого мне надо считать его не настолько отличным от прочих искусств, надо, чтобы в нем не все определялось усвоенным образцом. Ты говоришь о точном воспроизведении сражений. Действительно, есть нечто эстетическое, как ты говоришь, открывать под современным сражением сражение более старое, – не могу выразить, как эта мысль мне нравится. Но в таком случае неужели гений полководца ничего не значит? Неужели весь он сводится к тому, чтобы следовать образцам? Или же, возьмем аналогичную науку, неужели нет выдающихся генералов, подобных выдающимся хирургам, которые, имея дело с двумя тождественными с материальной точки зрения болезненными состояниями, чувствуют, однако, на основании какой-нибудь мелочи – может быть, подмеченной из собственного опыта, – но осмысленной, что в одном случае им следует делать скорее то-то, а в другом случае скорее то-то, что в одном случае хорошо бы было оперировать, а в другом – воздержаться от операции?
– Еще бы! Разумеется, есть. Сплошь и рядом ты видишь, что Наполеон не предпринимает атаки, когда согласно всем правилам должен бы атаковать, но какое-то смутное прозрение его удерживает. Возьмем для примера Аустерлиц или же его инструкции Ланну в тысяча восемьсот шестом году. Зато сколько генералов схоластически подражали тому или иному маневру Наполеона и достигали диаметрально противоположного результата. Десятки таких примеров дает кампания тысяча восемьсот семидесятого года. Но даже для уяснения того, что может предпринять противник, то, что он предпринимает, есть лишь симптом, могущий означать множество различных вещей. Каждая из этих вещей имеет одинаково шансов быть истинной, если ограничиваться логическими рассуждениями и научными данными, подобно тому как в некоторых сложных случаях всей медицинской науки мира недостаточно, чтобы решить, волокнистое ли строение у невидимой опухоли или же нет, следует ли делать операцию или не следует. Чутье, прозрение в духе госпожи де Теб (ты меня понимаешь) – вот что является решающим у выдающегося генерала, как и у выдающегося врача. Итак, я тебе приводил в качестве примера, что может означать разведка в начале сражения. Но она может означать десяток других вещей: например, внушить неприятелю мысль, что его собираются атаковать в определенном пункте, тогда как атака готовится в другом пункте; может служить завесой, которая помешает ему увидеть приготовления к действительной операции, принудит его увести войска, приковать их к другому месту, а не к тому, где они необходимы; может дать представление о силах, которыми неприятель располагает, прощупать его, заставить его открыть карты. Иногда даже тот факт, что в дело введены огромные силы, не является доказательством серьезности операции: она может быть осуществлена всерьез, хотя бы и была только уловкой, для того, чтобы эта уловка имела больше шансов обмануть противника. Если бы я имел время изложить тебе с этой точки зрения войны Наполеона, то, уверяю, эти простые классические движения, которые мы изучаем на полевой службе и которые ты увидишь, прогуливаясь ради удовольствия, поросенок… прости, я знаю, что ты болен… так вот, на войне, когда чувствуешь за ними бдительность, логику и глубокие изыскания высшего командования, они, эти простые движения, тебя волнуют, как огни маяка, чисто физический свет, за которым, однако, кроется разум и который обшаривает пространство, чтобы извещать суда об опасности. Я даже, может быть, делаю ошибку, говоря тебе только о военной литературе. В действительности, подобно тому как состав почвы, направление ветра и света указывают, в какую сторону будет расти дерево, условия, в которых протекает кампания, особенности страны, являющейся театром военных действий, предписывают в известном смысле и ограничивают планы, между которыми может выбирать генерал. Так что движение армий по горам, по определенного типа долинам или равнинам ты можешь предсказать, в его величавой красоте, почти с такой же точностью, как движение лавин.
– Теперь ты отрицаешь свободу у полководца и догадливость у противника, желающего прочитать его планы, хотя сейчас только наделил их этими качествами.
– Да ничуть! Припомни-ка ту книгу по философии, что мы с тобой читали в Бальбеке, где речь шла о богатстве мира возможностей по сравнению с действительным миром. Так вот, дело обстоит таким же образом с военным искусством. В данной ситуации напрашивается, скажем, четыре плана, между которыми генерал мог сделать выбор, подобно тому как болезнь может развиваться различными способами, каждый из которых врач должен встретить во всеоружии. И тут опять-таки человеческая слабость и величие являются причинами неизвестности. В самом деле, допустим, что случайные соображения (например, достижение побочных целей, недостаток времени или малочисленность и дурное снабжение личного состава) заставляют генерала предпочесть из этих четырех планов первый, менее совершенный, но который можно выполнить скорее и с меньшими затратами на территории, более богатой продовольствием. Начав с этого первого плана, который неприятель, сначала озадаченный, скоро разгадает, генерал может оказаться не в силах его осуществить, встретив слишком большие препятствия. Это то, что я называю риском, рожденным человеческой слабостью. Он может его оставить и попробовать второй, третий или четвертый план, но может случиться, что попробует первый – и это я называю человеческим величием, – лишь в качестве уловки, чтобы связать силы противника и напасть на него врасплох там, где он не ожидает атаки. Этот маневр был осуществлен под Ульмом: Мак, ждавший неприятеля с запада, был охвачен с севера, где он считал себя в полной безопасности. Пример мой, впрочем, не очень удачен. Ульм является лучшим образцом сражения с охватом, и он не раз еще будет повторен, потому что является не только классическим примером, которым будут вдохновляться генералы, но как бы необходимой формой (необходимой в числе других, что позволяет выбор, разнообразие), чем-то вроде типа кристаллизации. Но все это ничего не значит, потому что подобные условия все же искусственны. Возвращаясь к нашей книге по философии, скажу, что они подобны логическим принципам или научным законам: действительность с ними сообразуется, почти совпадает, но вспомни великого математика Пуанкаре: он не уверен, что даже математика – наука совершенно точная. Что же касается уставов самих по себе, о которых я тебе говорил, то они, в общем, имеют второстепенное значение и, кроме того, время от времени подвергаются изменениям. Что касается нас, кавалеристов, то мы живем уставом полевой службы тысяча восемьсот девяносто пятого года, который, можно сказать, отжил свое время, потому что основан на устарелой и непригодной теории, согласно которой кавалерийский бой имеет лишь чисто моральное значение благодаря устрашающему действию кавалерийской атаки на противника. Между тем самые умные из наших учителей, все, что есть лучшего в кавалерии, и особенно майор, о котором я тебе говорил, полагают, напротив, что исход сражения будет решаться рукопашной схваткой в настоящем смысле слова, где пойдут в ход сабли и пики и где более стойкая сторона окажется победительницей не только морально, благодаря устрашающему впечатлению, но и материально.
– Сен-Лу прав, и весьма вероятно, что ближайший устав полевой службы будет носить черты этой эволюции, – сказал мой сосед.
– Я не досадую на твое одобрение, так как твои суждения, видимо, действуют сильнее на моего друга, чем мои, – со смехом сказал Сен-Лу, оттого ли, что зарождающаяся симпатия между его товарищем и мной немного раздражала его, или же оттого, что считал долгом вежливости ее санкционировать этим официальным признанием. – Кроме того, я, может быть, преуменьшил значение уставов. Их подвергают изменениям, это верно. Но пока что они руководят военной обстановкой, планами кампании и концентрации вооруженных сил. Если они отражают неправильную стратегическую концепцию, то могут оказаться исходным моментом поражения. Все это вещи, пожалуй, чересчур технические для тебя, – заметил он, обращаясь ко мне. – Главное, уясни себе хорошенько, что фактором, наиболее содействующим развитию военного искусства, являются сами войны. В течение кампании, если она сколько-нибудь продолжительна, одна из воюющих сторон сплошь и рядом пользуется уроками, которые ей дают успехи и промахи противника, совершенствует его методы, причем и противник, в свою очередь, не отстает. Но все это дело прошлое. Вместе с ужасающим прогрессом артиллерии будущие войны, если только они будут, окажутся настолько короткими, что, прежде чем воюющие стороны успеют извлечь из них урок, уже заключат мир.
– Не будь таким обидчивым, – сказал я Сен-Лу в ответ на то, что он говорил перед этими заключительными словами. – Я тебя слушал во все уши!
– Если ты обещаешь впредь не сердиться по пустякам и мне разрешишь, – сказал приятель Сен-Лу, – то я добавлю к сказанному тобой, что если сражения подражают друг другу и друг на друга накладываются, то происходит это не только вследствие планов военачальника. Может случиться, что какая-нибудь его ошибка (например, недооценка сил противника) заставляет его требовать от своих войск чрезмерных жертв, которые иначе части принесут с такой безграничной самоотверженностью, что роль их станет от того аналогичной роли такой-то другой части в таком-то другом сражении, и их будут приводить в истории в качестве равнозначных призеров. Если держаться в рамках тысяча восемьсот семидесятого года, то такими примерами будут: прусская гвардия у Сен-Прива, тюркосы у Фрешвилера и у Виссенбурга.
– Вот именно: равнозначных, – совершенно точно, великолепно! Ты умница, – воскликнул Сен-Лу.
Я не остался равнодушен к этим последним примерам, как вообще не был равнодушен, когда мне в частном вскрывали общее. Однако в данную минуту меня интересовал гений полководца, мне хотелось отдать себе отчет, в чем он заключается, как взялся бы за дело гениальный полководец, чтобы восстановить скомпрометированное положение в такой обстановке, в которой полководец бездарный не мог бы сопротивляться, что, по словам Сен-Лу, было вещью вполне возможной и делалось Наполеоном неоднократно. И, чтобы уяснить, что представляют собой военные способности, я просил сравнений между генералами, известными мне по именам, просил сказать, кто из них по своим качествам наиболее подходит для роли полководца, кто из них наилучший тактик, рискуя надоесть моим новым приятелям, которые, впрочем, не подавали и виду, что это им докучает, и отвечали мне с неиссякаемой добротой.
Я чувствовал себя огражденным (не только от простиравшейся кругом темной холодной ночи, из которой к нам время от времени доносился свисток поезда, лишь ярче оттенявший удовольствие находиться здесь, среди друзей, или бой часов, к счастью, еще далекий от той минуты, когда эти молодые люди должны будут снова надеть сабли и вернуться домой, но и от всех внешних забот, даже от воспоминаний о герцогине Германтской) добротой Сен-Лу, которой доброта его приятелей, с ней соединявшаяся, придавала как бы большую плотность, а также теплом этой маленькой столовой и изысканностью подававшихся нам кушаний. Они столько же тешили мое воображение, сколько ублажали мой желудок; иногда на них можно было видеть кусочки природы, из которой они были извлечены: шероховатую чашу устрицы с остававшимися на ней каплями соленой воды, узловатую ветку винограда с пожелтевшими листьями, – несъедобные, поэтичные и далекие, как пейзаж, вызывавшие в течение обеда представления о полуденном отдыхе под виноградным кустом и прогулке по морю. В другие вечера это природное своеобразие кушаний подчеркивалось только поваром, который выкладывал их на блюдо в естественном обрамлении, точно произведения искусства: так, вареная рыба подавалась на длинном фаянсовом блюде, где, рельефно выделяясь на пучках синеватых трав, нетронутая, но скрюченная, оттого что живой была брошена в кипяток, окруженная каймой раковин крохотных своих спутников: крабов, креветок и улиток, – она как будто являлась керамическим изделием Бернара Палисси[10 - Палисси, Бернар (1510–1590) – французский естествоиспытатель и художник-керамист.].
– Я ревную, я взбешен, – полушутливо-полусерьезно говорил мне Сен-Лу, намекая на бесконечные мои разговоры в сторонке с его приятелем. – Значит, вы находите его умнее меня? Значит, вы его любите больше меня? Значит, только он для вас и существует?
Мужчины, безумно влюбленные в какую-нибудь женщину и живущие в обществе мужчин, увлекающихся женщинами, позволяют себе шутки, на которые другие, считающие их не столь невинными, никогда бы не решились.
Когда разговор делался общим, приятели избегали заводить речь о Дрейфусе из боязни задеть Сен-Лу. Однако через неделю двое его товарищей обратили внимание на то, как странно, что, живя в военной среде, он является таким убежденным дрейфусаром, почти антимилитаристом. «Это оттого, – сказал я, не желая углубляться в подробности, – что влияние среды вовсе не имеет такого значения, как принято думать…» Я рассчитывал этим и ограничиться, не повторяя мыслей, которые я развивал Сен-Лу несколько дней назад. Все же, так как и эти слова были уже мной сказаны почти буквально, собирался извиниться, прибавив: «Это то самое, что несколько дней назад…» – но не учел оборотной стороны восхищения, с которым Робер относился ко мне и некоторым другим лицам. Это восхищение дополнялось таким основательным усвоением их мыслей, что через двое суток он забывал, что мысли эти не его. Таким образом, Сен-Лу счел своим долгом горячо меня приветствовать и поддержать мой скромный тезис с таким выражением, как если бы он всегда сидел у него в голове и я только охотился в его владениях.
– Ну да! Среда не имеет значения.
И продолжал с такой энергией, как будто опасался, что я его прерву или не пойму:
– Подлинное влияние оказывает среда интеллектуальная! Мы люди идеи.
Он остановился на мгновение с улыбкой человека, хорошо обдумавшего свои мысли, уронил монокль и вонзился в меня глазами, точно буравчиками.
– Все люди одной идеи одинаковы, – произнес он с вызывающим видом.
По всей вероятности, Сен-Лу совершенно забыл, что несколько дней назад я ему сказал эти самые слова, которые он так хорошо запомнил. Не все вечера приходил я в ресторан Сен-Лу в одинаковом расположении духа. Если какое-нибудь воспоминание, какое-нибудь огорчение способны нас покинуть, так что мы больше их не замечаем, то бывает, что они возвращаются и иногда долго с нами не расстаются. Случались вечера, когда, идя через город в ресторан, я до такой степени тосковал по герцогине Германтской, что у меня дух захватывало: казалось, будто часть моей грудной клетки вырезана искусным анатомом, удалена и заменена равной частью нематериального страдания, эквивалентом тоски и любви. Как бы ловко ни были пригнаны швы, нам очень не по себе, когда тоска по какому-нибудь существу заменила в нас внутренние органы; нам кажется, что она занимает больше места, чем эти органы, мы непрестанно ее ощущаем, и кроме того, какая тягостная раздвоенность быть вынужденным сознавать часть своего тела. Но, кажется, мы способны на большее. При малейшем ветерке тяжело вздыхаешь от стеснения в груди, а также от истомы. Я смотрел на небо и, если оно было чистое, говорил себе: «Может быть, она в деревне и смотрит на те же звезды». И, кто знает, вернувшись в ресторан, не услышу ли я от Робера: «Приятная весть: тетушка пишет, что хотела бы тебя видеть. Она приезжает сюда». Не только на небесный свод помещал я мысль о герцогине Германтской. Малейшее нежное дуновение, казалось, приносило мне весть о ней, как некогда о Жильберте среди волнующихся полей Мезеглиза: мы не меняемся, мы вкладываем в чувство, которое относим к какому-нибудь существу, множество уснувших элементов, им пробуждаемых, но ему чуждых. И кроме того, что-то такое в нас всегда старается привести эти частные чувства к более высокой истине, то есть связать их с чувством более общим, присущим всему человечеству, так что отдельные люди и страдания, ими причиняемые, служат нам только поводом приобщиться к нему. Если к муке моей примешивалось некоторое наслаждение, так это оттого, что я сознавал ее крохотной частицей вселенской любви. Конечно, узнавая, как мне казалось, в переживаемом мной страдании муки, которые я испытывал по поводу Жильберты или в те вечера, в Комбре, когда мама не оставалась в моей комнате, а также запомнившиеся мне некоторые страницы Бергота – страдании, с которым герцогиня Германтская, ее холодность, ее отсутствие, не были связаны так отчетливо, как причина связывается с действием в уме ученого, – я не заключал отсюда, что герцогиня не является этой причиной. Разве не бывает, что неопределенная физическая боль распространяется лучеобразно из больной части на соседние области, которые она, однако, покидает и окончательно рассеивается, если врач нащупывает точку, откуда она исходит? И все же перед этим ее протяжение придавало ей в наших глазах такую безграничность и фатальность, что, бессильные ее объяснить и даже локализовать, мы считали невозможным от нее вылечиться. Продолжая идти к ресторану, я думал: «Уже четырнадцать дней, как я не видел герцогини Германтской». Четырнадцать дней казались огромным сроком, конечно, лишь мне, потому что, когда дело касалось герцогини Германтской, я считал время минутами. Для меня не только звезды и ветерок, но даже арифметические деления времени приобретали нечто мучительное и поэтическое. Каждый день был подобен теперь подвижному гребню текучего холма: по одной стороне его я мог, чувствовал я, спуститься в забвение, а по другой меня уносила потребность увидеться вновь с герцогиней. И я переваливался с одной стороны на другую, лишенный устойчивого равновесия. Однажды я подумал: «Может быть, сегодня вечером будет письмо», – и, придя обедать, набрался храбрости и спросил Сен-Лу:
– Не получил ли ты, случайно, известий из Парижа?
– Получил, – мрачно ответил он, – скверные известия.
Я вздохнул с облегчением, поняв, что огорчения касались только моего друга и что известия были от его любовницы, но тотчас сообразил, что они первым делом надолго помешают Роберу свести меня к своей тетке.
Я узнал, что между ним и его любовницей разыгралась ссора – в письмах или же во время ее кратковременного посещения Робера от поезда до поезда. А все ссоры, даже менее серьезные, какие у них бывали до сих пор, казались непоправимыми, ибо она бывала не в духе, топала ногами, плакала по столь же непонятным причинам, как дети, которые забираются в чулан, не приходят к обеду, отказываясь от всяких объяснений, и только громче ревут, когда, исчерпав все доводы, им дают шлепка. Сен-Лу ужасно страдал от этой размолвки, но сказать так – значит, слишком упростить дело и тем исказить правильное представление об этом страдании. Когда он очутился один и ему не оставалось больше ничего, как только думать о своей любовнице, уехавшей с чувством уважения к нему, которым она прониклась, видя его таким энергичным, то его терзаниям в первые часы после разлуки положила конец мысль о непоправимости происшедшего, а прекращение тревоги – вещь настолько отрадная, что эта решительная ссора приобрела в его глазах в некоторой степени ту же прелесть, какую имело бы примирение. То, от чего он начал страдать немного позже, были, так сказать, вторичные тягостные чувства, непрестанно притекавшие из него самого при мысли, что она, может быть, искренне хотела бы примириться, что нет ничего невозможного, что она ждала только слова от него, что в ожидании она в отместку сделает, может быть, в такой-то вечер, в таком-то месте такую-то вещь, и что для того, чтобы ее удержать, ему стоило бы только ей телеграфировать о своем приезде, что, может быть, другие пользуются упускаемым им временем и что через несколько дней будет уже слишком поздно обращаться к ней, потому что она будет уже занята. О всех этих возможностях он ничего не знал, его любовница хранила молчание, которое, в конце концов, довело его до такого исступления, что он начал спрашивать себя, не скрывается ли она где-нибудь в Донсьере или не уехала ли в Индию.
Говорят, что молчание – сила; в совсем другом смысле оно – страшная сила, находясь в распоряжении тех, кого мы любим. Оно увеличивает тревогу любовника, который ждет. Ничто так не манит приблизиться к какому-нибудь существу, как то, что нас с ним разлучает, а есть ли более непреодолимая преграда, чем молчание? Говорят также, что молчание – пытка, и что оно способно помутить рассудок у того, кто бывает обречен на него в тюрьмах. Но какая пытка – куда более сильная, чем хранить молчание, – сносить его от человека, которого любишь! Робер говорил себе: «Что же она делает, почему так молчит?» Он говорил также: «Что же я сделал, что она так молчит? Она, может быть, меня возненавидела, и навсегда». И он винил себя. Таким образом, молчание действительно мутило его рассудок благодаря ревности и угрызениям совести. Кроме того, более жестокое, чем молчание тюрем, молчание это само является тюрьмой. Промежуточный слой пустоты, непроницаемый, однако, для взоров покинутого, стоит перед ним не вещественной, правда, но непреодолимой стеной. Нет более ужасного освещения, чем молчание, которое нам показывает не одну отсутствующую, но тысячи, и каждая из них совершает измену по-своему. Иногда, в минуту внезапного успокоения, Робер считал, что это молчание сейчас нарушится и что придет долгожданное письмо. Он его видел, оно было в пути, он прислушивался к каждому шуму, он был уже утолен, он бормотал: «Письмо! Письмо!» – но воображаемый оазис нежности, мелькнув, исчезал, и он снова беспомощно брел по незыблемой пустыне бесконечного молчания.
Он заранее переживал все без исключения виды мучительного разрыва, хотя временами считал, что разрыва можно избежать, подобно тем людям, которые приводят в порядок все свои дела, готовясь к мнимому переселению, и мысль которых, не знающая, где ей придется остановиться на другой день, в иные мгновения мечется, отделившись от них, подобно изъятому сердцу больного, которое продолжает биться, оторванное от остального тела. Во всяком случае, надежда, что любовница вернется, давала ему силы мужественно переносить разрыв, вроде того как надежда, что удастся вернуться живым с поля сражения, помогает солдату безбоязненно встретить смерть. И так как привычка из всех человеческих растений меньше всего нуждается в питающей почве для того, чтобы жить, и первой показывается на самой голой с виду скале, то, может быть, переживая заранее притворную разлуку, он в заключение искренно свыкся бы с ней. Но неизвестность поддерживала в нем состояние, которое, будучи связано с воспоминанием об этой женщине, походило на любовь. Он принуждал себя, однако, не писать ей, думая, может быть, что при некоторых условиях менее мучительно жить без любовницы, чем вместе с нею, и что после сцены их разлуки необходимо подождать ее извинений, так как иначе она не сохранила бы к нему того, что он считал если не любовью, то по крайней мере хорошим мнением и уважением. Он ограничивался тем, что ходил на телефон, который только что провели в Донсьере, и спрашивал новости или давал предписания горничной, которую приставил к своей приятельнице. Эти переговоры были, однако, делом довольно сложным и отнимали у него много времени, потому что, сообразуясь с мнением своих литературных друзей, считавших столицу безобразной, но особенно ради своих животных: собак, обезьян, канареек и попугая, непрестанный крик которых сделался невыносимым хозяину ее парижского дома, – любовница Робера незадолго перед этим сняла небольшую усадьбу в окрестностях Версаля. Теперь Сен-Лу в Донсьере ни минуты не спал по ночам. Однажды, сидя у меня, он немного вздремнул, сраженный усталостью, но вдруг заговорил, хотел бежать, хотел чему-то воспрепятствовать: «Я слышу, вы не… вы не…» – и проснулся. Он объяснил мне, что только что ему снилось, будто он в деревне у вахмистра. Этот вахмистр старался не допустить его к одной части дома. Сен-Лу догадался, что вахмистр скрывает у себя очень богатого и очень развратного лейтенанта, который, как ему было известно, усердно добивался благосклонности его приятельницы. И вдруг он во сне явственно услышал повторяющиеся через правильные промежутки крики, какие обыкновенно испускала его любовница в минуты сладострастия. Он хотел силою заставить вахмистра провести его в эту комнату, но тот удерживал Робера, не давая ему войти, с укоризненным видом, которого Робер, по его словам, никогда не мог бы забыть.
– Дурацкий сон, – закончил он свой рассказ, все еще не в силах отдышаться.
Но я отлично видел, что в течение часа после этого он несколько раз порывался телефонировать любовнице, чтобы попросить ее помириться. Недавно завел телефон мой отец, но не знаю, могло ли это принести какую-нибудь пользу Сен-Лу. К тому же мне казалось не очень удобным поручать моим родителям или даже аппарату, поставленному у них, посредническую роль между Сен-Лу и его любовницей, несмотря на всю изысканность и благородство ее чувств. Кошмар, душивший Сен-Лу, понемногу изгладился из его сознания. С рассеянным и неподвижным взором он заходил ко мне все эти ужасные дни, которые, следуя один за другим, начертали для меня великолепную дугу вроде грубо сколоченной рампы, откуда Робер не переставая спрашивал себя, какое решение собирается принять его приятельница.
Наконец, она обратилась к Сен-Лу с вопросом, согласится ли он ее простить. Поняв, что разрыва удалось избежать, он тотчас увидел все неудобные стороны примирения. К тому же он страдал теперь меньше и почти примирился со своим горем, которое при возобновлении связи грозило через несколько месяцев снова обостриться. Он недолго колебался, а если вообще колебался, то лишь потому, что получил наконец уверенность, что может вернуть свою любовницу, – может вернуть, а следовательно, и вернет. Но она его просила пощадить ее покой и не приезжать в Париж первого января. А у Сен-Лу недоставало мужества, будучи в Париже, не повидать ее. Зато она соглашалась поехать с ним в путешествие, но для этого ему надобен был продолжительный отпуск, которого капитан, князь Бородинский, не хотел ему давать.
– Мне очень досадно, так как из-за этого откладывается наш визит к моей тетушке. Но я непременно приеду в Париж на Пасху.
– В это время мы не сможем пойти к герцогине Германтской, потому что я буду уже в Бальбеке. Но это не имеет решительно никакого значения.
– В Бальбеке? Но ведь вы ездили туда только в августе.
– Да, но в этом году по состоянию здоровья мне придется поехать раньше.
Больше всего он боялся, чтобы после его рассказов у меня не составилось плохого суждения о его любовнице. «Она несдержанна только потому, что слишком прямодушна, слишком во власти своих чувств. Но это женщина возвышенная. Ты не можешь себе представить, какая поэтическая у ней душа. Ежегодно она проводит День поминовения всех усопших в Брюгге. Это хорошо, не правда ли? Если когда-нибудь с ней познакомишься, ты увидишь, какое благородство…» И так как Сен-Лу пропитан был языком, которым говорили возле этой женщины в литературных кругах, то он закончил: «В ней есть нечто астральное, нечто пророческое. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Нечто от поэта, который является почти жрецом».
В продолжение всего обеда я искал предлога, который позволил бы Сен-Лу попросить тетку принять меня, не дожидаясь его приезда в Париж. Такой предлог я наконец нашел: то было мое желание вновь посмотреть картины Эльстира, великого художника, с которым мы с Сен-Лу познакомились в Бальбеке. Желание это к тому же было искреннее, ибо если во время моих посещений Эльстира я требовал от его живописи научить меня любви и пониманию вещей лучших, чем сама она: настоящей оттепели, подлинной провинциальной рыночной площади, живых женщин на пляже (самое большее, я бы заказал ему портрет реальностей, которые не умел углубить: например, дороги, обсаженной боярышником, – не с тем, чтобы он сохранил для меня их красоту, а с тем, чтобы открыл ее мне), то теперь, напротив, желание мое возбуждала оригинальность, прелесть его картин, и больше всего я хотел увидеть другие картины Эльстира.
Мне казалось вдобавок, что самые ничтожные его картины были чем-то непохожим на шедевры даже прославленных художников. Произведения его составляли как бы замкнутое царство с непереходимыми границами, не имеющее себе равных. Жадно коллекционируя редкие журналы, в которых печатались статьи о нем, я узнал из них, что он начал лишь недавно писать пейзажи и натюрморты, а дебютировал мифологическими картинами (фотографии двух таких картин я видел в его мастерской), после чего долгое время был под впечатлением японского искусства.
Некоторые самые характерные произведения его различных манер находились в провинции. Какой-нибудь дом в Андели, хранивший один из лучших его пейзажей, казался мне столь же драгоценным, внушал столь же живое желание путешествовать, как та мельница в окрестностях Шартра, в жерновой камень которой вправлен знаменитый витраж. И к владельцу этого шедевра, к этому человеку, который, запершись, как астролог, в глубине своего неуклюжего дома на главной улице, вопрошал это зеркало мира – картину Эльстира, купленную им, может быть, за несколько тысяч франков, – я чувствовал себя влекомым той симпатией, что объединяет – вплоть до сердец, до характеров – людей, мыслящих одинаково с нами по какому-нибудь существенному вопросу. Между тем три значительных произведения моего любимого художника значились в одном из этих журналов собственностью герцогини Германтской. Таким образом, в тот вечер, когда Сен-Лу сообщил мне о поездке своей приятельницы в Брюгге, я мог в общем искренно бросить ему, как бы невзначай, за обедом, в присутствии его друзей:
– Да, относительно последней нашей беседы по поводу дамы, о которой мы говорили. Ты помнишь Эльстира, художника, с которым я познакомился в Бальбеке?
– Ну разумеется.
– Ты помнишь мое восхищение им?
– Отлично помню, помню и письмо, которое мы велели ему передать.
– Так вот, одна из причин, отнюдь не самая важная, причина довольно второстепенная, по которой я желал бы познакомиться с упомянутой дамой, ты знаешь, конечно, какая.
– Боже, какое предисловие!
– Причина в том, что у нее есть по крайней мере одна прекрасная картина Эльстира.
– Вот как! Я не знал.
– Эльстир будет, вероятно, в Бальбеке на Пасху: вы знаете, что он проводит теперь почти весь год на этом побережье. Мне бы очень хотелось посмотреть его картину до отъезда. Не знаю, в достаточно ли коротких отношениях вы с вашей теткой: вы не могли бы, представив ей вашего покорного слугу в достаточно выгодном свете, чтобы она не отказала, попросить у нее для меня разрешения посмотреть картину Эльстира без вас, если вы не приедете?
– Разумеется, я ручаюсь за нее, берусь вам это устроить.
– Робер, как я вас люблю.
– Это очень мило, но хорошо было бы также, если бы вы мне говорили «ты», как вы обещали и как ты начал было говорить.