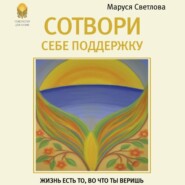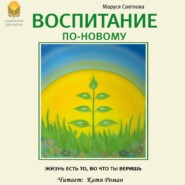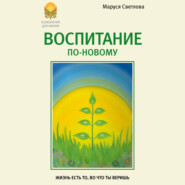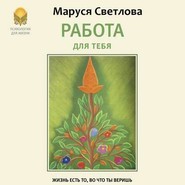По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фотографии 10 на 15… (сборник)
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Светлана сдалась и сказала слабо:
– Ну, я бы написала: «Я не могу забыть тебя…»
В полной тишине – женщины внимательно слушали ее тихий голос.
– Я помню наши встречи… – продолжила Света, почему-то волнуясь, словно действительно писала вслух это письмо любимому своему парню, которого у нее и в помине еще не было. – Я помню твой взгляд, когда ты смотрел на меня – и между нами было что-то волшебное… Я помню твои руки, твои нежные руки, когда ты прикасался ко мне… Я не могу забыть твои слова…
– Я не могу забыть твой член! – в Светланиной интонации, но громко, и оттого неожиданно сказала женщина, попросившая ее написать письмо, и все взорвались хохотом.
– Я не могу забыть твой поцелуй… – продолжила Света тихо, зардевшись, сделала вид, что не услышала этой циничной фразы.
И в ответ – раздалось громкое:
– Ха-ха, ему не до поцелуев, ему бы вставить скорее…
И – шквалом – хохот.
– Я помню твои слова, которые ты мне сказал на прощанье… – Упрямо, продолжала Света, словно не слыша ни хохота этого, ни резкого, громкого голоса этой страшной в цинизме своем женщины:
– Чего ему говорить? Он свое получил! Кобелина еще тот – по заднице рукой шарахнул и пошел к своей – лапшу на уши вешать, как соседа встретил и заговорился, не заметил, что время позднее… Умеет он это делать – врет и не краснеет…
– Да, девки, не тому вас в университетах учат! – сказала одна из женщин и добавила, дурашливо коверкая интонацию:
– Я не могу забыть твои слова…
– Я не могу забыть, как мы трахались в кустах под балконом! – выкрикнул кто-то, и все заржали, захохотали.
И хохот этот, и слова эти жуткие, циничные, жестокие для них, девочек чистых, словно подкинули их с места. Они вскочили и быстро вышли из комнаты, из здания и молча, словно стыдно им было даже говорить об этом, – пошли на аллее на свое привычное место, сели под березой и сидели молча, друг на друга не глядя.
А когда все же посмотрели друг другу в лицо – не сговариваясь головами покачали, и этим все было сказано – как же можно так?! Ведь нельзя же так?!
Каждая, сидя рядом с подругой, думала об одном: так не должно быть, так нельзя! Так – нельзя!
И думала та чистая, светлая и наивная девочка, какой Светлана была тогда, что никогда-никогда она так ни говорить, ни думать, ни делать не будет! Никогда! Что у нее совсем другая будет жизнь. Что у нее обязательно будет любовь настоящая, чистая, как в хорошем кино.
И так сильно в ней сейчас было это воспоминание, что она села в постели и даже головой замотала. Так не должно быть – не должно быть в жизни пошлости и цинизма и того страшного, что было в женщинах этих, – словно они лишены были чего-то святого, чистого, что должно быть в женщине обязательно, обязательно-обязательно, без чего женщина – не женщина. И она опять головой замотала, даже не умом понимая, а чувствуя, что сама уже этого давно лишилась, и подруга ее тоже. Что сами они стали похожи на тех теток, с их прагматизмом, бесчувственностью и холодным цинизмом – в том, в чем действительно нужна святость и чистота. И она опять головой замотала и вслух произнесла:
– Как? Где? Когда я потеряла все это? Где и когда я перестала верить, как девочка моя – светлая, которая жила во мне?
И опять – словно фильм наблюдая, сидела в постели и смотрела в темноту, словно перед ней, как на экране, показывали жизнь той девочки из фильма, которая верила во все самое лучшее, ждала любви, которая, когда придет, будет такой вот – высокой, верной, чистой, от которой сердце будет замирать и дыхания не хватать и которая – навсегда!
И образ этот, видимый только ей одной, стал растворяться, гаснуть, пропадать. Она перенеслась в реальность, где сидела в постели взрослая женщина, тяжелая, плотная, с недоверчивым взглядом на все, с ожиданием подвоха, расчетливым умом и холодным сердцем.
И мысль эта – о холодном сердце – словно опять встряхнула ее: ей вдруг действительно показалось, что сердце за жизнь остыло, похолодело, замерло, не участвовало в ее жизни, только стучало, как бездушный механизм, не давая ни тепла, ни надежд, ни веры во что-то, во что еще верить надо было.
Она опять с тоской подумала: «Как? Когда? Почему произошло это?» Как из девочки, миру открытой и верой наполненной – такая вот бесчувственная баба получилась, которая с подругой – такой же, как она, всю свою детскость, веру и чистоту потерявшей, – вот так же сидят и мужиков, романы свои неудачные обсуждают, в той же интонации, что тетки те из ее детства – страшные. Разве что без мата обходятся, считая себя интеллигентными женщинами с университетским образованием.
И подумала сокрушенно: незаметно это как-то происходило. Сначала в этом городе ей очень хотелось остаться, чтобы быть здесь, ходить по музеям, жить в его атмосфере – в этом прекрасном кино. Потом появился Павел, хоть и не по душе он ей был сначала. Но Наташка, боевая, более практичная, не раз сказала мечтательно:
– Повезло тебе – можешь за него замуж выйти и здесь остаться.
И мысль эта так ее захватила, так хотелось ей продолжать жить в этом прекрасном фильме, что она на Павла согласилась, что-то предав в себе – сейчас она это ясно понимала.
И как-то незаметно начались согласия, уступки, предательства – самой себя. Сама не замечала, как верить переставала, как чистоту свою теряла, как самой собой быть перестала. И все чаще они с Наташкой, тоже зацепившейся за одного парня – нелюбимого, но, как подруга говорила, подающего надежды, – сидели и обсуждали мужиков своих, надежды эти не оправдавших, и себя – несправедливо обиженных. Так незаметно и происходила подмена эта – девочек чистых, в любовь свято верящих, в необыкновенный свой сценарий фильма, в котором жить они будут, – в рядовых, обычных теток, на женщин уже мало похожих, живущих одним умом, да просчитывающих каждый свой шаг.
– Кончилось кино, – сказала она в тишине ночи и заплакала вдруг, неожиданно для самой. И плакала, тихо носом шмыгая, как в детстве, над фильмом своим, закончившимся так незаметно. Над разрушенными собой же мечтами. Над всей своей жизнью – вроде даже успешной, в которой не хватало только самого главного – ее самой в первозданной своей чистоте и вере.
«Так не должно быть, – она даже плакать прекратила. – Не должно на этом кино заканчиваться. Нельзя с этим соглашаться. Ведь, если согласиться с этим, то зачем дальше жить – в холодной этой жизни, в которой сердца нет, и веры нет, и любви нет?
Светлана почему-то в сторону Машкиной комнаты посмотрела – как будто сейчас опять ей стыдно стало, как тогда, когда она девочкой этой чистой была. Только сейчас стыдно было за себя – черствую, циничную. И подумала она с тихим ужасом, что ее такую к дочке вообще подпускать нельзя – она только все испачкать может… На мгновение ее даже ужас охватил: она ведь теперь сама стала такой, как женщины те, которые так холодно и цинично над каждым словом ее «любовного» письма смеялись.
И вспомнила, как уговаривала Машку выйти замуж за сына своего начальника, а та заупрямилась, возмутилась:
– Мам, ну как ты можешь мне такое предлагать?! – и, заплакав, убежала в свою комнату, громко хлопнув дверью, чего никогда раньше не делала.
А она, Светлана, все пыталась объяснить дочери, что надо соглашаться, что такие предложения два раза не поступают и что это всем будет выгодно: и дочке хорошо будет замужем за сынком такого папаши, и матери хорошо – она по службе продвинуться сможет, будет спокойна за свое будущее.
Но дочь даже говорить на эту тему отказывалась. Молча отворачивалась, уходила к себе и в комнате закрывалась. А она, Светлана, злилась, думала гневно: «Начиталась книжек, романов всяких – любовь ей подавай великую! А надолго эта любовь-то?!»
И говорила раздраженно, но высокомерно – как ей казалось, с позиции своего жизненного опыта:
– Любовь любовью, дорогая, а кушать хочется всегда, и хочется хорошо кушать. А ты в таком браке будешь как сыр в масле кататься. И что тебя не устраивает? Что он старше тебя? Так это некритично – всего-то на десяток лет, не за старика же идешь! Что не писаный красавец? Так с лица, как известно, воду не пить.
«А она ведь, как я от предложения актера этого – то же самое почувствовала… Ту же гадливость, испачканность, – подумала вдруг Светлана. И похолодела даже: – Да как же я могла ТАКОЕ родной дочери предложить, как актер этот испорченный?!»
И вскочила с постели, словно это неожиданное осознание вытолкнуло ее. Набросив халат, пошла к Машке – прощения у нее просить? Каяться? Сама не знала, что делать будет. Знала сейчас только одно: так, как делала раньше, делать не станет. В такой жизни, как жила, жить больше не хочет. И такой, как была еще недавно, не будет…
…Она стояла перед комнатой Машки, за которой чистый ее ребенок спал.
И так понятна сейчас была ей Машка – ее ожидания счастливой любви, ее чистота, вера и несогласие со всем, – словно не Машка была там, за дверью, а она сама, Света.
И подумала она, что беречь надо чистоту эту детскую, дорожить ею – только так можно свою жизнь сложить, свой фильм прожить – в какой веришь, какой хочешь… И вслух произнесла – тихо, с нежностью:
– Ничего, детка, все будет хорошо… Я тебе помогу в этой жизни держаться… Я – та девочка из фильма – тебе помогу, чтобы ты не стала такой, какими те женщины были… Какой я сама стала…
И подумала вдруг: «Да чем же я Машке моей – чистой, верящей – помочь могу? Это она мне помочь может – чистотой своей».
Приложив ухо к двери, за которой дочь ее спала, словно желая расслышать ее дыхание, Светлана подумала умиротворенно: «Нас теперь двое… Будем друг другу помогать. Как две девочки из фильма, который только сниматься будет… – И улыбнулась мягкой, давно уже ей не свойственной улыбкой: – Будем, детка, новое кино снимать…»
И, пошла, спокойная, спать в свою комнату…
Медвежонок в Пути
У нее было что предъявить родителям, и список ее претензий, обид был немал.
Папа ее был человеком со сложным характером, изводившим семью своими диктаторскими замашками. Мама была жертвой, заглядывающей ему в глаза, находившей утешение в работе, на которую она уходила на целый день. Бабушка была запуганным жизнью существом со всеми мыслимыми и немыслимыми страхами – от подготовки к следующей неминуемой беде (складывая обмылок в банку, не выбрасывая старые вещи – вдруг на черный день пригодятся) до: «Ты зачем в гостях столько ела – люди скажут, тебя дома не кормят!»
«Ну и семейка!.. – не раз думала она. – В них столько всякого «добра» намешано было, а я в «добре» этом жила…»
– Ну, я бы написала: «Я не могу забыть тебя…»
В полной тишине – женщины внимательно слушали ее тихий голос.
– Я помню наши встречи… – продолжила Света, почему-то волнуясь, словно действительно писала вслух это письмо любимому своему парню, которого у нее и в помине еще не было. – Я помню твой взгляд, когда ты смотрел на меня – и между нами было что-то волшебное… Я помню твои руки, твои нежные руки, когда ты прикасался ко мне… Я не могу забыть твои слова…
– Я не могу забыть твой член! – в Светланиной интонации, но громко, и оттого неожиданно сказала женщина, попросившая ее написать письмо, и все взорвались хохотом.
– Я не могу забыть твой поцелуй… – продолжила Света тихо, зардевшись, сделала вид, что не услышала этой циничной фразы.
И в ответ – раздалось громкое:
– Ха-ха, ему не до поцелуев, ему бы вставить скорее…
И – шквалом – хохот.
– Я помню твои слова, которые ты мне сказал на прощанье… – Упрямо, продолжала Света, словно не слыша ни хохота этого, ни резкого, громкого голоса этой страшной в цинизме своем женщины:
– Чего ему говорить? Он свое получил! Кобелина еще тот – по заднице рукой шарахнул и пошел к своей – лапшу на уши вешать, как соседа встретил и заговорился, не заметил, что время позднее… Умеет он это делать – врет и не краснеет…
– Да, девки, не тому вас в университетах учат! – сказала одна из женщин и добавила, дурашливо коверкая интонацию:
– Я не могу забыть твои слова…
– Я не могу забыть, как мы трахались в кустах под балконом! – выкрикнул кто-то, и все заржали, захохотали.
И хохот этот, и слова эти жуткие, циничные, жестокие для них, девочек чистых, словно подкинули их с места. Они вскочили и быстро вышли из комнаты, из здания и молча, словно стыдно им было даже говорить об этом, – пошли на аллее на свое привычное место, сели под березой и сидели молча, друг на друга не глядя.
А когда все же посмотрели друг другу в лицо – не сговариваясь головами покачали, и этим все было сказано – как же можно так?! Ведь нельзя же так?!
Каждая, сидя рядом с подругой, думала об одном: так не должно быть, так нельзя! Так – нельзя!
И думала та чистая, светлая и наивная девочка, какой Светлана была тогда, что никогда-никогда она так ни говорить, ни думать, ни делать не будет! Никогда! Что у нее совсем другая будет жизнь. Что у нее обязательно будет любовь настоящая, чистая, как в хорошем кино.
И так сильно в ней сейчас было это воспоминание, что она села в постели и даже головой замотала. Так не должно быть – не должно быть в жизни пошлости и цинизма и того страшного, что было в женщинах этих, – словно они лишены были чего-то святого, чистого, что должно быть в женщине обязательно, обязательно-обязательно, без чего женщина – не женщина. И она опять головой замотала, даже не умом понимая, а чувствуя, что сама уже этого давно лишилась, и подруга ее тоже. Что сами они стали похожи на тех теток, с их прагматизмом, бесчувственностью и холодным цинизмом – в том, в чем действительно нужна святость и чистота. И она опять головой замотала и вслух произнесла:
– Как? Где? Когда я потеряла все это? Где и когда я перестала верить, как девочка моя – светлая, которая жила во мне?
И опять – словно фильм наблюдая, сидела в постели и смотрела в темноту, словно перед ней, как на экране, показывали жизнь той девочки из фильма, которая верила во все самое лучшее, ждала любви, которая, когда придет, будет такой вот – высокой, верной, чистой, от которой сердце будет замирать и дыхания не хватать и которая – навсегда!
И образ этот, видимый только ей одной, стал растворяться, гаснуть, пропадать. Она перенеслась в реальность, где сидела в постели взрослая женщина, тяжелая, плотная, с недоверчивым взглядом на все, с ожиданием подвоха, расчетливым умом и холодным сердцем.
И мысль эта – о холодном сердце – словно опять встряхнула ее: ей вдруг действительно показалось, что сердце за жизнь остыло, похолодело, замерло, не участвовало в ее жизни, только стучало, как бездушный механизм, не давая ни тепла, ни надежд, ни веры во что-то, во что еще верить надо было.
Она опять с тоской подумала: «Как? Когда? Почему произошло это?» Как из девочки, миру открытой и верой наполненной – такая вот бесчувственная баба получилась, которая с подругой – такой же, как она, всю свою детскость, веру и чистоту потерявшей, – вот так же сидят и мужиков, романы свои неудачные обсуждают, в той же интонации, что тетки те из ее детства – страшные. Разве что без мата обходятся, считая себя интеллигентными женщинами с университетским образованием.
И подумала сокрушенно: незаметно это как-то происходило. Сначала в этом городе ей очень хотелось остаться, чтобы быть здесь, ходить по музеям, жить в его атмосфере – в этом прекрасном кино. Потом появился Павел, хоть и не по душе он ей был сначала. Но Наташка, боевая, более практичная, не раз сказала мечтательно:
– Повезло тебе – можешь за него замуж выйти и здесь остаться.
И мысль эта так ее захватила, так хотелось ей продолжать жить в этом прекрасном фильме, что она на Павла согласилась, что-то предав в себе – сейчас она это ясно понимала.
И как-то незаметно начались согласия, уступки, предательства – самой себя. Сама не замечала, как верить переставала, как чистоту свою теряла, как самой собой быть перестала. И все чаще они с Наташкой, тоже зацепившейся за одного парня – нелюбимого, но, как подруга говорила, подающего надежды, – сидели и обсуждали мужиков своих, надежды эти не оправдавших, и себя – несправедливо обиженных. Так незаметно и происходила подмена эта – девочек чистых, в любовь свято верящих, в необыкновенный свой сценарий фильма, в котором жить они будут, – в рядовых, обычных теток, на женщин уже мало похожих, живущих одним умом, да просчитывающих каждый свой шаг.
– Кончилось кино, – сказала она в тишине ночи и заплакала вдруг, неожиданно для самой. И плакала, тихо носом шмыгая, как в детстве, над фильмом своим, закончившимся так незаметно. Над разрушенными собой же мечтами. Над всей своей жизнью – вроде даже успешной, в которой не хватало только самого главного – ее самой в первозданной своей чистоте и вере.
«Так не должно быть, – она даже плакать прекратила. – Не должно на этом кино заканчиваться. Нельзя с этим соглашаться. Ведь, если согласиться с этим, то зачем дальше жить – в холодной этой жизни, в которой сердца нет, и веры нет, и любви нет?
Светлана почему-то в сторону Машкиной комнаты посмотрела – как будто сейчас опять ей стыдно стало, как тогда, когда она девочкой этой чистой была. Только сейчас стыдно было за себя – черствую, циничную. И подумала она с тихим ужасом, что ее такую к дочке вообще подпускать нельзя – она только все испачкать может… На мгновение ее даже ужас охватил: она ведь теперь сама стала такой, как женщины те, которые так холодно и цинично над каждым словом ее «любовного» письма смеялись.
И вспомнила, как уговаривала Машку выйти замуж за сына своего начальника, а та заупрямилась, возмутилась:
– Мам, ну как ты можешь мне такое предлагать?! – и, заплакав, убежала в свою комнату, громко хлопнув дверью, чего никогда раньше не делала.
А она, Светлана, все пыталась объяснить дочери, что надо соглашаться, что такие предложения два раза не поступают и что это всем будет выгодно: и дочке хорошо будет замужем за сынком такого папаши, и матери хорошо – она по службе продвинуться сможет, будет спокойна за свое будущее.
Но дочь даже говорить на эту тему отказывалась. Молча отворачивалась, уходила к себе и в комнате закрывалась. А она, Светлана, злилась, думала гневно: «Начиталась книжек, романов всяких – любовь ей подавай великую! А надолго эта любовь-то?!»
И говорила раздраженно, но высокомерно – как ей казалось, с позиции своего жизненного опыта:
– Любовь любовью, дорогая, а кушать хочется всегда, и хочется хорошо кушать. А ты в таком браке будешь как сыр в масле кататься. И что тебя не устраивает? Что он старше тебя? Так это некритично – всего-то на десяток лет, не за старика же идешь! Что не писаный красавец? Так с лица, как известно, воду не пить.
«А она ведь, как я от предложения актера этого – то же самое почувствовала… Ту же гадливость, испачканность, – подумала вдруг Светлана. И похолодела даже: – Да как же я могла ТАКОЕ родной дочери предложить, как актер этот испорченный?!»
И вскочила с постели, словно это неожиданное осознание вытолкнуло ее. Набросив халат, пошла к Машке – прощения у нее просить? Каяться? Сама не знала, что делать будет. Знала сейчас только одно: так, как делала раньше, делать не станет. В такой жизни, как жила, жить больше не хочет. И такой, как была еще недавно, не будет…
…Она стояла перед комнатой Машки, за которой чистый ее ребенок спал.
И так понятна сейчас была ей Машка – ее ожидания счастливой любви, ее чистота, вера и несогласие со всем, – словно не Машка была там, за дверью, а она сама, Света.
И подумала она, что беречь надо чистоту эту детскую, дорожить ею – только так можно свою жизнь сложить, свой фильм прожить – в какой веришь, какой хочешь… И вслух произнесла – тихо, с нежностью:
– Ничего, детка, все будет хорошо… Я тебе помогу в этой жизни держаться… Я – та девочка из фильма – тебе помогу, чтобы ты не стала такой, какими те женщины были… Какой я сама стала…
И подумала вдруг: «Да чем же я Машке моей – чистой, верящей – помочь могу? Это она мне помочь может – чистотой своей».
Приложив ухо к двери, за которой дочь ее спала, словно желая расслышать ее дыхание, Светлана подумала умиротворенно: «Нас теперь двое… Будем друг другу помогать. Как две девочки из фильма, который только сниматься будет… – И улыбнулась мягкой, давно уже ей не свойственной улыбкой: – Будем, детка, новое кино снимать…»
И, пошла, спокойная, спать в свою комнату…
Медвежонок в Пути
У нее было что предъявить родителям, и список ее претензий, обид был немал.
Папа ее был человеком со сложным характером, изводившим семью своими диктаторскими замашками. Мама была жертвой, заглядывающей ему в глаза, находившей утешение в работе, на которую она уходила на целый день. Бабушка была запуганным жизнью существом со всеми мыслимыми и немыслимыми страхами – от подготовки к следующей неминуемой беде (складывая обмылок в банку, не выбрасывая старые вещи – вдруг на черный день пригодятся) до: «Ты зачем в гостях столько ела – люди скажут, тебя дома не кормят!»
«Ну и семейка!.. – не раз думала она. – В них столько всякого «добра» намешано было, а я в «добре» этом жила…»