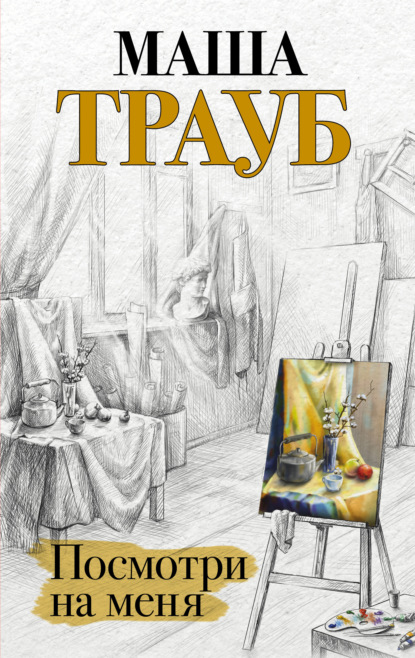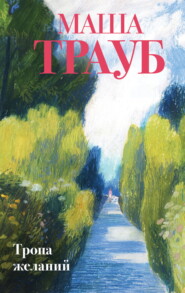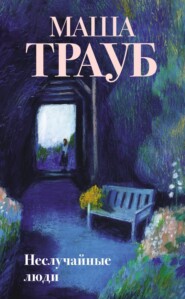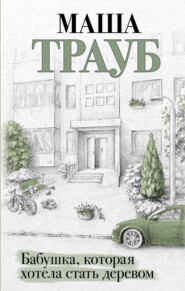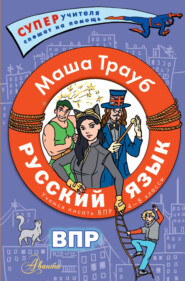По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Посмотри на меня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Виталий помнил, как украдкой сделал набросок – Инга стояла к нему спиной, курила в форточку. Неожиданно долго, почти не двигаясь. Он схватил карандаш, кусок бумаги и попытался зафиксировать тот момент. Инга обернулась, когда он дошел до ступней. Самого главного. Для него значимого. Сколько раз он себя проклинал, что не начал со ступней, с пола? Тогда бы Инга обрела устойчивость, а не висела в воздухе. Конечно, он мог дописать позже, ничего сложного, два штриха. Но для него момент ушел. Инга сделалась призраком. Тот набросок, самый первый, так и остался лучшим. Все остальные он сравнивал с ним, но больше ни разу не удалось поймать ни тот свет, ни тени, ни Ингу. Ее напряженную спину, вскинутый подбородок, когда она выпускала дым. Пальцы, державшие сигарету. Инга красиво курила. Всегда. Виталий, не реагировавший на березу и тополя, задыхался от табачного дыма. Не мог дышать. Глаза начинали слезиться.
– Не кури, пожалуйста, – просил он.
– Я хочу, – отвечала спокойно она, пошире открывая форточку.
– Зачем ты куришь?
– Мне это нравится. У меня не так много пороков, вредных привычек. Курение я могу себе позволить. И бросать не собираюсь. Не проси.
Виталий больше не просил. Точнее, просил, чтобы она еще раз встала к окну и курила так, как в тот день. Но все было иначе. Не так.
– Подожди, еще пять минут, можешь еще одну сигарету выкурить? – умолял он.
– Нет, не могу. У меня уже дым из ушей идет, – отвечала Инга. – Могу изобразить. – Она делала вид, что курит.
– Нет. Это подделка. Ты ненастоящая. Это видно, – сердился Виталий.
– Тогда переключись на что-то другое, – хмыкала Инга.
И он переключился. На ее ступни, пальцы, ключицы, бедренные кости, икры, ахилловы сухожилия. Они были неидеальными, но он не мог оторвать от них взгляд. Слишком высокий подъем. Стопа, будто сломанная. Инга никогда не стояла на полной стопе – или выламывала ступню, или поджимала пальцы. Ему становилось нехорошо. Он боялся, что она сейчас переломает себе все пальцы. У нее были «иксовые» ноги, как говорят в балете. Выгнутые коленками в обратную сторону, как у жеребенка или олененка. Природные данные или аномалия тела, которая считалась идеальной для сцены. И эта невероятная стопа. С увеличенной горкой сверху. Инга, если натягивала носки, доставала пальцами до пола. Сколько раз он пытался нарисовать ее ступню? Миллион.
– Меня брали в балетную студию, но мама не хотела водить. Говорили, что у меня данные, которые раз в сто лет появляются, – как-то рассказала Инга. – По-моему, это уродство. Генетическая поломка.
– Это прекрасно, – шептал Виталий, мгновенно забывая и о Лене, и о сыне. Обо всем на свете. Для него существовала только эта выгнутая, будто выломанная, стопа.
Лена потом звонила. Кричала. Срывалась в истерику, без конца задавая один и тот же вопрос, на который у Виталия не было ответа:
– Как ты мог так поступить? Как ты мог? Это же твой сын!
Виталий молчал.
– Ты даже не считаешь нужным придумать объяснение своему поступку! – кричала Лена, заходя на очередной круг скандала. – Не хочешь попросить прощения? Не у меня, у сына?
– Прости, – выдавил из себя Виталий и вдруг вспомнил, как его мать тоже требовала просить прощения за любую шалость или провинность. Маленький Виталик даже не знал, что мама от него хочет, потому что не понимал, как это – «просить прощения». Но дети быстро догадываются, что от них хотят взрослые, не вникая в смысл слов, которые звучат абракадаброй. Виталик, склонив голову, говорил:
– Прошу прощения.
– Скажи, что больше так не будешь! – требовала мать.
– Я больше так не буду, – повторял послушно Виталик.
Уже в детском саду он получил возможность до совершенства отточить мастерство просить прощения. Он первым подходил к воспитательнице или нянечке и, глядя в пол, шептал:
– Прошу прощения. Я больше не буду.
Те тут же сменяли гнев на милость, поскольку ребенок сознался сам, да еще и пришел с повинной до того, как его начали ругать. Конечно же, Виталика гладили по голове и просили, чтобы он был «хорошим мальчиком» и больше не ломал, например, игрушечный экскаватор и не путал детали металлического конструктора, закладывая их в разные коробки. А также не лепил пластилин к длинным косам Ниночки и не дразнил толстую Тусечку толстой Тусечкой.
– Я больше так не буду, – сказал Виталий Лене и невольно, естественно, не специально, хохотнул. Он не мог ей объяснить, что в тот момент вспомнил маму, воспитательницу и Ниночку с Тусечкой.
Вот тогда-то и наступил конец.
– Ты издеваешься, да? Тебе смешно? – Лена даже не кричала, а стонала от гнева, бессилия, ярости.
Позже Виталий узнал, что родители Лены тогда уехали отдыхать в пансионат. Собрались впервые за много лет. Всего на десять дней. Передохнуть от забот о внуке, бесконечных волнений за судьбу дочери. Ленина мама, Людмила Михайловна, до последнего отказывалась ехать. Переживала, как оставит дочь и внука. Но и сил уже никаких не оставалось. Они с мужем давно собирались в Кисловодск – гулять по парку, пить воду, пахнущую сероводородом, и кислородные коктейли. Ходить на процедуры, массажи. Принимать лечебные ванны. Людмила Михайловна мечтала о новомодных, грязевых, которые якобы излечивали все болезни – от артрита до мигрени. А еще, по отзывам отдыхающих, продлевали женскую молодость во всех смыслах, включая интимный, о чем Людмиле Михайловне сообщила знакомая, побывавшая в том же пансионате. Конечно, по секрету, обдавая ухо слюной и жаром дыхания.
Лена тоже хотела, чтобы родители уехали отдыхать. Она понимала, что им это необходимо. Обоим. Мама устала от бытовых хлопот. Отец – от чувства вдруг возросшей ответственности. Мама как заведенная твердила, что они справятся, все будет хорошо, лишь бы Леночка была счастлива. И пусть поступает как знает, как хочет. Отец, бывший военный, не принимал этих аргументов. Он стучал кулаком по столу, а выпив, норовил поехать к «этому папаше» и призвать того к исполнению отцовского долга. Была б его воля, он бы вывел «зятька», оказавшегося нерадивым новобранцем, на плац и заставил бы часов шесть маршировать. На жаре. До теплового удара. Или посадил бы на три дня на гауптвахту. Тогда бы тот точно захотел стать лучшим отцом для своего сына.
Когда родители уехали, Лена вдруг поняла, что боится. Лерик капризничал, плохо спал, плохо ел. Плакал надрывно, часами. Она не могла его успокоить, как ни укачивала, и не понимала, с какой стороны подступиться к ребенку. Да, мама, ставшая бабушкой, почти полностью взяла на себя и кормления, и купания, и укачивания. Ночью подскакивала, едва Лерик начинал хныкать, и быстро успокаивала. Лена гуляла с коляской. Читала, сидя на лавочке, болтала со случайными приятельницами – Лерик, оказавшись на улице, засыпал сразу же.
Лена несколько раз собиралась позвонить Виталию, но останавливала себя. Она справится. Все справляются, значит, и она сможет. Но когда Лерик вдруг начал задыхаться, Лена растерялась и запаниковала. Она наконец осознала, что значит остаться одной. Когда за спиной никого – ни мамы, ни отца, ни какого-никакого мужа, с которыми можно разделить ответственность.
Лена позвонила в «скорую». Боялась, что на нее накричат, не дослушают, не поймут, но там, к счастью, ее слезы, невнятные объяснения не вызвали удивления. Перепуганной молодой мамочке положено быть нервной. «Скорая» приехала быстро. Необходимости в госпитализации, как заверил Лену врач, нет. Но Лена умоляла забрать их с сыном в больницу. Ей так было спокойнее. Не одна, рядом врачи. Пусть убедятся, что с Лериком все хорошо.
Виталий тогда так и не приехал. Ни в тот день, ни на следующий. Лена звонила еще несколько раз, просила привезти кефир, печенье, коробку конфет для медсестер, забрать их из больницы и довезти до дома. Она до последнего ждала, что увидит Виталия в вестибюле больницы. Оглядывалась на улице, надеясь, что тот просто вышел покурить. Стояла в воротах, глядя на дорогу, давая ему еще один шанс – появиться сразу на такси, извиняясь за опоздание. Но Виталий не приехал. Или забыл, или ему было наплевать. Так решила для себя Лена и была недалека от истины. Он и забыл, и наплевал, откровенно говоря. Его интересовали только старый бидон и пропорции.
Звонки Лены его раздражали. Он ждал, что позвонит Инга. Не выходил даже в магазин – вдруг она приедет в тот момент, когда он будет стоять в очереди за хлебом? Не станет ждать. Когда звонила Лена, Виталий думал только об одном – в этот самый момент могла позвонить Инга, услышать короткие гудки «занято» и не перезвонить. Никогда.
Это была настоящая зависимость. Без Инги он не мог ни есть, ни спать, дышать не мог. Жить не хотел. Она все про него знала – про Лену, Лерика, развод, который он даже не заметил. Виталий ничего не скрывал.
– Почему ты молчишь? – спросил он как-то у Инги.
– А каких слов ты от меня ждешь? – равнодушно уточнила она. – Ты все равно поступишь так, как сочтешь нужным. Людям не нужны советы. Они вообще никого не слышат, кроме самих себя.
Он считал нужным быть с ней, писать ее. Набросками, кусками, выписывая ключицы, ложбинку на спине, шею. Ждать, мучиться ожиданием. Все остальное его не интересовало.
Лена его так и не простила за тот случай. Позвонила и сказала: Виталий может забыть, что у него есть сын. Навсегда. Больше он его не увидит. Алименты пусть перечисляет, согласно закону. Но никаких встреч. Никакого общения.
– Хорошо, – ответил Виталий.
– Хорошо? – Лена закричала так, будто ее полоснули ножом. – Что хорошо? Ты чудовище! Ты сейчас говоришь «хорошо»? Ты сам себя слышишь? Ты меня слышишь? У тебя нет сына! Ты это понимаешь? Это хорошо? Господи, как ты с этим будешь жить? Надеюсь, каждый твой день превратится в ад. Я хочу, чтобы ты испытывал ту боль, которую пережила я. И чтобы задыхался так, как твой сын. А еще лучше – сделай одолжение – сдохни. Чтобы я честно говорила сыну, что его отец умер. Даже на могилу к тебе приду и цветы принесу. Только сдохни, пожалуйста. Ты не должен ходить по земле. Такие, как ты, не должны, не имеют морального права. Пустые, никчемные, бесполезные создания, не способные даже на то, чтобы заботиться о потомстве. Без животных инстинктов. Слышишь? Ты – никто. Пустое место. Ничтожество. У тебя нет близких. И не будет. Ты понял? Я тебя проклинаю. Хочу, чтобы ты никогда не узнал, что такое настоящая близость, семья, поддержка. И знаешь что еще? Не проклятие, а просто совет. Не становись больше отцом. Ты не можешь. Не способен. Тебе дети противопоказаны.
– Интересно, а если бы он был сантехником или окончил заборостроительный институт, ты бы стал с ним общаться? С тем же энтузиазмом? – спросила Инга, повернувшись на живот. Он сначала задохнулся от желания, а потом от ее вопросов.
– Кто? – не сразу отреагировал Виталий. Он думал о том, какой могла бы быть их с Ингой дочь. Да, у них должна была родиться именно девочка. Наверняка похожая на Ингу, с ее странными и прекрасными ступнями, шеей, ломкими руками. Он часто писал Ингины руки. Если она опиралась на ладонь, рука выгибалась в локте так, что становилось страшно. Будто рука вот-вот сломается.
– Ты как птица, – часто повторял Виталий.
– Почему?
– У тебя будто нет костей. Как у обычных людей. Ты – лебедь. Смотри, как ты сидишь… – Виталий прочертил пальцем по воздуху, повторяя изгиб ее руки. – Это ненормально, странно и прекрасно. У людей так руки не гнутся.
– Да, меня в детстве дразнили «гуттаперчевой девочкой». Помнишь книгу «Гуттаперчевый мальчик»? Нам ее задали читать на каникулы. После этого меня начали дразнить. Я себя ненавидела. Свое тело. Знаешь, какая кличка у меня была в школе? Змея. Такие в цирке выступают с номером «женщина-змея», которая может ноги к ушам поставить. Аттракцион. А на самом деле это болезнь, – хмыкнула Инга. – Я всю жизнь живу с болью – колени, стопы, суставы разламывает, выкручивает, голова раскалывалась. В детстве врачи говорили, что я так расту. Так и называли – болезнь роста. И говорили, что все само собой пройдет. Не прошло. Надо было идти работать в цирк.
Виталий схватился за карандаш. Инга смотрела иначе. Во взгляде отразилась боль. Изменился цвет зрачка – темно-коричневый вдруг окрасился охрой с проблесками оливкового, болотного.
– У тебя сейчас зеленые глаза… – прошептал Виталий.
– Да, так бывает, – пожала плечами Инга. – А ты можешь вот так сделать?
– Не кури, пожалуйста, – просил он.
– Я хочу, – отвечала спокойно она, пошире открывая форточку.
– Зачем ты куришь?
– Мне это нравится. У меня не так много пороков, вредных привычек. Курение я могу себе позволить. И бросать не собираюсь. Не проси.
Виталий больше не просил. Точнее, просил, чтобы она еще раз встала к окну и курила так, как в тот день. Но все было иначе. Не так.
– Подожди, еще пять минут, можешь еще одну сигарету выкурить? – умолял он.
– Нет, не могу. У меня уже дым из ушей идет, – отвечала Инга. – Могу изобразить. – Она делала вид, что курит.
– Нет. Это подделка. Ты ненастоящая. Это видно, – сердился Виталий.
– Тогда переключись на что-то другое, – хмыкала Инга.
И он переключился. На ее ступни, пальцы, ключицы, бедренные кости, икры, ахилловы сухожилия. Они были неидеальными, но он не мог оторвать от них взгляд. Слишком высокий подъем. Стопа, будто сломанная. Инга никогда не стояла на полной стопе – или выламывала ступню, или поджимала пальцы. Ему становилось нехорошо. Он боялся, что она сейчас переломает себе все пальцы. У нее были «иксовые» ноги, как говорят в балете. Выгнутые коленками в обратную сторону, как у жеребенка или олененка. Природные данные или аномалия тела, которая считалась идеальной для сцены. И эта невероятная стопа. С увеличенной горкой сверху. Инга, если натягивала носки, доставала пальцами до пола. Сколько раз он пытался нарисовать ее ступню? Миллион.
– Меня брали в балетную студию, но мама не хотела водить. Говорили, что у меня данные, которые раз в сто лет появляются, – как-то рассказала Инга. – По-моему, это уродство. Генетическая поломка.
– Это прекрасно, – шептал Виталий, мгновенно забывая и о Лене, и о сыне. Обо всем на свете. Для него существовала только эта выгнутая, будто выломанная, стопа.
Лена потом звонила. Кричала. Срывалась в истерику, без конца задавая один и тот же вопрос, на который у Виталия не было ответа:
– Как ты мог так поступить? Как ты мог? Это же твой сын!
Виталий молчал.
– Ты даже не считаешь нужным придумать объяснение своему поступку! – кричала Лена, заходя на очередной круг скандала. – Не хочешь попросить прощения? Не у меня, у сына?
– Прости, – выдавил из себя Виталий и вдруг вспомнил, как его мать тоже требовала просить прощения за любую шалость или провинность. Маленький Виталик даже не знал, что мама от него хочет, потому что не понимал, как это – «просить прощения». Но дети быстро догадываются, что от них хотят взрослые, не вникая в смысл слов, которые звучат абракадаброй. Виталик, склонив голову, говорил:
– Прошу прощения.
– Скажи, что больше так не будешь! – требовала мать.
– Я больше так не буду, – повторял послушно Виталик.
Уже в детском саду он получил возможность до совершенства отточить мастерство просить прощения. Он первым подходил к воспитательнице или нянечке и, глядя в пол, шептал:
– Прошу прощения. Я больше не буду.
Те тут же сменяли гнев на милость, поскольку ребенок сознался сам, да еще и пришел с повинной до того, как его начали ругать. Конечно же, Виталика гладили по голове и просили, чтобы он был «хорошим мальчиком» и больше не ломал, например, игрушечный экскаватор и не путал детали металлического конструктора, закладывая их в разные коробки. А также не лепил пластилин к длинным косам Ниночки и не дразнил толстую Тусечку толстой Тусечкой.
– Я больше так не буду, – сказал Виталий Лене и невольно, естественно, не специально, хохотнул. Он не мог ей объяснить, что в тот момент вспомнил маму, воспитательницу и Ниночку с Тусечкой.
Вот тогда-то и наступил конец.
– Ты издеваешься, да? Тебе смешно? – Лена даже не кричала, а стонала от гнева, бессилия, ярости.
Позже Виталий узнал, что родители Лены тогда уехали отдыхать в пансионат. Собрались впервые за много лет. Всего на десять дней. Передохнуть от забот о внуке, бесконечных волнений за судьбу дочери. Ленина мама, Людмила Михайловна, до последнего отказывалась ехать. Переживала, как оставит дочь и внука. Но и сил уже никаких не оставалось. Они с мужем давно собирались в Кисловодск – гулять по парку, пить воду, пахнущую сероводородом, и кислородные коктейли. Ходить на процедуры, массажи. Принимать лечебные ванны. Людмила Михайловна мечтала о новомодных, грязевых, которые якобы излечивали все болезни – от артрита до мигрени. А еще, по отзывам отдыхающих, продлевали женскую молодость во всех смыслах, включая интимный, о чем Людмиле Михайловне сообщила знакомая, побывавшая в том же пансионате. Конечно, по секрету, обдавая ухо слюной и жаром дыхания.
Лена тоже хотела, чтобы родители уехали отдыхать. Она понимала, что им это необходимо. Обоим. Мама устала от бытовых хлопот. Отец – от чувства вдруг возросшей ответственности. Мама как заведенная твердила, что они справятся, все будет хорошо, лишь бы Леночка была счастлива. И пусть поступает как знает, как хочет. Отец, бывший военный, не принимал этих аргументов. Он стучал кулаком по столу, а выпив, норовил поехать к «этому папаше» и призвать того к исполнению отцовского долга. Была б его воля, он бы вывел «зятька», оказавшегося нерадивым новобранцем, на плац и заставил бы часов шесть маршировать. На жаре. До теплового удара. Или посадил бы на три дня на гауптвахту. Тогда бы тот точно захотел стать лучшим отцом для своего сына.
Когда родители уехали, Лена вдруг поняла, что боится. Лерик капризничал, плохо спал, плохо ел. Плакал надрывно, часами. Она не могла его успокоить, как ни укачивала, и не понимала, с какой стороны подступиться к ребенку. Да, мама, ставшая бабушкой, почти полностью взяла на себя и кормления, и купания, и укачивания. Ночью подскакивала, едва Лерик начинал хныкать, и быстро успокаивала. Лена гуляла с коляской. Читала, сидя на лавочке, болтала со случайными приятельницами – Лерик, оказавшись на улице, засыпал сразу же.
Лена несколько раз собиралась позвонить Виталию, но останавливала себя. Она справится. Все справляются, значит, и она сможет. Но когда Лерик вдруг начал задыхаться, Лена растерялась и запаниковала. Она наконец осознала, что значит остаться одной. Когда за спиной никого – ни мамы, ни отца, ни какого-никакого мужа, с которыми можно разделить ответственность.
Лена позвонила в «скорую». Боялась, что на нее накричат, не дослушают, не поймут, но там, к счастью, ее слезы, невнятные объяснения не вызвали удивления. Перепуганной молодой мамочке положено быть нервной. «Скорая» приехала быстро. Необходимости в госпитализации, как заверил Лену врач, нет. Но Лена умоляла забрать их с сыном в больницу. Ей так было спокойнее. Не одна, рядом врачи. Пусть убедятся, что с Лериком все хорошо.
Виталий тогда так и не приехал. Ни в тот день, ни на следующий. Лена звонила еще несколько раз, просила привезти кефир, печенье, коробку конфет для медсестер, забрать их из больницы и довезти до дома. Она до последнего ждала, что увидит Виталия в вестибюле больницы. Оглядывалась на улице, надеясь, что тот просто вышел покурить. Стояла в воротах, глядя на дорогу, давая ему еще один шанс – появиться сразу на такси, извиняясь за опоздание. Но Виталий не приехал. Или забыл, или ему было наплевать. Так решила для себя Лена и была недалека от истины. Он и забыл, и наплевал, откровенно говоря. Его интересовали только старый бидон и пропорции.
Звонки Лены его раздражали. Он ждал, что позвонит Инга. Не выходил даже в магазин – вдруг она приедет в тот момент, когда он будет стоять в очереди за хлебом? Не станет ждать. Когда звонила Лена, Виталий думал только об одном – в этот самый момент могла позвонить Инга, услышать короткие гудки «занято» и не перезвонить. Никогда.
Это была настоящая зависимость. Без Инги он не мог ни есть, ни спать, дышать не мог. Жить не хотел. Она все про него знала – про Лену, Лерика, развод, который он даже не заметил. Виталий ничего не скрывал.
– Почему ты молчишь? – спросил он как-то у Инги.
– А каких слов ты от меня ждешь? – равнодушно уточнила она. – Ты все равно поступишь так, как сочтешь нужным. Людям не нужны советы. Они вообще никого не слышат, кроме самих себя.
Он считал нужным быть с ней, писать ее. Набросками, кусками, выписывая ключицы, ложбинку на спине, шею. Ждать, мучиться ожиданием. Все остальное его не интересовало.
Лена его так и не простила за тот случай. Позвонила и сказала: Виталий может забыть, что у него есть сын. Навсегда. Больше он его не увидит. Алименты пусть перечисляет, согласно закону. Но никаких встреч. Никакого общения.
– Хорошо, – ответил Виталий.
– Хорошо? – Лена закричала так, будто ее полоснули ножом. – Что хорошо? Ты чудовище! Ты сейчас говоришь «хорошо»? Ты сам себя слышишь? Ты меня слышишь? У тебя нет сына! Ты это понимаешь? Это хорошо? Господи, как ты с этим будешь жить? Надеюсь, каждый твой день превратится в ад. Я хочу, чтобы ты испытывал ту боль, которую пережила я. И чтобы задыхался так, как твой сын. А еще лучше – сделай одолжение – сдохни. Чтобы я честно говорила сыну, что его отец умер. Даже на могилу к тебе приду и цветы принесу. Только сдохни, пожалуйста. Ты не должен ходить по земле. Такие, как ты, не должны, не имеют морального права. Пустые, никчемные, бесполезные создания, не способные даже на то, чтобы заботиться о потомстве. Без животных инстинктов. Слышишь? Ты – никто. Пустое место. Ничтожество. У тебя нет близких. И не будет. Ты понял? Я тебя проклинаю. Хочу, чтобы ты никогда не узнал, что такое настоящая близость, семья, поддержка. И знаешь что еще? Не проклятие, а просто совет. Не становись больше отцом. Ты не можешь. Не способен. Тебе дети противопоказаны.
– Интересно, а если бы он был сантехником или окончил заборостроительный институт, ты бы стал с ним общаться? С тем же энтузиазмом? – спросила Инга, повернувшись на живот. Он сначала задохнулся от желания, а потом от ее вопросов.
– Кто? – не сразу отреагировал Виталий. Он думал о том, какой могла бы быть их с Ингой дочь. Да, у них должна была родиться именно девочка. Наверняка похожая на Ингу, с ее странными и прекрасными ступнями, шеей, ломкими руками. Он часто писал Ингины руки. Если она опиралась на ладонь, рука выгибалась в локте так, что становилось страшно. Будто рука вот-вот сломается.
– Ты как птица, – часто повторял Виталий.
– Почему?
– У тебя будто нет костей. Как у обычных людей. Ты – лебедь. Смотри, как ты сидишь… – Виталий прочертил пальцем по воздуху, повторяя изгиб ее руки. – Это ненормально, странно и прекрасно. У людей так руки не гнутся.
– Да, меня в детстве дразнили «гуттаперчевой девочкой». Помнишь книгу «Гуттаперчевый мальчик»? Нам ее задали читать на каникулы. После этого меня начали дразнить. Я себя ненавидела. Свое тело. Знаешь, какая кличка у меня была в школе? Змея. Такие в цирке выступают с номером «женщина-змея», которая может ноги к ушам поставить. Аттракцион. А на самом деле это болезнь, – хмыкнула Инга. – Я всю жизнь живу с болью – колени, стопы, суставы разламывает, выкручивает, голова раскалывалась. В детстве врачи говорили, что я так расту. Так и называли – болезнь роста. И говорили, что все само собой пройдет. Не прошло. Надо было идти работать в цирк.
Виталий схватился за карандаш. Инга смотрела иначе. Во взгляде отразилась боль. Изменился цвет зрачка – темно-коричневый вдруг окрасился охрой с проблесками оливкового, болотного.
– У тебя сейчас зеленые глаза… – прошептал Виталий.
– Да, так бывает, – пожала плечами Инга. – А ты можешь вот так сделать?