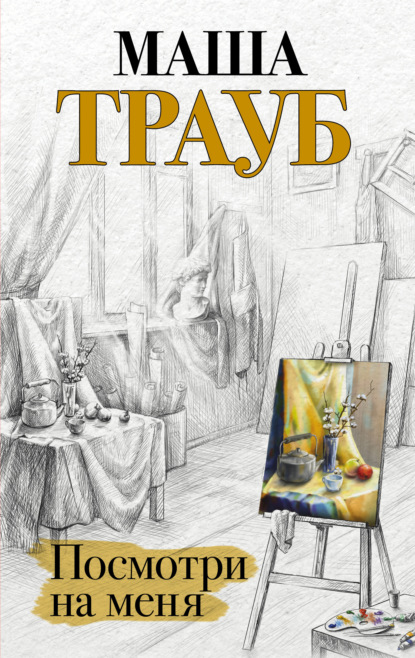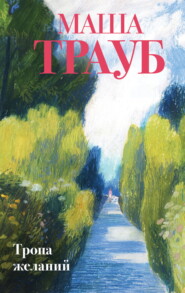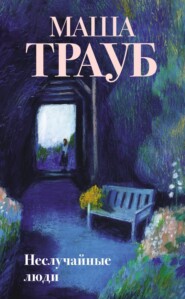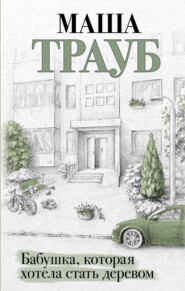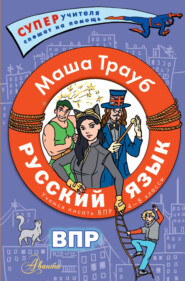По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Посмотри на меня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она подскочила на кровати и села в позе лотоса, заложив ноги, как делают йоги, легко забросив ступни на бедра.
– Издеваешься? – рассмеялся Виталий.
– Знаешь, я все детство развлекала одноклассников трюками. Мне за это давали списать математику или физику. Смотри. – Инга отогнула мизинец на 90 градусов. Виталий охнул.
– А вот так? – хохотнула Инга и пригнула большой палец к предплечью. – Попробуй.
– Нет, спасибо. Я себе палец сломаю.
– Знаешь, что самое смешное во всем этом? Лишь один врач сказал моей маме, что я больна. И лишь тот врач заметил то, что не замечал никто. Я при всей своей гибкости, гуттаперчевости, не могу прогнуться под лопатками. В пояснице могу сложиться в мостике, обхватив руками лодыжки. А под лопатками не гнусь совсем. Знаешь почему? Тот врач сказал, что сразу видит детей, на которых дома кричат или которых обижают. Тех, кто живет в боли, не важно какой – физической или моральной. Такие дети не умеют гнуться под лопатками, потому что привыкли сутулиться, закрываться, защищаться от внешнего мира, реальности. Они не чувствуют защиту. Врач посоветовал маме просто перестать на меня давить и оставить в покое. Дать мне возможность расправить лопатки и плечи. Мама тогда сказала, что врач странный и явно шарлатан, раз даже никаких таблеток не выписал. С чего он вообще взял, что мне плохо? Всем бы так плохо было. А она к нему записывалась на прием за два месяца и заплатила крупную сумму. И за что? За то, что врач ее во всем обвинил?
– У тебя идеальные лопатки и плечи, – промямлил Виталий.
– Нет. Они изуродованные, как и все тело. Мама нашла другого врача, который прописал мне корсет. Пыточный инструмент. Мама была счастлива, считая, что этот способ точно поможет и я не буду ходить скрюченная. Я ведь даже сидеть ровно не могла от боли. Выскакивала после урока на перемену в слезах. Мне было удобно только в одной позе – поднять колени к груди и ссутулиться так, что спина становилась горбом. Мама отправляла меня в школу в корсете, который я срывала в туалете. Даже на физре я стеснялась переодеваться – все тело было в мокнущих язвах. Летом мама отправила меня в Евпаторию, в пансионат для лечения заболеваний опорно-двигательной системы. До сих пор страшно вспоминать то лето. Тех детей, у кого были проблемы с ногами, заставляли носить специальные ботинки, тяжеленные, кондовые. По жаре в них было невозможно стоять, не то что ходить. Все – и малыши, и подростки – плакали – ботинки сжимали и без того исстрадавшиеся, изувеченные ноги. Их называли «испанками», как испанский башмачок для пыток. Воспитатели следили, чтобы ботинки были крепко зашнурованы, и заставляли детей проходить в них три круга вокруг огромной центральной клумбы.
Представь себе детей разного возраста, которые еле двигались по кругу друг за другом. Они волокли ноги, будто на них навесили кандалы. Рыдали в голос все, не стесняясь, не сдерживаясь. Прогулка была ежедневной пыткой. Плач заглушали бодрой музыкой, раздававшейся из громкоговорителя. Включали специально на время прогулок. Ладно, я считалась уже взрослой, и мама со мной не поехала. Но с маленькими детьми прибыли мамы или бабушки. Они снимали комнаты по соседству с пансионатом и собственными глазами видели эти прогулки. Из-за забора, конечно, но наблюдали все издевательства. Никто не вмешался, не защитил собственного ребенка, не забрал оттуда в первый же день. Это было настоящее предательство. С таким мало что может сравниться.
Малыши после прогулки не могли идти на обед. Они падали пластом на кровати и плакали уже тихонько, всхлипывая, уткнувшись в подушку. Потому что тех, кто плакал громко, воспитатели наказывали – заставляли снова обувать ботинки и стоять в углу. Я помню, что мы, спинальники: те, кто был отправлен в пансионат после травм позвоночника, и такие, как я, – странные, с врожденными особенностями или без понятного диагноза, – носили малышей в столовую на руках. Иначе они бы остались голодными – приносить еду в палаты воспитатели запрещали. Это тоже считалось частью терапии: голод – самый мощный стимулятор. Захочешь есть – доползешь до столовой. А эти малыши не хотели ползти. И есть не хотели. Хотели умереть. Признавались в этом так, что мы, подростки, верили – дети прекрасно знают, о чем говорят. У них не было страха перед смертью. Было ожидание. Смерть они призывали, умоляли прийти поскорее, разговаривали с ней, как с живым существом, которое может забрать и принести долгожданное облегчение. Одна девчушка, Катюша – пятилетняя, но выглядела как трехлетка, – рассказывала, что после смерти попадет на облачко и будет на нем спать. Она так красочно описывала жизнь на облаке, что остальные дети тоже стали верить, что после смерти попадут на небо. Когда это услышала воспитательница, она заставила Катюшу мыть язык хозяйственным мылом, чтобы больше не «рассказывать всякие глупости». В том пансионате была концентрация жестокости, издевательств и извращений. Там могли работать только маньяки, которым нравится причинять боль детям.
Мы, подростки, поделили маленьких детей между собой и каждый носил одного или двух подопечных в столовую, в душевую, в туалет. Конечно, это категорически запрещалось делать, но нам было наплевать. Я тогда решила для себя, что если не помогу Катюше или еще кому-нибудь, то сама утоплюсь или повешусь. Потому что выдержать такое возможно, только если противостоишь, пусть из последних сил, но сопротивляешься.
Каждое утро мы напяливали на себя гипсовые корсеты, в которых было невозможно согнуться и повернуться. Тело под ними жутко чесалось. Но дети живучи и изобретательны. Кто-то из более опытных ребят показал, как разбивать молотком корсет, делать его мягче. Как незаметно подрезать шнурки и не завязывать до конца, до потери способности дышать. Молоток был украден давно, спрятан за шкаф, а его местонахождение передавалось по страшному секрету вновь прибывшей смене мучеников. Так что мы хотя бы могли ходить и помогать младшим.
По вечерам нас всех отправляли на «коврики». Считалось, что эти волшебные коврики с острыми пупырышками-аппликаторами снимают зажимы и спазмы. Нас собирали в одной комнате. Те, у кого имелись проблемы с ногами, стояли на этих ковриках. А мы – лежали. Мама потом купила такой коврик за какие-то немыслимые деньги и заставляла меня на нем лежать каждый день. Это было издевательство. Пытка. Насилие. Кто-то лежал спокойно, даже с удовольствием, я же не могла. Меня будто иглами прокалывали насквозь. Тогда я узнала, что такое ненависть. Настоящая. Нутряная. Когда хочешь убить родного человека, который обрекает тебя на ежедневные страдания. И утверждает, что это ради твоего же блага. Страшнее всего не просто ненависть, а ненависть, порожденная нестерпимой болью.
– Не уезжай. Я от тебя завишу физически. Всегда так было, ты знаешь, – попросил Виталий.
– Да, знаю. Но с тобой я тоже страдала. Наша связь… странная… не приносила мне облегчения, счастья. Только боль. Я прокручивала ее в голове, наслаждалась ею. Старалась выгнуть посильнее ногу, тебя это вводило в ступор. Ты смотрел на меня, а я на тебя – чем сильнее ты удивлялся, ужасался, тем мне было приятнее. Извращение какое-то. Тебе так не кажется? Я бы привлекла тебя, если бы не мои, так сказать, особенности? Если бы я была обычной? – Инга буравила его взглядом. Он терпеть не мог, когда она на него так смотрела. Не моргая. Как у нее это получалось? Она лежала голая, полностью от него зависимая в тот момент. Как и много лет назад, она не стеснялась своей наготы, что его потрясало. Он всегда стыдливо прикрывался простыней.
На своих многочисленных эскизах Виталий пытался набросить хотя бы кусок ткани на ее грудь, бедра. Пусть намеком, но прикрыть эту наглую, беспардонную наготу. Но так и не получилось. Инга на рисунках могла быть только голой. Никакого поворота ноги, положения тела, скрывавшего срамоту, руки, будто случайно прикрывшей грудь, эскиз не допускал. Виталий злился, хотел порвать рисунок, но не мог. Он хранил их все. Старая папка с истрепавшимися углами, на завязках, превратившихся со временем в нитки, уже не вмещала все наброски. Но он не хотел заводить другую. Потом пришлось. Он никогда и никому эти рисунки не показывал. Никому, кроме Инги.
Сколько времени спустя она позвонила? Прошел год с небольшим. Он уже не ждал ее. Не отчаялся, не смирился – просто устал. Не каждому человеку дан дар ожидания. Далеко не каждый умеет терпеть разлуку. И не каждый готов к тому, чтобы жить лишь надеждой. Виталий тогда окончательно перебрался в бабушкину квартиру, забрав остатки вещей, которые Лена выставила на лестничную клетку. Он не открывал сумку. Дошел до ближайшего мусорного контейнера и выбросил. Вместе с Леной и неудавшейся попыткой семейной жизни.
К телефонным звонкам Виталий успел привыкнуть – часто звонили по работе заказчики, и он уже не дергался от каждого звонка. Сердце не рвалось на части. И оттого сильнее было потрясение, когда он услышал в трубке ее голос.
– Привет. Весна наконец наступила. У тебя как, окна грязные? А я помыла. И сразу же пошел ливень. Помнишь, как ты жаловался, что тебе не хватает света? – рассказывала она, будто они расстались буквально вчера.
– Это ты? – У Виталия пересохло во рту. Он еле ворочал языком.
– А ты ждал звонка от кого-то другого? – усмехнулась Инга. – Ну, прости. Просто посмотрела сегодня на окна без занавесок и тебя вспомнила. Вот решила позвонить.
– Я ждал. Тебя, – промямлил Виталий. – Приедешь?
– Когда? – легко спросила Инга.
– Когда можешь? – Виталий боялся сказать лишнее.
– Сейчас могу, – ответила Инга. – Через час буду. Если, конечно, хочешь.
– Хочу…
В тот день, когда Инга появилась в его квартире, Виталий сделал то, о чем раньше и помыслить не мог. Достал папку, в которой хранил наброски, дернул неудачно завязку, вырвав с корнем, и рисунки разлетелись по полу. Он кинулся их собирать, и в этот момент Инга зашла в квартиру. Он специально оставил дверь открытой. Конечно, Виталий не стремился произвести на нее впечатление. Не мечтал увидеть ее восторженный взгляд – он наблюдал, как она берет один лист, рассматривает, откладывает в сторону, потом другой. И уж тем более не предполагал, что она сядет на кровать и весь вечер будет рассматривать его наброски. Свои части тела – от пальцев до шеи.
– Что ты хочешь? – иногда спрашивала его Инга в моменты близости.
Он хотел одного. Это было его тайное, самое запретное желание. Самая неприличная мысль, сидящая в голове. Самое недозволительное, выходящее за все рамки извращенное желание, в котором он не мог признаться. Позже окажется, что так и не признается: чтобы она наконец обняла его, поцеловала по-другому – с нежностью, исходящей изнутри, из желудка, которую нельзя сыграть или сымитировать, как наслаждение. И сказала, что он гений, настоящий. А потом поцеловала бы его руку, ладонь с внутренней стороны. Прижала к своей щеке и снова поцеловала. Он мечтал, чтобы хоть раз она поцеловала его ладони в знак благодарности, нежности, восхищения, признания.
Как он когда-то целовал ее ступни. Каждый палец. Когда удалось сделать набросок, от которого ему хотелось плакать, настолько рисунок соответствовал действительности. Идеальный. Не придраться. Написанный по памяти. И потом он целовал каждый ее палец, каждую фалангу с признанием – он изобразил все так, как есть.
– Чего ты хочешь? – спрашивал Виталий в каждую их встречу.
– Нежности, откровений, ласки, – неизменно отвечала Инга.
– Все этого хотят. А конкретно? – требовал Виталий.
– Скажи, что ты меня любишь, – как-то неожиданно попросила Инга. Он оказался к этому не готов и замешкался. Не смог ответить сразу же. Пошел варить кофе.
И она… пропала на два года. Два мучительных для него года.
За это время он написал ее почти всю – живот, пупок, внутреннюю поверхность бедра, руки от локтя до запястья и отдельно от локтя до плеча.
В тот день, когда Инга вдруг появилась и увидела разбросанные по полу эскизы, рисунки акварелью, маслом, графитом – свои колени, шею, нос, – она так ему ничего и не сказала. Просидев несколько часов над его работами, она отбросила последний эскиз, вскочила и молча ушла.
Их связь была ненормальной, мучительной. Они встречались, были любовниками уже сколько… пятнадцать лет? Он ничего про нее не знал. Она же, казалось, знала про него больше, чем он сам про себя. Годы бежали слишком быстро. Быстрее, чем развивались их отношения. Да и как можно было назвать их редкие встречи отношениями? Странная, противоестественная зависимость. Сексуальное влечение? Инга была родной – по запахам, ощущениям, дыханию, телодвижениям. Тем человеком, с которым хотелось умереть в один день, обнявшись в последний раз. На одной кровати, застеленной старой простыней. Лежать голыми и знать, что умираешь.
– Что ты в этом понимаешь? – разозлился Виталий. – Это мой сын. У тебя ведь нет своих детей.
– Никогда, слышишь, больше никогда ни одной женщине не говори такое: что она могла стать матерью, но этого не случилось. Это самое страшное, что можно произнести, – тихо сказала Инга.
– Зачем ты пришла? Зачем опять появилась? Почему ты надо мной издеваешься? Зачем я тебе сдался? Ты можешь со мной просто поговорить?
Виталий уже не кричал, а орал. Ему было так больно, что хотелось проорать эту боль. Неужели Инга не видит, не чувствует, что ему плохо, и сознательно его добивает? Или она ему так мстит? За что?
– Мне пора. Правда. – Инга спокойно начала одеваться.
– Зачем я тебе был нужен все эти годы? Скажи. – Виталий вырвал из ее рук лифчик, который она собиралась надеть.
– А я тебе зачем? – ухмыльнулась она.
Она знала, что обрекает его на настоящий ад. Тот, в который его хотела отправить Лена, – мучиться каждый божий день, страдать так, что хочется выйти в окно от бессилия и невозможности все исправить. Он был обречен думать о нерожденном ребенке. И пытаться его написать, как все эти годы писал женщину, так и не ставшую матерью. Представлять, от кого из родителей что ей передалось. Потом, когда Инга уже ушла, он взял карандаш и не смог сделать набросок. Рисовать детей он не умел. Подсознание выдавало херувимов, пухлых младенцев с картин великих мастеров. Реальных, настоящих детей Виталий никогда не писал. И, наверное, в тот момент он понял Лену, оказавшуюся одной с больным ребенком на руках. Лена не знала, что делать, ей было страшно. И этот страх Виталий вдруг почувствовал. Он не мог даже сделать набросок того, что легко рисуют уличные художники разной степени таланта, профаны-самоучки, непризнанные гении: пухлых детей, непременно кудрявых и румяных, с гипертрофированными складками-перетяжками и круглыми, как блюдца, глазами. Одинаковых. Написанных, как под копирку. Виталию в голову не приходило рисовать новорожденного Лерика. Или Лену, кормящую сына грудью. Все банальные сюжеты, просившиеся на карандаш, он не использовал, потому что просто их не замечал. Не видел ни красоты, ни нежности, ни особого таинства – сакрального, потустороннего, которое хранят в себе только новорожденные младенцы и кормящие матери.
Виталий схватил Ингу за руку. Сжал. Больно. Специально.
– Ты не уедешь. Слышишь? Ты не можешь! – закричал он.
– Уеду. Могу, – пожала плечами она. Не вырывала руку, хотя он сжимал все сильнее. Хотел, чтобы остался синяк. Не кричала: «Отпусти, мне больно», – чего он добивался. За это спокойствие, равнодушие он был готов ее задушить. Еще полчаса назад, когда они лежали в кровати, он мог сделать это спокойно. Сжать руками горло, и все. А потом писать ее тело сколько влезет. Пока оно не начнет разлагаться.
– Гусь, пожалуйста, я тебя умоляю… – Виталий отпустил ее руку, сполз по ней, обнял колени. – Не мучай меня. Ты же знаешь: кроме тебя, никого… никогда… Я не выдержу без тебя.
– Издеваешься? – рассмеялся Виталий.
– Знаешь, я все детство развлекала одноклассников трюками. Мне за это давали списать математику или физику. Смотри. – Инга отогнула мизинец на 90 градусов. Виталий охнул.
– А вот так? – хохотнула Инга и пригнула большой палец к предплечью. – Попробуй.
– Нет, спасибо. Я себе палец сломаю.
– Знаешь, что самое смешное во всем этом? Лишь один врач сказал моей маме, что я больна. И лишь тот врач заметил то, что не замечал никто. Я при всей своей гибкости, гуттаперчевости, не могу прогнуться под лопатками. В пояснице могу сложиться в мостике, обхватив руками лодыжки. А под лопатками не гнусь совсем. Знаешь почему? Тот врач сказал, что сразу видит детей, на которых дома кричат или которых обижают. Тех, кто живет в боли, не важно какой – физической или моральной. Такие дети не умеют гнуться под лопатками, потому что привыкли сутулиться, закрываться, защищаться от внешнего мира, реальности. Они не чувствуют защиту. Врач посоветовал маме просто перестать на меня давить и оставить в покое. Дать мне возможность расправить лопатки и плечи. Мама тогда сказала, что врач странный и явно шарлатан, раз даже никаких таблеток не выписал. С чего он вообще взял, что мне плохо? Всем бы так плохо было. А она к нему записывалась на прием за два месяца и заплатила крупную сумму. И за что? За то, что врач ее во всем обвинил?
– У тебя идеальные лопатки и плечи, – промямлил Виталий.
– Нет. Они изуродованные, как и все тело. Мама нашла другого врача, который прописал мне корсет. Пыточный инструмент. Мама была счастлива, считая, что этот способ точно поможет и я не буду ходить скрюченная. Я ведь даже сидеть ровно не могла от боли. Выскакивала после урока на перемену в слезах. Мне было удобно только в одной позе – поднять колени к груди и ссутулиться так, что спина становилась горбом. Мама отправляла меня в школу в корсете, который я срывала в туалете. Даже на физре я стеснялась переодеваться – все тело было в мокнущих язвах. Летом мама отправила меня в Евпаторию, в пансионат для лечения заболеваний опорно-двигательной системы. До сих пор страшно вспоминать то лето. Тех детей, у кого были проблемы с ногами, заставляли носить специальные ботинки, тяжеленные, кондовые. По жаре в них было невозможно стоять, не то что ходить. Все – и малыши, и подростки – плакали – ботинки сжимали и без того исстрадавшиеся, изувеченные ноги. Их называли «испанками», как испанский башмачок для пыток. Воспитатели следили, чтобы ботинки были крепко зашнурованы, и заставляли детей проходить в них три круга вокруг огромной центральной клумбы.
Представь себе детей разного возраста, которые еле двигались по кругу друг за другом. Они волокли ноги, будто на них навесили кандалы. Рыдали в голос все, не стесняясь, не сдерживаясь. Прогулка была ежедневной пыткой. Плач заглушали бодрой музыкой, раздававшейся из громкоговорителя. Включали специально на время прогулок. Ладно, я считалась уже взрослой, и мама со мной не поехала. Но с маленькими детьми прибыли мамы или бабушки. Они снимали комнаты по соседству с пансионатом и собственными глазами видели эти прогулки. Из-за забора, конечно, но наблюдали все издевательства. Никто не вмешался, не защитил собственного ребенка, не забрал оттуда в первый же день. Это было настоящее предательство. С таким мало что может сравниться.
Малыши после прогулки не могли идти на обед. Они падали пластом на кровати и плакали уже тихонько, всхлипывая, уткнувшись в подушку. Потому что тех, кто плакал громко, воспитатели наказывали – заставляли снова обувать ботинки и стоять в углу. Я помню, что мы, спинальники: те, кто был отправлен в пансионат после травм позвоночника, и такие, как я, – странные, с врожденными особенностями или без понятного диагноза, – носили малышей в столовую на руках. Иначе они бы остались голодными – приносить еду в палаты воспитатели запрещали. Это тоже считалось частью терапии: голод – самый мощный стимулятор. Захочешь есть – доползешь до столовой. А эти малыши не хотели ползти. И есть не хотели. Хотели умереть. Признавались в этом так, что мы, подростки, верили – дети прекрасно знают, о чем говорят. У них не было страха перед смертью. Было ожидание. Смерть они призывали, умоляли прийти поскорее, разговаривали с ней, как с живым существом, которое может забрать и принести долгожданное облегчение. Одна девчушка, Катюша – пятилетняя, но выглядела как трехлетка, – рассказывала, что после смерти попадет на облачко и будет на нем спать. Она так красочно описывала жизнь на облаке, что остальные дети тоже стали верить, что после смерти попадут на небо. Когда это услышала воспитательница, она заставила Катюшу мыть язык хозяйственным мылом, чтобы больше не «рассказывать всякие глупости». В том пансионате была концентрация жестокости, издевательств и извращений. Там могли работать только маньяки, которым нравится причинять боль детям.
Мы, подростки, поделили маленьких детей между собой и каждый носил одного или двух подопечных в столовую, в душевую, в туалет. Конечно, это категорически запрещалось делать, но нам было наплевать. Я тогда решила для себя, что если не помогу Катюше или еще кому-нибудь, то сама утоплюсь или повешусь. Потому что выдержать такое возможно, только если противостоишь, пусть из последних сил, но сопротивляешься.
Каждое утро мы напяливали на себя гипсовые корсеты, в которых было невозможно согнуться и повернуться. Тело под ними жутко чесалось. Но дети живучи и изобретательны. Кто-то из более опытных ребят показал, как разбивать молотком корсет, делать его мягче. Как незаметно подрезать шнурки и не завязывать до конца, до потери способности дышать. Молоток был украден давно, спрятан за шкаф, а его местонахождение передавалось по страшному секрету вновь прибывшей смене мучеников. Так что мы хотя бы могли ходить и помогать младшим.
По вечерам нас всех отправляли на «коврики». Считалось, что эти волшебные коврики с острыми пупырышками-аппликаторами снимают зажимы и спазмы. Нас собирали в одной комнате. Те, у кого имелись проблемы с ногами, стояли на этих ковриках. А мы – лежали. Мама потом купила такой коврик за какие-то немыслимые деньги и заставляла меня на нем лежать каждый день. Это было издевательство. Пытка. Насилие. Кто-то лежал спокойно, даже с удовольствием, я же не могла. Меня будто иглами прокалывали насквозь. Тогда я узнала, что такое ненависть. Настоящая. Нутряная. Когда хочешь убить родного человека, который обрекает тебя на ежедневные страдания. И утверждает, что это ради твоего же блага. Страшнее всего не просто ненависть, а ненависть, порожденная нестерпимой болью.
– Не уезжай. Я от тебя завишу физически. Всегда так было, ты знаешь, – попросил Виталий.
– Да, знаю. Но с тобой я тоже страдала. Наша связь… странная… не приносила мне облегчения, счастья. Только боль. Я прокручивала ее в голове, наслаждалась ею. Старалась выгнуть посильнее ногу, тебя это вводило в ступор. Ты смотрел на меня, а я на тебя – чем сильнее ты удивлялся, ужасался, тем мне было приятнее. Извращение какое-то. Тебе так не кажется? Я бы привлекла тебя, если бы не мои, так сказать, особенности? Если бы я была обычной? – Инга буравила его взглядом. Он терпеть не мог, когда она на него так смотрела. Не моргая. Как у нее это получалось? Она лежала голая, полностью от него зависимая в тот момент. Как и много лет назад, она не стеснялась своей наготы, что его потрясало. Он всегда стыдливо прикрывался простыней.
На своих многочисленных эскизах Виталий пытался набросить хотя бы кусок ткани на ее грудь, бедра. Пусть намеком, но прикрыть эту наглую, беспардонную наготу. Но так и не получилось. Инга на рисунках могла быть только голой. Никакого поворота ноги, положения тела, скрывавшего срамоту, руки, будто случайно прикрывшей грудь, эскиз не допускал. Виталий злился, хотел порвать рисунок, но не мог. Он хранил их все. Старая папка с истрепавшимися углами, на завязках, превратившихся со временем в нитки, уже не вмещала все наброски. Но он не хотел заводить другую. Потом пришлось. Он никогда и никому эти рисунки не показывал. Никому, кроме Инги.
Сколько времени спустя она позвонила? Прошел год с небольшим. Он уже не ждал ее. Не отчаялся, не смирился – просто устал. Не каждому человеку дан дар ожидания. Далеко не каждый умеет терпеть разлуку. И не каждый готов к тому, чтобы жить лишь надеждой. Виталий тогда окончательно перебрался в бабушкину квартиру, забрав остатки вещей, которые Лена выставила на лестничную клетку. Он не открывал сумку. Дошел до ближайшего мусорного контейнера и выбросил. Вместе с Леной и неудавшейся попыткой семейной жизни.
К телефонным звонкам Виталий успел привыкнуть – часто звонили по работе заказчики, и он уже не дергался от каждого звонка. Сердце не рвалось на части. И оттого сильнее было потрясение, когда он услышал в трубке ее голос.
– Привет. Весна наконец наступила. У тебя как, окна грязные? А я помыла. И сразу же пошел ливень. Помнишь, как ты жаловался, что тебе не хватает света? – рассказывала она, будто они расстались буквально вчера.
– Это ты? – У Виталия пересохло во рту. Он еле ворочал языком.
– А ты ждал звонка от кого-то другого? – усмехнулась Инга. – Ну, прости. Просто посмотрела сегодня на окна без занавесок и тебя вспомнила. Вот решила позвонить.
– Я ждал. Тебя, – промямлил Виталий. – Приедешь?
– Когда? – легко спросила Инга.
– Когда можешь? – Виталий боялся сказать лишнее.
– Сейчас могу, – ответила Инга. – Через час буду. Если, конечно, хочешь.
– Хочу…
В тот день, когда Инга появилась в его квартире, Виталий сделал то, о чем раньше и помыслить не мог. Достал папку, в которой хранил наброски, дернул неудачно завязку, вырвав с корнем, и рисунки разлетелись по полу. Он кинулся их собирать, и в этот момент Инга зашла в квартиру. Он специально оставил дверь открытой. Конечно, Виталий не стремился произвести на нее впечатление. Не мечтал увидеть ее восторженный взгляд – он наблюдал, как она берет один лист, рассматривает, откладывает в сторону, потом другой. И уж тем более не предполагал, что она сядет на кровать и весь вечер будет рассматривать его наброски. Свои части тела – от пальцев до шеи.
– Что ты хочешь? – иногда спрашивала его Инга в моменты близости.
Он хотел одного. Это было его тайное, самое запретное желание. Самая неприличная мысль, сидящая в голове. Самое недозволительное, выходящее за все рамки извращенное желание, в котором он не мог признаться. Позже окажется, что так и не признается: чтобы она наконец обняла его, поцеловала по-другому – с нежностью, исходящей изнутри, из желудка, которую нельзя сыграть или сымитировать, как наслаждение. И сказала, что он гений, настоящий. А потом поцеловала бы его руку, ладонь с внутренней стороны. Прижала к своей щеке и снова поцеловала. Он мечтал, чтобы хоть раз она поцеловала его ладони в знак благодарности, нежности, восхищения, признания.
Как он когда-то целовал ее ступни. Каждый палец. Когда удалось сделать набросок, от которого ему хотелось плакать, настолько рисунок соответствовал действительности. Идеальный. Не придраться. Написанный по памяти. И потом он целовал каждый ее палец, каждую фалангу с признанием – он изобразил все так, как есть.
– Чего ты хочешь? – спрашивал Виталий в каждую их встречу.
– Нежности, откровений, ласки, – неизменно отвечала Инга.
– Все этого хотят. А конкретно? – требовал Виталий.
– Скажи, что ты меня любишь, – как-то неожиданно попросила Инга. Он оказался к этому не готов и замешкался. Не смог ответить сразу же. Пошел варить кофе.
И она… пропала на два года. Два мучительных для него года.
За это время он написал ее почти всю – живот, пупок, внутреннюю поверхность бедра, руки от локтя до запястья и отдельно от локтя до плеча.
В тот день, когда Инга вдруг появилась и увидела разбросанные по полу эскизы, рисунки акварелью, маслом, графитом – свои колени, шею, нос, – она так ему ничего и не сказала. Просидев несколько часов над его работами, она отбросила последний эскиз, вскочила и молча ушла.
Их связь была ненормальной, мучительной. Они встречались, были любовниками уже сколько… пятнадцать лет? Он ничего про нее не знал. Она же, казалось, знала про него больше, чем он сам про себя. Годы бежали слишком быстро. Быстрее, чем развивались их отношения. Да и как можно было назвать их редкие встречи отношениями? Странная, противоестественная зависимость. Сексуальное влечение? Инга была родной – по запахам, ощущениям, дыханию, телодвижениям. Тем человеком, с которым хотелось умереть в один день, обнявшись в последний раз. На одной кровати, застеленной старой простыней. Лежать голыми и знать, что умираешь.
– Что ты в этом понимаешь? – разозлился Виталий. – Это мой сын. У тебя ведь нет своих детей.
– Никогда, слышишь, больше никогда ни одной женщине не говори такое: что она могла стать матерью, но этого не случилось. Это самое страшное, что можно произнести, – тихо сказала Инга.
– Зачем ты пришла? Зачем опять появилась? Почему ты надо мной издеваешься? Зачем я тебе сдался? Ты можешь со мной просто поговорить?
Виталий уже не кричал, а орал. Ему было так больно, что хотелось проорать эту боль. Неужели Инга не видит, не чувствует, что ему плохо, и сознательно его добивает? Или она ему так мстит? За что?
– Мне пора. Правда. – Инга спокойно начала одеваться.
– Зачем я тебе был нужен все эти годы? Скажи. – Виталий вырвал из ее рук лифчик, который она собиралась надеть.
– А я тебе зачем? – ухмыльнулась она.
Она знала, что обрекает его на настоящий ад. Тот, в который его хотела отправить Лена, – мучиться каждый божий день, страдать так, что хочется выйти в окно от бессилия и невозможности все исправить. Он был обречен думать о нерожденном ребенке. И пытаться его написать, как все эти годы писал женщину, так и не ставшую матерью. Представлять, от кого из родителей что ей передалось. Потом, когда Инга уже ушла, он взял карандаш и не смог сделать набросок. Рисовать детей он не умел. Подсознание выдавало херувимов, пухлых младенцев с картин великих мастеров. Реальных, настоящих детей Виталий никогда не писал. И, наверное, в тот момент он понял Лену, оказавшуюся одной с больным ребенком на руках. Лена не знала, что делать, ей было страшно. И этот страх Виталий вдруг почувствовал. Он не мог даже сделать набросок того, что легко рисуют уличные художники разной степени таланта, профаны-самоучки, непризнанные гении: пухлых детей, непременно кудрявых и румяных, с гипертрофированными складками-перетяжками и круглыми, как блюдца, глазами. Одинаковых. Написанных, как под копирку. Виталию в голову не приходило рисовать новорожденного Лерика. Или Лену, кормящую сына грудью. Все банальные сюжеты, просившиеся на карандаш, он не использовал, потому что просто их не замечал. Не видел ни красоты, ни нежности, ни особого таинства – сакрального, потустороннего, которое хранят в себе только новорожденные младенцы и кормящие матери.
Виталий схватил Ингу за руку. Сжал. Больно. Специально.
– Ты не уедешь. Слышишь? Ты не можешь! – закричал он.
– Уеду. Могу, – пожала плечами она. Не вырывала руку, хотя он сжимал все сильнее. Хотел, чтобы остался синяк. Не кричала: «Отпусти, мне больно», – чего он добивался. За это спокойствие, равнодушие он был готов ее задушить. Еще полчаса назад, когда они лежали в кровати, он мог сделать это спокойно. Сжать руками горло, и все. А потом писать ее тело сколько влезет. Пока оно не начнет разлагаться.
– Гусь, пожалуйста, я тебя умоляю… – Виталий отпустил ее руку, сполз по ней, обнял колени. – Не мучай меня. Ты же знаешь: кроме тебя, никого… никогда… Я не выдержу без тебя.