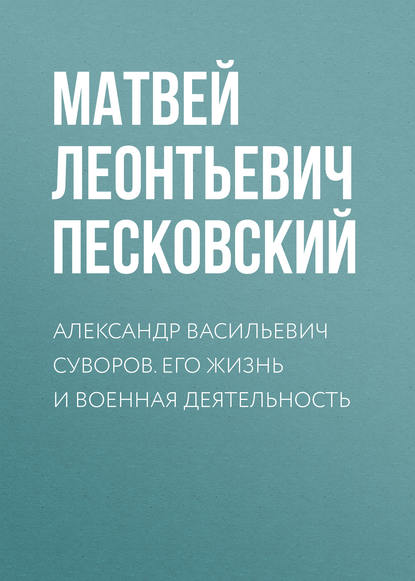По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Александр Васильевич Суворов. Его жизнь и военная деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На пути в Варшаву, в 20 верстах от нее (при селении Кобылка), Суворов в пятичасовом бою уничтожил отряд в 4 300 человек, из которых 1 073 взяты в плен, остальные же – полегли. Вся артиллерия и обоз были захвачены.
С присоединением отрядов Ферзена и Дерфельдена общее количество всех трех осаждающих корпусов составляло до 25 тысяч человек. Гарнизон же Праги превышал 30 тысяч человек, не считая вооруженных варшавян. Обширные ее укрепления очень сложной системы (со рвами, валами, волчьими ямами и прочим), были вооружены крупнокалиберной артиллерией. Тем не менее, созванный Суворовым военный совет постановил: взять Прагу приступом, несмотря ни на какие укрепления. Штурм был назначен в ночь с 23 на 24 октября. Безотлагательно были начаты подготовления к штурму (изготовление лестниц, фашин и плетней для прикрывания волчьих ям), законченные 22 октября. Этого числа, вечером, войска двинулись к Праге с музыкой, развернутыми знаменами, где и разместились по-лагерному.
В Варшаве же в это время происходила невообразимая сумятица. Вместо Костюшки нужно было выбрать главнокомандующего. “Верховный народный совет” избрал Томаса Вавержецкого, командовавшего на курляндской границе, на которого, по слухам, указывал и сам Костюшко на случай своей болезни или смерти. Вавержецкий усиленнейшим образом отказывался, но, уступая настойчивым просьбам членов верховного совета, дал, наконец, свое согласие “с отвращением”. Он здраво смотрел на вещи и вполне разумно предлагал послать кого-нибудь к Суворову с просьбой о приостановке военных действий, а в Петербург – с мирными предложениями, точнее – с повинной. Но ему заносчиво отвечали на это, что Варшава предпочитает выставить со своей стороны “на защиту Праги 20 тысяч человек, вооруженных оружием и отчаянием”. Эта красивая фраза осталась пустым звуком. Когда, ввиду надвигавшегося обложения Праги, главнокомандующий в ней потребовал из Варшавы 10 тысяч вооруженных, явилось только 2 тысячи человек. Варшаву, а вместе с ней и всю Польшу бесповоротно губило многовластие (король, главнокомандующий, верховный совет, магистрат и прочие), приводившее, в конце концов, к безначалию.
Варшава, отвергнув просьбу о приостановке военных действий, обрекла Прагу на гибель. К прагскому штурму превосходно были подготовлены и военачальники – посредством целого ряда больших рекогносцировок и образцовой дислокации, и войска – особым приказом, выученным каждым почти наизусть и представлявшим верх военного искусства и предусмотрительности благодаря опыту измаиловского штурма. Неудивительно поэтому, что штурм, начавшийся в 5 часов утра, был окончен к 9 часам 24 числа. Каждый отчетливо знал свое место, что ему нужно делать, куда и почему идти.
Вследствие сильного возбуждения войска можно было опасаться за участь Варшавы, вовсе не входившей в планы штурма. Ввиду этого Суворов приказал зажечь мост, соединявший Прагу с Варшавой. Пожар перебрался на Прагу, и море огня еще более увеличило общий ужас. Грохотавшая же канонада между Варшавой и Прагой придавала этой адской картине еще более ужасающий вид. По официальному донесению, убитых поляков 13 340 человек, пленных 12 860, потонуло около 3 тысяч человек. Было пролито много крови, но это устранило затягивание войны, или иначе – обращение ее в хроническое кровопролитие. Не прошло и суток после прагского погрома, как в русский лагерь явилось посольство от капитулирующей Варшавы. 25 октября, в полночь, прибыли к Суворову три депутата варшавского магистрата с депешей от магистрата и с письмом от короля Станислава-Августа Понятовского. Их несказанно обрадовала и даже смутила необычайная скромность условий, предложенных победителем и состоявших в следующем:
“Оружие, артиллерию и снаряды сложить за городом в условленном месте. Поспешно исправить мост, чтобы русские войска могли вступить в Варшаву 25 вечером или 26 утром. Дается торжественное обещание именем Русской Императрицы, что все будет предано забвению и что польские войска, по сложении ими оружия, будут распущены по домам, с обеспечением личной свободы и имущества каждого. То же самое гарантируется и мирным обывателям. Его Величеству королю – всеподобающая честь”.
Депутаты даже прослезились от такой умеренности условий, а тем более – от великодушия и доброжелательства, с которыми Суворов принял депутатов, угостил их, беседовал с ними, уверив их, что искреннее и единственное желание и стремление России – мир и мир!
Верховный совет под давлением дружного общественного влияния вовсе отстранился от дел, передав свои полномочия королю. Отсроченное Суворовым, по просьбе короля, вступление войск торжественно произошло 29 октября с развернутыми знаменами, с музыкой, начавшись в 8 часу утра. Суворов ехал в середине войск с большой свитой. Городской магистрат находился на варшавском конце моста. Старший член магистрата поднес Суворову на бархатной подушке городские ключи, а также хлеб и соль, и сказал краткую приветственную речь. Суворов взял ключи, поцеловал их и громко поблагодарил Бога за то, что Варшава куплена не такой ценой, как Прага. Передав поднесения дежурному генералу Исленьеву, он стал по-братски обниматься с членами магистрата и со многими из окружающего народа.
Пройдя город, войска направились к лагерным местам, внутри ограды варшавских укреплений. Суворов поместился в одном из лучших домов, в близком соседстве с лагерем. Магистрат представил ему подлежащих освобождению военнопленных прусских, австрийских и русских. Первых было больше 500, вторых 80, третьих 1 376 человек. Австрийцы и пруссаки были скованы. В числе русских находились три генерала и три дипломатических чиновника высшего ранга. Произошла очень трогательная сцена. Освобожденные падали перед Суворовым на колени и горячо благодарили. Радость и благодарность их были тем понятнее, что несколько дней назад носились весьма зловещие слухи об их участи.
30 октября Суворов был у Станислава-Августа в полной парадной форме, со всеми своими орденскими знаками, в сопровождении громадной свиты и конвоя. На этой аудиенции между прочим решено было, что король отдаст приказание, чтобы все польские войска положили немедленно оружие и выдали пушки. В этих видах Суворовым была доставлена королю амнистия для объявления всем войскам. В отношении политики “умиротворения” Суворов держался правила, что чем шире победитель выказывает свое великодушие и безбоязненность, тем полнее получается результат умиротворения. Образ действий Суворова в отношении поляков был безусловно чистосердечен и честен, справедлив и доброжелателен. Именно вследствие этого и оказался возможным такой факт, что после серьезно задуманного и подготовленного восстания с сильной степенью фанатического возбуждения к 8 ноября уже было вполне закончено Суворовым мирное разоружение Польши, совершенно добровольное.
Посланный Суворовым генерал-майор Исленьев с ключами и хлебом-солью Варшавы приехал в Петербург 19 ноября. По этому поводу на другой день был отслужен благодарственный молебен с коленопреклонением. Дочь Суворова удостоилась самого внимательного приема со стороны императрицы. На происходившем же в тот день парадном обеде было объявлено о возведении Суворова в звание фельдмаршала.
Суворов в одном из своих частных писем говорит по этому поводу, что он “был болен от радости”. Он получил от государыни два рескрипта, из которых в одном говорится, что Суворов сам произвел себя своими победами в фельдмаршалы, нарушив старшинство, вообще строго соблюдаемое. Племянник его, князь Алексей Горчаков, был прислан к нему с фельдмаршальским жезлом в 15 тысяч рублей вместе с бриллиантовым бантом к шляпе. Наконец Суворову было назначено в полное его и потомственное владение одно из столовых имений польского короля – Кабирский ключ, с семью тысячами душ мужского пола, что утроило его состояние.
Радуясь до болезни, Суворов не скрывал своего восторга, впадая даже в чудачество. Привезенный ему фельдмаршальский жезл он приказал отнести в церковь для освящения. Затем сам пришел туда в куртке, без знаков отличия, и приказал расставить в линию несколько табуреток с промежутками, после чего начал перепрыгивать табуретки, называя после каждой имя одного из тех генерал-аншефов, которых он обошел (Репнина, Прозоровского, Салтыкова и прочих). Наконец, табуретки были убраны; он оделся в полную фельдмаршальскую форму, вновь явился в церковь и прослушал богослужение.
Среди разнообразного выражения сочувствий Суворову особенно характерным представляется в этом отношении поведение варшавского магистрата. В 1794 году, в день Екатерины, от имени варшавян Суворову была поднесена золотая эмалированная табакерка с лаврами из бриллиантов. На середине крышки был изображен городской герб – плавающая сирена и под нею подпись: Warszawa zbawcy swemu (Варшава своему избавителю); внизу же герба – другая подпись, обозначающая день прагского штурма: 4 ноября (24 октября) 1794 года.
Таким образом, варшавяне назвали Суворова своим “избавителем” за разрушение моста во время штурма; обстоятельства же не замедлили доказать, что не одни варшавяне, а все поляки с полным правом могут и должны назвать Суворова своим “избавителем”. Дело в том, что, когда затихли петербургские торжества победы, масса лиц, недовольных возвышением Суворова, начала судить и рядить по-своему, отвергая пользу миролюбивой политики в отношении поляков, доказывая необходимость крутых мер. Суворов моментально и победоносно отпарировал все подобного рода притязания, доказав полную их несправедливость и большой вред. Поэтому принятая им система умиротворения края осталась нетронутой, так как именно благодаря ей Польша находилась в полнейшем повиновении и никаких опасений не возбуждала. Именно “не мщением, а великодушием была покорена Польша”, – скажем мы словами Суворова, и год мирного его управления в Польше можно назвать образцом административной мудрости. Через год, когда состоялся, наконец, окончательный раздел Польши, и Суворову нечего уже было делать там, он получил 17 октября 1795 года рескрипт, в котором императрица благодарила его за все им сделанное.
В этот именно период дочь его, Наташа, вышла замуж за графа Николая Зубова, брата нового фаворита. Замечательно, что это родство с всесильным фаворитом не только не вызвало сближения, но, породнившись с Платоном Зубовым, Суворов еще более отдалился от него. Впоследствии охладели его отношения к зятю и дочери, которой он уделял очень много внимания во все время до ее замужества и положительно прославил ее своими письмами к ней.
Выдача дочери замуж не избавила Суворова от семейных забот. На смену дочери явился сын, Аркадий. До 11 лет он был при матери. В сентябре 1795 года Суворов впервые упоминает о сыне в письме к Платону Зубову, которого он благодарит за монаршее благоволение, оказанное его сыну, заключавшееся, вероятно, в назначении его камер-юнкером к великому князю Константину Павловичу, для чего он впервые и прибыл в Петербург из Москвы в начале 1796 года. Попечение о воспитании и образовании Аркадия было поручено Суворовым его замужней дочери. Граф же Николай Зубов принял на себя надзор за педагогической стороной дела.
Глава IX. Резкие превращения. 1796 – 1799
Деятельность Суворова в Финляндии и Тульчине. – Восшествие на престол Павла Петровича; его особенности. – Увольнение Суворова от службы. – Пребывание его в селе Кончанском
По прибытии в Петербург 4 января 1796 года Суворов стал предметом особенного внимания не только со стороны общества, гордившегося им и прославлявшего его, но также со стороны императрицы. Он выслала ему в Стрельну парадную придворную карету с эскортом из чинов конюшенного ведомства. Для житья назначила ему и его свите Таврический дворец, приказав при этом завесить зеркала в угоду причудливому фельдмаршалу, не любившему их. При личном свидании государыня окончательно обворожила его своим радушным приемом и утонченным вниманием. Узнав, например, что Суворов ехал из Стрельны в одном фельдмаршальском мундире без всякой верхней одежды (он сделал это ради особенной торжественности своего въезда – и заморозил своих спутников), Екатерина подарила ему роскошную соболью шубу, крытую зеленым бархатом. Но Суворов пользовался ею только во время поездок во дворец, да и то держал ее на коленях и надевал лишь по выходе из кареты.
Тем не менее, он редко бывал во дворце у государыни, особенно же на парадных обедах, которых умышленно избегал. Вообще же Суворов нехорошо чувствовал себя в придворной среде. Его резкая прямота и грубая откровенность стесняли всех, а тем более – императрицу. Поэтому он с радостью принял предложение императрицы съездить в Финляндию и осмотреть те пограничные укрепления, которые им же были проектированы и сооружаемы в 1791 и 92 годах, но закончены другими. Он быстро окончил это поручение и был очень доволен виденным им, так как “не осталось уголка, куда бы могли проникнуть шведы, не встретив сильных затруднений и отпора”.
Еще при первом свидании с Екатериной по возвращении в Петербург из Варшавы, Суворову было предложено главное начальствование над затевавшейся тогда персидской экспедицией. Но он просил дать ему подумать. Теперь же, возвратившись из Финляндии, он категорически отказался от экспедиции, о чем, однако, очень сожалел потом, когда началась экспедиция и крайне неумело велась Зубовыми. Эта экспедиция, начатая по личным расчетам фаворита Платона Зубова, послужила поводом для самых злостных нападок со стороны Суворова. А так как зять Суворова, Николай Зубов, старался отстаивать брата, то это послужило одним из главных поводов для сильного охлаждения Суворова не только к зятю, но и к жене его, к своей Наташе, к которой он был прежде так внимателен и нежен.
Он получил в командование самую большую из трех существовавших тогда армий, заключавшую в себе войска, находившиеся в губерниях: ярославской, пермской, екатеринославской, харьковской и таврической области, всего – 13 кавалерийских и 19 пехотных полков, черноморский гренадерский корпус, три егерских корпуса, 40 осадных и 107 полевых орудий, 48 понтонов; да кроме того еще три полка чугуевских и екатеринославское пешее и конное войско. Штаб-квартиру свою он устроил в Тульчине.
С любовью и увлечением отдался Суворов порученной ему армии, в которую он отправился в половине марта 1796 года. Менее чем в годичный срок он довел военное обучение вверенных ему войск до высокой степени совершенства, образцово поставив их, вместе с тем, в отношении продовольствия, одежды, гигиенических условий жизни, занятий полезными работами и духовно-нравственной пищи.
В Тульчине, как и вообще, Суворов вел необыкновенно деятельную жизнь. Вставал очень рано и в течение дня несколько раз окачивался холодной водой во всякое время года. Обедал около 8 часов утра, когда и принимал посетителей, охотно проводя с ними в беседе за столом около полутора-двух часов и более. Затем все остальное время (кроме кратковременного сна среди дня) от момента вставания до ночного отдыха он беспрерывно занимался или служебными делами, или просмотром той массы периодических изданий общего и специального характера, русских и иностранных, которые он обязательно получал всегда. Кроме того, немало времени уходило на изучение языков финского, турецкого и татарского. Суворов очень любил общество, всевозможных родов игры и развлечения, вносил большое оживление в местную жизнь и имел всегда и везде громаднейший круг поклонников и поклонниц, высоко ценивших его за необычайную веселость, живость, подвижность, блестящую остроту ума, колкость языка, благородную ядовитость речи. Где бы он ни был – положительно влюблял в себя простотою и естественностью обращения, задушевной искренностью и прямотой. Но к величайшему несчастью, в мирной и плодотворной деятельности Суворова неожиданно произошел крутой и резкий поворот.
6 ноября скончалась Екатерина, и на престол вступил сын ее, Павел Петрович. Воцарение Павла было названо в свое время “затмением”. Одно из наиболее преданных Павлу лиц, между прочим, говорит о нем: “рассудок его был потемнен, сердце наполнено желчи и душа гнева”. В практической же его деятельности, – как видно из бесконечной цепи фактов кратковременного его царствования (4 года и 4 месяца), – все доброе уничтожалось необыкновенной раздражительностью и подозрительностью, неразумной требовательностью, нервическим нетерпением, отсутствием чувства меры, надменным непризнаванием человеческого достоинства. Очевидная болезнь души.
Екатерина, всегда строго державшаяся приличий, не считала этого обязательным для себя в отношении сына: обыкновенно бывала к нему невнимательна, черства и жестка. Постепенно увеличивавшаяся холодность взаимных отношений перешла в отчужденность, а затем – и в явно неприязненное чувство между матерью и сыном. Считаясь наследником престола, Павел Петрович, однако, не имел никаких государственных занятий, ничего официально-делового, нигде не присутствовал. Он уединялся в загородных дворцах Павловска и Гатчины с полным отстранением не только от государственной деятельности, но и от круга просвещенных людей. Немудрено, что, желая как-нибудь занять свой досуг, он ударился в резкую крайность – стал изобретать свою собственную военную систему, где обучение и служба сводились к механическому выполнению ничтожнейших мелочей при высокой степени требовательности и при условии чисто скотского повиновения. Все это, оставаясь почти в размерах детской забавы, вместе с тем представляло собой крайне неумелое, даже извращенное подражание прусскому военному образцу с усвоением прусского военного устава и прусской же формы одежды.
Павел I, вступая на престол, был весь проникнут до самозабвения огульным отрицанием всего, что было сделано в прошлое царствование. К каким глубоко прискорбным последствиям приводило это на деле, можно видеть на примере тех чудовищных превращений, которые выпали на долю фельдмаршала графа Суворова, пользовавшегося теперь уже такой громкой и почетной известностью, что буквально вся Европа завидовала России, имеющей этого гениального полководца, и не было страны, которая не желала бы иметь его своим военачальником. Между тем, Павел не задумался не только забраковать его, но даже и загнать в самый темный угол.
Вследствие нововведений Павла в половине декабря к Суворову были присланы два фельдъегеря для посылок вместо офицеров. Между тем, к новому году от него прибыл в Петербург капитан с частными письмами без служебной корреспонденции. По докладу Павлу об этом ничтожнейшем пустяке последовал приказ: выразить Суворову неудовольствие, причем указанное употребление офицеров было названо “не приличным ни службе, ни званию их”. Узнав же из расспросов посланного, что Суворов еще не распустил своего штаба, как это требовалось все теми же “нововведениями”, государь повелел добавить в приказе “удивление” этому, а также и подтверждение о непременном и немедленном исполнении его воли. Не успел еще Суворов получить уведомление об этом, как на нем были уже насчитаны три новые вины.
Прежде всего он провинился тем, что поднял вопрос о некотором изменении в расположении состоящих у него войск, – что прежде он делал совершенно самостоятельно. Вторая его провинность – ходатайство оставить под своим ведением генерал-майора Исаева, давнего сослуживца Суворова. Наконец, третья его провинность – отпуск в Петербург подполковника Батурина. По поводу всего этого в половине января 1797 года последовал следующий рескрипт на имя Суворова:
“С удивлением вижу я, что вы без дозволения моего отпускаете офицеров в отпуск, и для того надеюсь я, что сие будет в последний раз. Не менее удивляюсь я, почему вы входите в распределение команд, прося вас предоставить это мне. Что же касается до рекомендации вашей, то и сие в мирное время до вас касаться не может; разве в военное время, если непосредственно под начальством вашим находиться будет. Вообще рекомендую поступать во всем по уставу”.
Кроме того, в высочайшем приказе 15 января Суворову объявлен еще выговор. Но, не успев даже получить эти повеления, Суворов вновь послал в Петербург офицера с донесением, что не получил еще повеления о неупотреблении офицеров для курьерских должностей. В припадке бешенства Павел отправил злополучного посла в гарнизонный полк, в Ригу, для какого-то будто бы “примера другим”; Суворову же выразил в рескрипте крайнее неудовольствие, где, например, сказано в заключение:
“Удивляемся, что вы – тот, кого мы почитали из первых по исполнению воли нашей, остаетесь последним”. Кроме того Суворову еще был объявлен выговор в Высочайшем приказе.
Еще по получении первого из указанных выше рескриптов Суворов, оскорбленный и возмущенный, подал 11 января прошение об увольнении его в годичный отпуск, справедливо ссылаясь на свои “многие раны и увечья”. На прошение последовал отказ 19 января, что будто бы “обязанности службы препятствуют от оной отлучиться”.
3 февраля Суворов подал прошение об отставке. По поводу этой просьбы ему был написан беспощадно-жестокий и возмутительно-несправедливый указ, в самой злостной и грубой форме. По поручению государя, Суворову ответили 14 февраля:
“Государь Император, получа донесение вашего сиятельства от 3-го февраля, соизволил указать – доставить к сведению вашему, что желание ваше предупреждено было, и что вы отставлены еще 6 числа сего месяца”.
Само же “отставление” это было произведено следующим образом. На разводе 6 февраля был отдан приказ:
“Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь Его Императорскому Величеству, что так как войны нет, и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы”. (Ни грамматики, ни логики!!..)
Суворов, заслугами добившийся графства и фельдмаршальства, прослуживший чуть не вдвое более узаконенного срока, проведший на службе почти всю свою жизнь и буквально отдавший ей все свое здоровье и силы, на 67 году жизни “отставлен от службы даже без права ношения мундира!..” А затем еще – и быстро был низведен буквально до самого прозябательного состояния…
Сдавши дела в Тульчине своему преемнику, Суворов в исходе марта 1797 года отправился в Кобрин, чтобы заняться там делами имения и привести его в порядок. Но даже и это немногое в личном его хозяйственном деле не дали ему осуществить. Ночью, 22 апреля, когда Суворов не успел даже и осмотреться по имению, к нему приехал в Кобрин коллежский советник Николаев и предъявил следующее высочайшее повеление:
“Ехать вам в Кобрин или другое место пребывания Суворова, откуда его привести в боровицкие его деревни, где и препоручить Вындомскому (боровичскому городничему), а в случае надобности – требовать помощи от всякого начальства”.
Отъезд так торопили, что не было никакой возможности сделать распоряжения, отдать приказания, забрать бриллианты более чем на 300 тысяч рублей и другие ценные вещи. Не успели даже подвести счетов, чтобы снабдить Суворова деньгами на дорогу, так что ему пришлось довольствоваться тысячей рублей, одолженных управляющим имением.
Суворова водворили в родовом его селе Кончанском, настолько запущенном, что полуразвалившийся дом был трудно обитаем даже в теплое время года, так как он плохо защищал от стихийных невзгод и совершенно был необитаем во время осенних холодов и в зимнюю пору. Не говоря уже о том, что сравнительно благоустроенный Кобрин с прекрасным домом не мог даже идти в сравнение с захолустнейшим Кончанском, нужно еще заметить, что это вынужденное переселение представляло собою глубоко существенное ухудшение в положении Суворова во всех отношениях. В Кобрине Суворов был только опальным, в Кончанске же он – ссыльный, да притом еще и поднадзорный…
В июле его посетили: дочь, то есть графиня Зубова, с маленьким своим сыном, всего нескольких месяцев, и сын Аркадий. Это посещение близких людей несколько скрасило его ссылку; но, к сожалению, оно не могло быть продолжительным, так как семья Суворова, теснившаяся кое-как в летнюю пору, не могла уже оставаться в Кончанске с наступлением холодного времени. Она уехала 21 сентября, и ссыльное положение Суворова стало еще тяжелее, так как одновременно с этим усилена поднадзорность. Специальным дозорным был назначен все тот же Николаев, человек полуграмотный, неразвитой. Для него этот дозор был единственным средством к существованию, и потому он из сил выбивался, усердствуя в надзоре; старался совать свой неопрятный нос решительно во весь склад и строй жизни Суворова; умышленно преувеличивал состояние здоровья Суворова, которое, в действительности, было очень плохо, требовало заботливого внимания и ухода. Но этого, безусловно, невозможно было добиться в Кончанске, где Суворову пришлось поселиться на зиму в простой крестьянской избе вследствие окончательной непригодности для жилья собственного дома. В простом ежедневном его костюме произошло упрощение до последней крайности: он ходил даже без рубашки, в одном нижнем белье, как обыкновенно делывал это в лагерное время.
Николаев прибыл в Кончанск накануне отъезда семьи Суворова, и, по-видимому, неожиданное появление сыщика ускорило отъезд. С этой поры жизнь Суворова была опутана сплошной сетью дозора в самой дерзкой и насильственной форме. К Суворову никого не допускали, отказывали всем, являвшимся к нему, не сообщая даже о них Суворову. Самому ему запрещено было ездить к соседям. Письма обязательно перехватывались. Все хозяйственные распоряжения его задерживались для испрашивания разрешений из Петербурга. К этому нужно прибавить еще неожиданно обрушившуюся на Суворова массу казенных взысканий и частных претензий, которые в короткий промежуток времени превысили 100 тысяч рублей. Все они касались службы его как военачальника, предводителя войск; значит и удовлетворять их должен не Суворов, а казна. В действительности же было как раз наоборот. По заявлениям не производилось никаких предварительных расследований; о них не сообщалось даже Суворову как ответчику: они просто обращались ко взысканию, безапелляционно, да притом еще с суровым подтверждением “не затягивать исполнения”…
Таким взысканиям не предвиделось конца, так как их не начинали разве только ленивые. Дело явно и открыто было направлено к беззаконному, насильственному разорению Суворова, прямо-таки к ограблению его. И он, беззащитный и беспомощный, безропотно подчинился жестокой судьбе, приняв такое решение:
“В несчастном случае – бриллианты; я их заслужил, Бог дал, Бог и возьмет и опять дать может”.
Наконец, вторглись даже и в личную семейную жизнь Суворова, притом в самой беззастенчивой и оскорбительной форме. Прошло 13 лет уже, как он разошелся с женой. Все время он ежегодно выплачивал ей приличную пенсию (до 3 тысяч рублей); она же, не задумываясь, жила выше средств, входя в долги. Теперь, воспользовавшись бесправным и приниженным состоянием мужа, она обратилась с просьбой обязать его: уплатить ее долг в 22 тысячи рублей; выдавать ей на прожитье ежегодно по 8 тысяч рублей и предоставить в ее пользование дом в Москве. Просьба эта была моментально удовлетворена, без всякого рассмотрения, – и Суворова высочайшим повелением обязали выполнить ее.
Ко всему этому еще нужно прибавить полное разграбление в Кобрине вследствие окончательной невозможности личного руководства и контроля. При таких условиях существования прошло около года. Наконец, 14 февраля 1798 года перед Суворовым неожиданно предстал племянник его, 19-летний юноша, подполковник Андрей Горчаков, флигель-адъютант Павла I, с предложением немедленно ехать в Петербург на основании следующего высочайшего повеления от 12 февраля:
“Ехать вам, князь, к графу Суворову; сказать ему от меня, что если было что от него мне, я сего не помню; что может он ехать сюда, где, надеюсь, не будет повода подавать своим поведением к наималейшему недоразумению”. Одновременно с этим и генерал-прокурору было предписано: “Дозволив графу Суворову приехать в Петербург, находим пребывание Николаева там ненужным”.
С присоединением отрядов Ферзена и Дерфельдена общее количество всех трех осаждающих корпусов составляло до 25 тысяч человек. Гарнизон же Праги превышал 30 тысяч человек, не считая вооруженных варшавян. Обширные ее укрепления очень сложной системы (со рвами, валами, волчьими ямами и прочим), были вооружены крупнокалиберной артиллерией. Тем не менее, созванный Суворовым военный совет постановил: взять Прагу приступом, несмотря ни на какие укрепления. Штурм был назначен в ночь с 23 на 24 октября. Безотлагательно были начаты подготовления к штурму (изготовление лестниц, фашин и плетней для прикрывания волчьих ям), законченные 22 октября. Этого числа, вечером, войска двинулись к Праге с музыкой, развернутыми знаменами, где и разместились по-лагерному.
В Варшаве же в это время происходила невообразимая сумятица. Вместо Костюшки нужно было выбрать главнокомандующего. “Верховный народный совет” избрал Томаса Вавержецкого, командовавшего на курляндской границе, на которого, по слухам, указывал и сам Костюшко на случай своей болезни или смерти. Вавержецкий усиленнейшим образом отказывался, но, уступая настойчивым просьбам членов верховного совета, дал, наконец, свое согласие “с отвращением”. Он здраво смотрел на вещи и вполне разумно предлагал послать кого-нибудь к Суворову с просьбой о приостановке военных действий, а в Петербург – с мирными предложениями, точнее – с повинной. Но ему заносчиво отвечали на это, что Варшава предпочитает выставить со своей стороны “на защиту Праги 20 тысяч человек, вооруженных оружием и отчаянием”. Эта красивая фраза осталась пустым звуком. Когда, ввиду надвигавшегося обложения Праги, главнокомандующий в ней потребовал из Варшавы 10 тысяч вооруженных, явилось только 2 тысячи человек. Варшаву, а вместе с ней и всю Польшу бесповоротно губило многовластие (король, главнокомандующий, верховный совет, магистрат и прочие), приводившее, в конце концов, к безначалию.
Варшава, отвергнув просьбу о приостановке военных действий, обрекла Прагу на гибель. К прагскому штурму превосходно были подготовлены и военачальники – посредством целого ряда больших рекогносцировок и образцовой дислокации, и войска – особым приказом, выученным каждым почти наизусть и представлявшим верх военного искусства и предусмотрительности благодаря опыту измаиловского штурма. Неудивительно поэтому, что штурм, начавшийся в 5 часов утра, был окончен к 9 часам 24 числа. Каждый отчетливо знал свое место, что ему нужно делать, куда и почему идти.
Вследствие сильного возбуждения войска можно было опасаться за участь Варшавы, вовсе не входившей в планы штурма. Ввиду этого Суворов приказал зажечь мост, соединявший Прагу с Варшавой. Пожар перебрался на Прагу, и море огня еще более увеличило общий ужас. Грохотавшая же канонада между Варшавой и Прагой придавала этой адской картине еще более ужасающий вид. По официальному донесению, убитых поляков 13 340 человек, пленных 12 860, потонуло около 3 тысяч человек. Было пролито много крови, но это устранило затягивание войны, или иначе – обращение ее в хроническое кровопролитие. Не прошло и суток после прагского погрома, как в русский лагерь явилось посольство от капитулирующей Варшавы. 25 октября, в полночь, прибыли к Суворову три депутата варшавского магистрата с депешей от магистрата и с письмом от короля Станислава-Августа Понятовского. Их несказанно обрадовала и даже смутила необычайная скромность условий, предложенных победителем и состоявших в следующем:
“Оружие, артиллерию и снаряды сложить за городом в условленном месте. Поспешно исправить мост, чтобы русские войска могли вступить в Варшаву 25 вечером или 26 утром. Дается торжественное обещание именем Русской Императрицы, что все будет предано забвению и что польские войска, по сложении ими оружия, будут распущены по домам, с обеспечением личной свободы и имущества каждого. То же самое гарантируется и мирным обывателям. Его Величеству королю – всеподобающая честь”.
Депутаты даже прослезились от такой умеренности условий, а тем более – от великодушия и доброжелательства, с которыми Суворов принял депутатов, угостил их, беседовал с ними, уверив их, что искреннее и единственное желание и стремление России – мир и мир!
Верховный совет под давлением дружного общественного влияния вовсе отстранился от дел, передав свои полномочия королю. Отсроченное Суворовым, по просьбе короля, вступление войск торжественно произошло 29 октября с развернутыми знаменами, с музыкой, начавшись в 8 часу утра. Суворов ехал в середине войск с большой свитой. Городской магистрат находился на варшавском конце моста. Старший член магистрата поднес Суворову на бархатной подушке городские ключи, а также хлеб и соль, и сказал краткую приветственную речь. Суворов взял ключи, поцеловал их и громко поблагодарил Бога за то, что Варшава куплена не такой ценой, как Прага. Передав поднесения дежурному генералу Исленьеву, он стал по-братски обниматься с членами магистрата и со многими из окружающего народа.
Пройдя город, войска направились к лагерным местам, внутри ограды варшавских укреплений. Суворов поместился в одном из лучших домов, в близком соседстве с лагерем. Магистрат представил ему подлежащих освобождению военнопленных прусских, австрийских и русских. Первых было больше 500, вторых 80, третьих 1 376 человек. Австрийцы и пруссаки были скованы. В числе русских находились три генерала и три дипломатических чиновника высшего ранга. Произошла очень трогательная сцена. Освобожденные падали перед Суворовым на колени и горячо благодарили. Радость и благодарность их были тем понятнее, что несколько дней назад носились весьма зловещие слухи об их участи.
30 октября Суворов был у Станислава-Августа в полной парадной форме, со всеми своими орденскими знаками, в сопровождении громадной свиты и конвоя. На этой аудиенции между прочим решено было, что король отдаст приказание, чтобы все польские войска положили немедленно оружие и выдали пушки. В этих видах Суворовым была доставлена королю амнистия для объявления всем войскам. В отношении политики “умиротворения” Суворов держался правила, что чем шире победитель выказывает свое великодушие и безбоязненность, тем полнее получается результат умиротворения. Образ действий Суворова в отношении поляков был безусловно чистосердечен и честен, справедлив и доброжелателен. Именно вследствие этого и оказался возможным такой факт, что после серьезно задуманного и подготовленного восстания с сильной степенью фанатического возбуждения к 8 ноября уже было вполне закончено Суворовым мирное разоружение Польши, совершенно добровольное.
Посланный Суворовым генерал-майор Исленьев с ключами и хлебом-солью Варшавы приехал в Петербург 19 ноября. По этому поводу на другой день был отслужен благодарственный молебен с коленопреклонением. Дочь Суворова удостоилась самого внимательного приема со стороны императрицы. На происходившем же в тот день парадном обеде было объявлено о возведении Суворова в звание фельдмаршала.
Суворов в одном из своих частных писем говорит по этому поводу, что он “был болен от радости”. Он получил от государыни два рескрипта, из которых в одном говорится, что Суворов сам произвел себя своими победами в фельдмаршалы, нарушив старшинство, вообще строго соблюдаемое. Племянник его, князь Алексей Горчаков, был прислан к нему с фельдмаршальским жезлом в 15 тысяч рублей вместе с бриллиантовым бантом к шляпе. Наконец Суворову было назначено в полное его и потомственное владение одно из столовых имений польского короля – Кабирский ключ, с семью тысячами душ мужского пола, что утроило его состояние.
Радуясь до болезни, Суворов не скрывал своего восторга, впадая даже в чудачество. Привезенный ему фельдмаршальский жезл он приказал отнести в церковь для освящения. Затем сам пришел туда в куртке, без знаков отличия, и приказал расставить в линию несколько табуреток с промежутками, после чего начал перепрыгивать табуретки, называя после каждой имя одного из тех генерал-аншефов, которых он обошел (Репнина, Прозоровского, Салтыкова и прочих). Наконец, табуретки были убраны; он оделся в полную фельдмаршальскую форму, вновь явился в церковь и прослушал богослужение.
Среди разнообразного выражения сочувствий Суворову особенно характерным представляется в этом отношении поведение варшавского магистрата. В 1794 году, в день Екатерины, от имени варшавян Суворову была поднесена золотая эмалированная табакерка с лаврами из бриллиантов. На середине крышки был изображен городской герб – плавающая сирена и под нею подпись: Warszawa zbawcy swemu (Варшава своему избавителю); внизу же герба – другая подпись, обозначающая день прагского штурма: 4 ноября (24 октября) 1794 года.
Таким образом, варшавяне назвали Суворова своим “избавителем” за разрушение моста во время штурма; обстоятельства же не замедлили доказать, что не одни варшавяне, а все поляки с полным правом могут и должны назвать Суворова своим “избавителем”. Дело в том, что, когда затихли петербургские торжества победы, масса лиц, недовольных возвышением Суворова, начала судить и рядить по-своему, отвергая пользу миролюбивой политики в отношении поляков, доказывая необходимость крутых мер. Суворов моментально и победоносно отпарировал все подобного рода притязания, доказав полную их несправедливость и большой вред. Поэтому принятая им система умиротворения края осталась нетронутой, так как именно благодаря ей Польша находилась в полнейшем повиновении и никаких опасений не возбуждала. Именно “не мщением, а великодушием была покорена Польша”, – скажем мы словами Суворова, и год мирного его управления в Польше можно назвать образцом административной мудрости. Через год, когда состоялся, наконец, окончательный раздел Польши, и Суворову нечего уже было делать там, он получил 17 октября 1795 года рескрипт, в котором императрица благодарила его за все им сделанное.
В этот именно период дочь его, Наташа, вышла замуж за графа Николая Зубова, брата нового фаворита. Замечательно, что это родство с всесильным фаворитом не только не вызвало сближения, но, породнившись с Платоном Зубовым, Суворов еще более отдалился от него. Впоследствии охладели его отношения к зятю и дочери, которой он уделял очень много внимания во все время до ее замужества и положительно прославил ее своими письмами к ней.
Выдача дочери замуж не избавила Суворова от семейных забот. На смену дочери явился сын, Аркадий. До 11 лет он был при матери. В сентябре 1795 года Суворов впервые упоминает о сыне в письме к Платону Зубову, которого он благодарит за монаршее благоволение, оказанное его сыну, заключавшееся, вероятно, в назначении его камер-юнкером к великому князю Константину Павловичу, для чего он впервые и прибыл в Петербург из Москвы в начале 1796 года. Попечение о воспитании и образовании Аркадия было поручено Суворовым его замужней дочери. Граф же Николай Зубов принял на себя надзор за педагогической стороной дела.
Глава IX. Резкие превращения. 1796 – 1799
Деятельность Суворова в Финляндии и Тульчине. – Восшествие на престол Павла Петровича; его особенности. – Увольнение Суворова от службы. – Пребывание его в селе Кончанском
По прибытии в Петербург 4 января 1796 года Суворов стал предметом особенного внимания не только со стороны общества, гордившегося им и прославлявшего его, но также со стороны императрицы. Он выслала ему в Стрельну парадную придворную карету с эскортом из чинов конюшенного ведомства. Для житья назначила ему и его свите Таврический дворец, приказав при этом завесить зеркала в угоду причудливому фельдмаршалу, не любившему их. При личном свидании государыня окончательно обворожила его своим радушным приемом и утонченным вниманием. Узнав, например, что Суворов ехал из Стрельны в одном фельдмаршальском мундире без всякой верхней одежды (он сделал это ради особенной торжественности своего въезда – и заморозил своих спутников), Екатерина подарила ему роскошную соболью шубу, крытую зеленым бархатом. Но Суворов пользовался ею только во время поездок во дворец, да и то держал ее на коленях и надевал лишь по выходе из кареты.
Тем не менее, он редко бывал во дворце у государыни, особенно же на парадных обедах, которых умышленно избегал. Вообще же Суворов нехорошо чувствовал себя в придворной среде. Его резкая прямота и грубая откровенность стесняли всех, а тем более – императрицу. Поэтому он с радостью принял предложение императрицы съездить в Финляндию и осмотреть те пограничные укрепления, которые им же были проектированы и сооружаемы в 1791 и 92 годах, но закончены другими. Он быстро окончил это поручение и был очень доволен виденным им, так как “не осталось уголка, куда бы могли проникнуть шведы, не встретив сильных затруднений и отпора”.
Еще при первом свидании с Екатериной по возвращении в Петербург из Варшавы, Суворову было предложено главное начальствование над затевавшейся тогда персидской экспедицией. Но он просил дать ему подумать. Теперь же, возвратившись из Финляндии, он категорически отказался от экспедиции, о чем, однако, очень сожалел потом, когда началась экспедиция и крайне неумело велась Зубовыми. Эта экспедиция, начатая по личным расчетам фаворита Платона Зубова, послужила поводом для самых злостных нападок со стороны Суворова. А так как зять Суворова, Николай Зубов, старался отстаивать брата, то это послужило одним из главных поводов для сильного охлаждения Суворова не только к зятю, но и к жене его, к своей Наташе, к которой он был прежде так внимателен и нежен.
Он получил в командование самую большую из трех существовавших тогда армий, заключавшую в себе войска, находившиеся в губерниях: ярославской, пермской, екатеринославской, харьковской и таврической области, всего – 13 кавалерийских и 19 пехотных полков, черноморский гренадерский корпус, три егерских корпуса, 40 осадных и 107 полевых орудий, 48 понтонов; да кроме того еще три полка чугуевских и екатеринославское пешее и конное войско. Штаб-квартиру свою он устроил в Тульчине.
С любовью и увлечением отдался Суворов порученной ему армии, в которую он отправился в половине марта 1796 года. Менее чем в годичный срок он довел военное обучение вверенных ему войск до высокой степени совершенства, образцово поставив их, вместе с тем, в отношении продовольствия, одежды, гигиенических условий жизни, занятий полезными работами и духовно-нравственной пищи.
В Тульчине, как и вообще, Суворов вел необыкновенно деятельную жизнь. Вставал очень рано и в течение дня несколько раз окачивался холодной водой во всякое время года. Обедал около 8 часов утра, когда и принимал посетителей, охотно проводя с ними в беседе за столом около полутора-двух часов и более. Затем все остальное время (кроме кратковременного сна среди дня) от момента вставания до ночного отдыха он беспрерывно занимался или служебными делами, или просмотром той массы периодических изданий общего и специального характера, русских и иностранных, которые он обязательно получал всегда. Кроме того, немало времени уходило на изучение языков финского, турецкого и татарского. Суворов очень любил общество, всевозможных родов игры и развлечения, вносил большое оживление в местную жизнь и имел всегда и везде громаднейший круг поклонников и поклонниц, высоко ценивших его за необычайную веселость, живость, подвижность, блестящую остроту ума, колкость языка, благородную ядовитость речи. Где бы он ни был – положительно влюблял в себя простотою и естественностью обращения, задушевной искренностью и прямотой. Но к величайшему несчастью, в мирной и плодотворной деятельности Суворова неожиданно произошел крутой и резкий поворот.
6 ноября скончалась Екатерина, и на престол вступил сын ее, Павел Петрович. Воцарение Павла было названо в свое время “затмением”. Одно из наиболее преданных Павлу лиц, между прочим, говорит о нем: “рассудок его был потемнен, сердце наполнено желчи и душа гнева”. В практической же его деятельности, – как видно из бесконечной цепи фактов кратковременного его царствования (4 года и 4 месяца), – все доброе уничтожалось необыкновенной раздражительностью и подозрительностью, неразумной требовательностью, нервическим нетерпением, отсутствием чувства меры, надменным непризнаванием человеческого достоинства. Очевидная болезнь души.
Екатерина, всегда строго державшаяся приличий, не считала этого обязательным для себя в отношении сына: обыкновенно бывала к нему невнимательна, черства и жестка. Постепенно увеличивавшаяся холодность взаимных отношений перешла в отчужденность, а затем – и в явно неприязненное чувство между матерью и сыном. Считаясь наследником престола, Павел Петрович, однако, не имел никаких государственных занятий, ничего официально-делового, нигде не присутствовал. Он уединялся в загородных дворцах Павловска и Гатчины с полным отстранением не только от государственной деятельности, но и от круга просвещенных людей. Немудрено, что, желая как-нибудь занять свой досуг, он ударился в резкую крайность – стал изобретать свою собственную военную систему, где обучение и служба сводились к механическому выполнению ничтожнейших мелочей при высокой степени требовательности и при условии чисто скотского повиновения. Все это, оставаясь почти в размерах детской забавы, вместе с тем представляло собой крайне неумелое, даже извращенное подражание прусскому военному образцу с усвоением прусского военного устава и прусской же формы одежды.
Павел I, вступая на престол, был весь проникнут до самозабвения огульным отрицанием всего, что было сделано в прошлое царствование. К каким глубоко прискорбным последствиям приводило это на деле, можно видеть на примере тех чудовищных превращений, которые выпали на долю фельдмаршала графа Суворова, пользовавшегося теперь уже такой громкой и почетной известностью, что буквально вся Европа завидовала России, имеющей этого гениального полководца, и не было страны, которая не желала бы иметь его своим военачальником. Между тем, Павел не задумался не только забраковать его, но даже и загнать в самый темный угол.
Вследствие нововведений Павла в половине декабря к Суворову были присланы два фельдъегеря для посылок вместо офицеров. Между тем, к новому году от него прибыл в Петербург капитан с частными письмами без служебной корреспонденции. По докладу Павлу об этом ничтожнейшем пустяке последовал приказ: выразить Суворову неудовольствие, причем указанное употребление офицеров было названо “не приличным ни службе, ни званию их”. Узнав же из расспросов посланного, что Суворов еще не распустил своего штаба, как это требовалось все теми же “нововведениями”, государь повелел добавить в приказе “удивление” этому, а также и подтверждение о непременном и немедленном исполнении его воли. Не успел еще Суворов получить уведомление об этом, как на нем были уже насчитаны три новые вины.
Прежде всего он провинился тем, что поднял вопрос о некотором изменении в расположении состоящих у него войск, – что прежде он делал совершенно самостоятельно. Вторая его провинность – ходатайство оставить под своим ведением генерал-майора Исаева, давнего сослуживца Суворова. Наконец, третья его провинность – отпуск в Петербург подполковника Батурина. По поводу всего этого в половине января 1797 года последовал следующий рескрипт на имя Суворова:
“С удивлением вижу я, что вы без дозволения моего отпускаете офицеров в отпуск, и для того надеюсь я, что сие будет в последний раз. Не менее удивляюсь я, почему вы входите в распределение команд, прося вас предоставить это мне. Что же касается до рекомендации вашей, то и сие в мирное время до вас касаться не может; разве в военное время, если непосредственно под начальством вашим находиться будет. Вообще рекомендую поступать во всем по уставу”.
Кроме того, в высочайшем приказе 15 января Суворову объявлен еще выговор. Но, не успев даже получить эти повеления, Суворов вновь послал в Петербург офицера с донесением, что не получил еще повеления о неупотреблении офицеров для курьерских должностей. В припадке бешенства Павел отправил злополучного посла в гарнизонный полк, в Ригу, для какого-то будто бы “примера другим”; Суворову же выразил в рескрипте крайнее неудовольствие, где, например, сказано в заключение:
“Удивляемся, что вы – тот, кого мы почитали из первых по исполнению воли нашей, остаетесь последним”. Кроме того Суворову еще был объявлен выговор в Высочайшем приказе.
Еще по получении первого из указанных выше рескриптов Суворов, оскорбленный и возмущенный, подал 11 января прошение об увольнении его в годичный отпуск, справедливо ссылаясь на свои “многие раны и увечья”. На прошение последовал отказ 19 января, что будто бы “обязанности службы препятствуют от оной отлучиться”.
3 февраля Суворов подал прошение об отставке. По поводу этой просьбы ему был написан беспощадно-жестокий и возмутительно-несправедливый указ, в самой злостной и грубой форме. По поручению государя, Суворову ответили 14 февраля:
“Государь Император, получа донесение вашего сиятельства от 3-го февраля, соизволил указать – доставить к сведению вашему, что желание ваше предупреждено было, и что вы отставлены еще 6 числа сего месяца”.
Само же “отставление” это было произведено следующим образом. На разводе 6 февраля был отдан приказ:
“Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь Его Императорскому Величеству, что так как войны нет, и ему делать нечего, за подобный отзыв отставляется от службы”. (Ни грамматики, ни логики!!..)
Суворов, заслугами добившийся графства и фельдмаршальства, прослуживший чуть не вдвое более узаконенного срока, проведший на службе почти всю свою жизнь и буквально отдавший ей все свое здоровье и силы, на 67 году жизни “отставлен от службы даже без права ношения мундира!..” А затем еще – и быстро был низведен буквально до самого прозябательного состояния…
Сдавши дела в Тульчине своему преемнику, Суворов в исходе марта 1797 года отправился в Кобрин, чтобы заняться там делами имения и привести его в порядок. Но даже и это немногое в личном его хозяйственном деле не дали ему осуществить. Ночью, 22 апреля, когда Суворов не успел даже и осмотреться по имению, к нему приехал в Кобрин коллежский советник Николаев и предъявил следующее высочайшее повеление:
“Ехать вам в Кобрин или другое место пребывания Суворова, откуда его привести в боровицкие его деревни, где и препоручить Вындомскому (боровичскому городничему), а в случае надобности – требовать помощи от всякого начальства”.
Отъезд так торопили, что не было никакой возможности сделать распоряжения, отдать приказания, забрать бриллианты более чем на 300 тысяч рублей и другие ценные вещи. Не успели даже подвести счетов, чтобы снабдить Суворова деньгами на дорогу, так что ему пришлось довольствоваться тысячей рублей, одолженных управляющим имением.
Суворова водворили в родовом его селе Кончанском, настолько запущенном, что полуразвалившийся дом был трудно обитаем даже в теплое время года, так как он плохо защищал от стихийных невзгод и совершенно был необитаем во время осенних холодов и в зимнюю пору. Не говоря уже о том, что сравнительно благоустроенный Кобрин с прекрасным домом не мог даже идти в сравнение с захолустнейшим Кончанском, нужно еще заметить, что это вынужденное переселение представляло собою глубоко существенное ухудшение в положении Суворова во всех отношениях. В Кобрине Суворов был только опальным, в Кончанске же он – ссыльный, да притом еще и поднадзорный…
В июле его посетили: дочь, то есть графиня Зубова, с маленьким своим сыном, всего нескольких месяцев, и сын Аркадий. Это посещение близких людей несколько скрасило его ссылку; но, к сожалению, оно не могло быть продолжительным, так как семья Суворова, теснившаяся кое-как в летнюю пору, не могла уже оставаться в Кончанске с наступлением холодного времени. Она уехала 21 сентября, и ссыльное положение Суворова стало еще тяжелее, так как одновременно с этим усилена поднадзорность. Специальным дозорным был назначен все тот же Николаев, человек полуграмотный, неразвитой. Для него этот дозор был единственным средством к существованию, и потому он из сил выбивался, усердствуя в надзоре; старался совать свой неопрятный нос решительно во весь склад и строй жизни Суворова; умышленно преувеличивал состояние здоровья Суворова, которое, в действительности, было очень плохо, требовало заботливого внимания и ухода. Но этого, безусловно, невозможно было добиться в Кончанске, где Суворову пришлось поселиться на зиму в простой крестьянской избе вследствие окончательной непригодности для жилья собственного дома. В простом ежедневном его костюме произошло упрощение до последней крайности: он ходил даже без рубашки, в одном нижнем белье, как обыкновенно делывал это в лагерное время.
Николаев прибыл в Кончанск накануне отъезда семьи Суворова, и, по-видимому, неожиданное появление сыщика ускорило отъезд. С этой поры жизнь Суворова была опутана сплошной сетью дозора в самой дерзкой и насильственной форме. К Суворову никого не допускали, отказывали всем, являвшимся к нему, не сообщая даже о них Суворову. Самому ему запрещено было ездить к соседям. Письма обязательно перехватывались. Все хозяйственные распоряжения его задерживались для испрашивания разрешений из Петербурга. К этому нужно прибавить еще неожиданно обрушившуюся на Суворова массу казенных взысканий и частных претензий, которые в короткий промежуток времени превысили 100 тысяч рублей. Все они касались службы его как военачальника, предводителя войск; значит и удовлетворять их должен не Суворов, а казна. В действительности же было как раз наоборот. По заявлениям не производилось никаких предварительных расследований; о них не сообщалось даже Суворову как ответчику: они просто обращались ко взысканию, безапелляционно, да притом еще с суровым подтверждением “не затягивать исполнения”…
Таким взысканиям не предвиделось конца, так как их не начинали разве только ленивые. Дело явно и открыто было направлено к беззаконному, насильственному разорению Суворова, прямо-таки к ограблению его. И он, беззащитный и беспомощный, безропотно подчинился жестокой судьбе, приняв такое решение:
“В несчастном случае – бриллианты; я их заслужил, Бог дал, Бог и возьмет и опять дать может”.
Наконец, вторглись даже и в личную семейную жизнь Суворова, притом в самой беззастенчивой и оскорбительной форме. Прошло 13 лет уже, как он разошелся с женой. Все время он ежегодно выплачивал ей приличную пенсию (до 3 тысяч рублей); она же, не задумываясь, жила выше средств, входя в долги. Теперь, воспользовавшись бесправным и приниженным состоянием мужа, она обратилась с просьбой обязать его: уплатить ее долг в 22 тысячи рублей; выдавать ей на прожитье ежегодно по 8 тысяч рублей и предоставить в ее пользование дом в Москве. Просьба эта была моментально удовлетворена, без всякого рассмотрения, – и Суворова высочайшим повелением обязали выполнить ее.
Ко всему этому еще нужно прибавить полное разграбление в Кобрине вследствие окончательной невозможности личного руководства и контроля. При таких условиях существования прошло около года. Наконец, 14 февраля 1798 года перед Суворовым неожиданно предстал племянник его, 19-летний юноша, подполковник Андрей Горчаков, флигель-адъютант Павла I, с предложением немедленно ехать в Петербург на основании следующего высочайшего повеления от 12 февраля:
“Ехать вам, князь, к графу Суворову; сказать ему от меня, что если было что от него мне, я сего не помню; что может он ехать сюда, где, надеюсь, не будет повода подавать своим поведением к наималейшему недоразумению”. Одновременно с этим и генерал-прокурору было предписано: “Дозволив графу Суворову приехать в Петербург, находим пребывание Николаева там ненужным”.