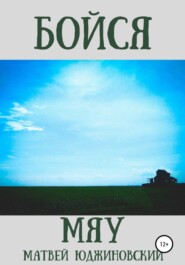По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Переход
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Переход
Матвей Юджиновский
Юрат играет на гитаре в подземном переходе, подрабатывает мойщиком на кухне ресторана, терпит тиранию матери и мечтает о карьере музыканта, как у отца, но лучше. Не такой мимолетной. И однажды у него появляется необычный слушатель. Загадочная Крыса обещает ему славу и успех и даже душу не требует взамен. Какая-то игра в «крысы-кошки», но соблазн так велик.
Матвей Юджиновский
Переход
Я на пересечении. Физическом и мета. Потоки машин, потоки людей – как оси координат, я – центр. Начало и конец. Мой мир встречается здесь с суетой и спешкой, а ритм – с гулом. Но важнее, как кривые пальцев пересекаются с прямыми струн. Я в переходе.
Извлекаю из шестижильного Мо свою музыку. Пою. Стены, пол, и потолок, и даже колонны поют тоже. Моя мелодия и мои слова, они так не звучат больше нигде. Ни на квартирнике, ни на пикнике, ни на Ютубе. С собственной песней никогда не угадаешь: может не принести ни монеты, а может ухватить, остановить, наполнить и вылиться скромными аплодисментами. Но такое мое правило: две для них, одну для себя. Подслушал у инди-режиссеров.
Переход – загадочное место. Хватит лишнего шага, лишнего поворота головы или отголоска имени, чтобы однажды это признать. Или неозвученной даже мысли, что всем тут плевать на наши с Мо старания, – всякий раз переход доказывает, что это не так. Не было дня, чтобы в поношенный комбинезончик Мо не подкинули монет и бумажек. Не было недели, чтобы кто-то не спотыкался о наши голоса и не оставался послушать. Раз заблудившийся в вине респектабельный мужчина всучил рыжую купюру с тремя нулями. Раз огненно-рыжая девчонка с веснушчатым взглядом слушала меня нескончаемый час. Ее имя – Лиза. И теперь мы… Мы дружим.
Вспомнилось, похоже, потому, что и сейчас кто-то смотрит. Настойчиво. Тогда это было волнительно: Лиза глядела без улыбки, как-то напряженно, я – только начинал. Теперь уже привычно. И все же: да, привычно, если, конечно, этот кто-то не думает прятаться.
Песня кончается, за новой не спешу. Встряхиваю пальцами, потираю ладони: осень, лето уже отпел. Не спешу, в общем. Не для себя – для него. Мол, все, баста, гуляй…
Но взгляд не сходит. Я у колонны, он – за колонной через колонну. И не показывается. Сильно этим доволен. И откуда я это знаю? Самому странно, будто колонны, уже мои друзья, выдали мне его веселье. Или ее? Их?.. Переход – загадочное место. Здесь прячутся, теряются, засыпают и просыпаются, не просыпаются. Здесь торопятся и не успевают, остаются. Темными пятнами, осколками, огрызками объявлений, черточками подошв, эхом.
Вот!
Нос. Как нарыв, пульсирующий, лоснящийся, на мраморной коже колонны. Вижу только его. Он смотрит в стену, но щупает меня. А еще губа под ним, вздернутая, натянута к самому кончику. Разве такое бывает?.. А вот и брови: он (она?) выползает. Медленно, словно просачивается через поры мрамора. Жирный кончик носа, подрагивая магнитной стрелкой, поворачивается, ищет меня. Я жду глаз. Хотя и не желаю. Не интересно, даже больше – не по себе. Но я жду.
Взрыв хохота – спасение: отцепляюсь, выныриваю. Орущая молодость всюду, подростки – благослови их! – спешат в благословенный ТЦ на другой стороне.
Спасение? Серьезно? Время самому рассмеяться. Сколько уродов видел, и от скольких уберегла судьба, но ни разу не выдыхал: спасение… Однако они пропали. Нос, взгляд и кто-то. У колонны их нет, идти к ней, проверить и мысли нет. Достаточно того, что отпустило. Достаточно, что есть «Пачка сигарет».
Я поднимаюсь после семи. Выхожу в скучающие сумерки, на разбитый тротуар, незвуковую дорожку. Остывающего Мо на плечо, шаги – не аккорды: однозвучны. Пускай город поет, ему за это платят больше.
Вверх по затихающим улицам, выше по мощеной лестнице через сквер и к дому. А дальше снова ступени, пролеты и разреженный воздух. Лифт опущен давно несмываемой лужицей. Уж лучше бы там кого-то зарезали. Потому – ступени. Они избавлены от этого проклятия. Возможно, как раз освященные кровавыми жертвами. Мне до седьмого этажа. Или восьмого. Да все одно. Уж много лет, как таинственный бунтарь с краской решил сломать систему – в нашем доме отсчет идет с нуля. А времена, когда в лифте я уверенно жал на восьмерку, уже подзабылись.
У двери неизменно перехватывает дыхание. За порогом оно не мое. Квартира не моя, порог этот не мой, и жизнь тоже. У матери своя песня на заезженной до мучительного скрежета пластинке. Ей не нравится Мо. Она плюется от крысиного запаха, который я приношу с собой и который, хоть убейте, не ощущаю. Ее воротит от жестяной баночки табачной фабрики «Дукатъ», куда я сбрасываю звенящий гонорар. Жалкие подачки из грязных рук, скажет она, им не место в моем доме. Как и этой жестянке, да, знаю, но именно в ней им и место, иначе она давно бы выкинула табакерку на помойку. Она отцовская, у него была трубка.
Самое страшное на работе не грязная посуда в мойке, а радио. «Русское», 105,7. Двенадцать часов все те же два десятка въедливых песенек – и так по кругу. Причем русский на кухне я один. Да и то на треть: исключительно за счет фамилии. Иванов – ненавижу. Даже болтливые повара зовут Ваней. Понятия не имею, знают ли настоящее имя. Только шеф, проповедующий японское уважение к любому труду, зовет Юрой, уверенный, что правильно. Ну, почти. На самом деле, он как потерял еще в первый день букву «т» на конце, так и оставил.
Из-за опоздания Анатоль-Борисыч-сан повесил на меня и уборку в зоне раздачи. Наказание небольшое по площади, но шеф вычислил, как я не рвусь туда, хотя, казалось бы, играю в переходе, должен уже привыкнуть к косым взглядам. Долго и старательно домываю последнюю кастрюлю в раковине, а новые не несут.
– Давай не стой, Юра. Закончил – беги на раздачу, – бросает АнБори-сан между пробами рамена и удона. Турсун – он сегодня на супах – весело хмыкает.
Отпускаю кастрюлю, стягиваю – по пальчику – перчатки.
– Не стесняйся, Ванечка, – улыбается Сауле, – там сейчас как раз никого, пошли.
Обреченно киваю. Чтобы в ее-то смену в зале не было ни единого влюбленного в ее глаза и голос? Ну-ну.
Проклинаю свою дотошность: даже теперь, когда скорее бы нырнуть обратно в кухню, не могу не залезть шваброй в каждую щель.
– Молодой человек, примите заказ, пожалуйста.
– Это не ко мне, – качаю головой, не отвлекаясь от размеренного скольжения тряпки. И только спустя пару секунд узнаю.
– К тебе, дурачок. Хочу «Грустно-веселую».
Замираю. Внезапно самому грустно и весело, радостно и больно. Для Лизы не секрет моя моечная каторга, даунворкинг, как она любит шутить, но со шваброй она меня еще не видела.
– Будет. Позже. В семь у тебя, так? – опираюсь на черенок, как если бы это была стойка микрофона. И улыбаюсь, как если бы был эксцентричным владельцем этого ресторана.
– Именно, – кивает Лиза и пропускает мужика, катящего пустой поднос мимо салатов.
– Я опоздаю на часок.
Сегодня уйду ровно в восемь, пораньше шеф, понятное дело, не отпустит: не заслужил.
– Ну, не страшно. Главное – приходи. И знаешь… приоденься: я там подругу одну позвала, – добавляет она со значением.
– Ну Ли-и-за! Опять? – чувствую, как подтошнивает.
– Да ты ж ее даже не видел! – возмущается, посмеиваясь. Ну Лиса! – Она, знаешь, как музыкантов обожает.
– Ли, у них тут бургеров нет! – выскакивает из ниоткуда Слава. – Здарово, бро, волонтеришь?
– Славик, у них тут ресторан азиатской кухни, – киваю я на раздачу.
– А что, нет каких-то азиатских бургеров? – гремит он, сгребая Лизу в охапку. – Китайских там. Я думал, у нас все сейчас китайское, – и смеется.
– Суши, лапша, шаурма, пожалуйста, – отвечаю улыбкой и возвращаюсь к уборке.
– Тебя этим здесь кормят? Ты же мужик, как ты без мяса?
– Это я тебя сейчас на мясо освежую! – глотаю, сжимая челюсти.
Швабру бы пополам: на один кол – посадить, второй – вбивать в сердце, пока M?tley Cr?e играют свой Theatre of Pain.
– Слав, что с тобой? – звучит встревоженно Лиза.
– Что? – не понимает он.
Отрываюсь от пола. Лиза тянется к салфеткам:
– У тебя кровь из носа.
Слава трогает губу под носом, потом смотрит на пальцы. Там красное. Но вижу это уже боковым зрением: за столиком позади знакомая физиономия.
– Не страшно, Ли, бывает…
Слава говорит еще, но я не слышу. Рожа глазеет на меня, мелко кивает и лыбится. Мерзко, заговорчески, словно мы одни знаем, какая жесть уготована всем вокруг. И это настолько весело, что не утерпеть.
Слава, высокий и мощный, стоит, запрокинув голову, сжимая нос. А лицо бледное, рука судорожно ищет салфетки. Лиза же, как напуганная мамочка, сама хочет стереть кровь.
Матвей Юджиновский
Юрат играет на гитаре в подземном переходе, подрабатывает мойщиком на кухне ресторана, терпит тиранию матери и мечтает о карьере музыканта, как у отца, но лучше. Не такой мимолетной. И однажды у него появляется необычный слушатель. Загадочная Крыса обещает ему славу и успех и даже душу не требует взамен. Какая-то игра в «крысы-кошки», но соблазн так велик.
Матвей Юджиновский
Переход
Я на пересечении. Физическом и мета. Потоки машин, потоки людей – как оси координат, я – центр. Начало и конец. Мой мир встречается здесь с суетой и спешкой, а ритм – с гулом. Но важнее, как кривые пальцев пересекаются с прямыми струн. Я в переходе.
Извлекаю из шестижильного Мо свою музыку. Пою. Стены, пол, и потолок, и даже колонны поют тоже. Моя мелодия и мои слова, они так не звучат больше нигде. Ни на квартирнике, ни на пикнике, ни на Ютубе. С собственной песней никогда не угадаешь: может не принести ни монеты, а может ухватить, остановить, наполнить и вылиться скромными аплодисментами. Но такое мое правило: две для них, одну для себя. Подслушал у инди-режиссеров.
Переход – загадочное место. Хватит лишнего шага, лишнего поворота головы или отголоска имени, чтобы однажды это признать. Или неозвученной даже мысли, что всем тут плевать на наши с Мо старания, – всякий раз переход доказывает, что это не так. Не было дня, чтобы в поношенный комбинезончик Мо не подкинули монет и бумажек. Не было недели, чтобы кто-то не спотыкался о наши голоса и не оставался послушать. Раз заблудившийся в вине респектабельный мужчина всучил рыжую купюру с тремя нулями. Раз огненно-рыжая девчонка с веснушчатым взглядом слушала меня нескончаемый час. Ее имя – Лиза. И теперь мы… Мы дружим.
Вспомнилось, похоже, потому, что и сейчас кто-то смотрит. Настойчиво. Тогда это было волнительно: Лиза глядела без улыбки, как-то напряженно, я – только начинал. Теперь уже привычно. И все же: да, привычно, если, конечно, этот кто-то не думает прятаться.
Песня кончается, за новой не спешу. Встряхиваю пальцами, потираю ладони: осень, лето уже отпел. Не спешу, в общем. Не для себя – для него. Мол, все, баста, гуляй…
Но взгляд не сходит. Я у колонны, он – за колонной через колонну. И не показывается. Сильно этим доволен. И откуда я это знаю? Самому странно, будто колонны, уже мои друзья, выдали мне его веселье. Или ее? Их?.. Переход – загадочное место. Здесь прячутся, теряются, засыпают и просыпаются, не просыпаются. Здесь торопятся и не успевают, остаются. Темными пятнами, осколками, огрызками объявлений, черточками подошв, эхом.
Вот!
Нос. Как нарыв, пульсирующий, лоснящийся, на мраморной коже колонны. Вижу только его. Он смотрит в стену, но щупает меня. А еще губа под ним, вздернутая, натянута к самому кончику. Разве такое бывает?.. А вот и брови: он (она?) выползает. Медленно, словно просачивается через поры мрамора. Жирный кончик носа, подрагивая магнитной стрелкой, поворачивается, ищет меня. Я жду глаз. Хотя и не желаю. Не интересно, даже больше – не по себе. Но я жду.
Взрыв хохота – спасение: отцепляюсь, выныриваю. Орущая молодость всюду, подростки – благослови их! – спешат в благословенный ТЦ на другой стороне.
Спасение? Серьезно? Время самому рассмеяться. Сколько уродов видел, и от скольких уберегла судьба, но ни разу не выдыхал: спасение… Однако они пропали. Нос, взгляд и кто-то. У колонны их нет, идти к ней, проверить и мысли нет. Достаточно того, что отпустило. Достаточно, что есть «Пачка сигарет».
Я поднимаюсь после семи. Выхожу в скучающие сумерки, на разбитый тротуар, незвуковую дорожку. Остывающего Мо на плечо, шаги – не аккорды: однозвучны. Пускай город поет, ему за это платят больше.
Вверх по затихающим улицам, выше по мощеной лестнице через сквер и к дому. А дальше снова ступени, пролеты и разреженный воздух. Лифт опущен давно несмываемой лужицей. Уж лучше бы там кого-то зарезали. Потому – ступени. Они избавлены от этого проклятия. Возможно, как раз освященные кровавыми жертвами. Мне до седьмого этажа. Или восьмого. Да все одно. Уж много лет, как таинственный бунтарь с краской решил сломать систему – в нашем доме отсчет идет с нуля. А времена, когда в лифте я уверенно жал на восьмерку, уже подзабылись.
У двери неизменно перехватывает дыхание. За порогом оно не мое. Квартира не моя, порог этот не мой, и жизнь тоже. У матери своя песня на заезженной до мучительного скрежета пластинке. Ей не нравится Мо. Она плюется от крысиного запаха, который я приношу с собой и который, хоть убейте, не ощущаю. Ее воротит от жестяной баночки табачной фабрики «Дукатъ», куда я сбрасываю звенящий гонорар. Жалкие подачки из грязных рук, скажет она, им не место в моем доме. Как и этой жестянке, да, знаю, но именно в ней им и место, иначе она давно бы выкинула табакерку на помойку. Она отцовская, у него была трубка.
Самое страшное на работе не грязная посуда в мойке, а радио. «Русское», 105,7. Двенадцать часов все те же два десятка въедливых песенек – и так по кругу. Причем русский на кухне я один. Да и то на треть: исключительно за счет фамилии. Иванов – ненавижу. Даже болтливые повара зовут Ваней. Понятия не имею, знают ли настоящее имя. Только шеф, проповедующий японское уважение к любому труду, зовет Юрой, уверенный, что правильно. Ну, почти. На самом деле, он как потерял еще в первый день букву «т» на конце, так и оставил.
Из-за опоздания Анатоль-Борисыч-сан повесил на меня и уборку в зоне раздачи. Наказание небольшое по площади, но шеф вычислил, как я не рвусь туда, хотя, казалось бы, играю в переходе, должен уже привыкнуть к косым взглядам. Долго и старательно домываю последнюю кастрюлю в раковине, а новые не несут.
– Давай не стой, Юра. Закончил – беги на раздачу, – бросает АнБори-сан между пробами рамена и удона. Турсун – он сегодня на супах – весело хмыкает.
Отпускаю кастрюлю, стягиваю – по пальчику – перчатки.
– Не стесняйся, Ванечка, – улыбается Сауле, – там сейчас как раз никого, пошли.
Обреченно киваю. Чтобы в ее-то смену в зале не было ни единого влюбленного в ее глаза и голос? Ну-ну.
Проклинаю свою дотошность: даже теперь, когда скорее бы нырнуть обратно в кухню, не могу не залезть шваброй в каждую щель.
– Молодой человек, примите заказ, пожалуйста.
– Это не ко мне, – качаю головой, не отвлекаясь от размеренного скольжения тряпки. И только спустя пару секунд узнаю.
– К тебе, дурачок. Хочу «Грустно-веселую».
Замираю. Внезапно самому грустно и весело, радостно и больно. Для Лизы не секрет моя моечная каторга, даунворкинг, как она любит шутить, но со шваброй она меня еще не видела.
– Будет. Позже. В семь у тебя, так? – опираюсь на черенок, как если бы это была стойка микрофона. И улыбаюсь, как если бы был эксцентричным владельцем этого ресторана.
– Именно, – кивает Лиза и пропускает мужика, катящего пустой поднос мимо салатов.
– Я опоздаю на часок.
Сегодня уйду ровно в восемь, пораньше шеф, понятное дело, не отпустит: не заслужил.
– Ну, не страшно. Главное – приходи. И знаешь… приоденься: я там подругу одну позвала, – добавляет она со значением.
– Ну Ли-и-за! Опять? – чувствую, как подтошнивает.
– Да ты ж ее даже не видел! – возмущается, посмеиваясь. Ну Лиса! – Она, знаешь, как музыкантов обожает.
– Ли, у них тут бургеров нет! – выскакивает из ниоткуда Слава. – Здарово, бро, волонтеришь?
– Славик, у них тут ресторан азиатской кухни, – киваю я на раздачу.
– А что, нет каких-то азиатских бургеров? – гремит он, сгребая Лизу в охапку. – Китайских там. Я думал, у нас все сейчас китайское, – и смеется.
– Суши, лапша, шаурма, пожалуйста, – отвечаю улыбкой и возвращаюсь к уборке.
– Тебя этим здесь кормят? Ты же мужик, как ты без мяса?
– Это я тебя сейчас на мясо освежую! – глотаю, сжимая челюсти.
Швабру бы пополам: на один кол – посадить, второй – вбивать в сердце, пока M?tley Cr?e играют свой Theatre of Pain.
– Слав, что с тобой? – звучит встревоженно Лиза.
– Что? – не понимает он.
Отрываюсь от пола. Лиза тянется к салфеткам:
– У тебя кровь из носа.
Слава трогает губу под носом, потом смотрит на пальцы. Там красное. Но вижу это уже боковым зрением: за столиком позади знакомая физиономия.
– Не страшно, Ли, бывает…
Слава говорит еще, но я не слышу. Рожа глазеет на меня, мелко кивает и лыбится. Мерзко, заговорчески, словно мы одни знаем, какая жесть уготована всем вокруг. И это настолько весело, что не утерпеть.
Слава, высокий и мощный, стоит, запрокинув голову, сжимая нос. А лицо бледное, рука судорожно ищет салфетки. Лиза же, как напуганная мамочка, сама хочет стереть кровь.