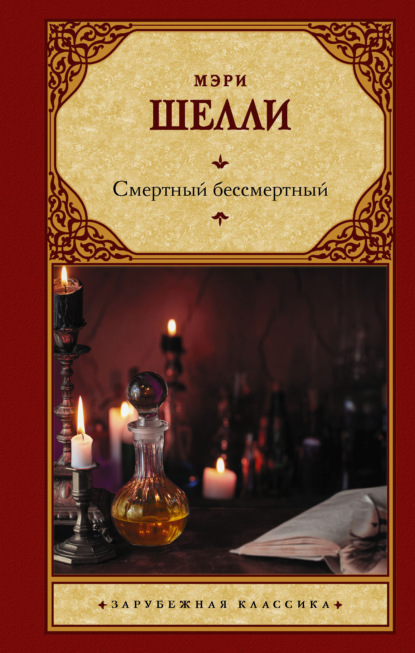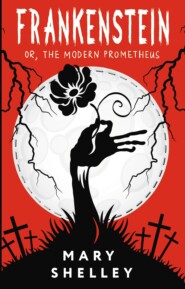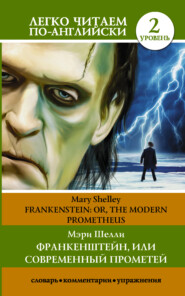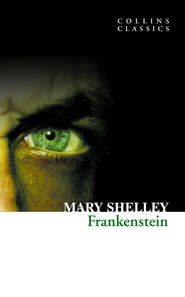По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смертный бессмертный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дмитрий схватился за рукоять кинжала – кинжала не было; наполовину выхватил из-за кушака пистолет – но маленький Констанс, вновь прильнув к своему былому другу, схватил его за руку. Клефт взглянул на мальчика; он страстно желал прижать его к груди, но боялся обмана. Он отвернулся и закрыл лицо плащом, пряча скорбь и не давая воли своим чувствам, пока не услышит все до конца. Камараз продолжал:
– Все обернулось куда хуже, чем я ожидал. У молодой женщины была дочь: страшась за жизнь ребенка, она боролась с моими молодцами, словно тигрица, защищающая потомство. Я в другой комнате разыскивал спрятанное сокровище, как вдруг душераздирающий вопль пронзил воздух. Хоть никогда прежде я не ведал жалости, этот крик проник мне в сердце – но было слишком поздно: женщина уже пала на землю, влага жизни сочилась из ее груди. Не знаю почему, но сострадание к зарубленной красавице пересилило во мне иные чувства. Я приказал перенести ее и дитя на борт, чтобы посмотреть, нельзя ли ее спасти, но она умерла, едва мы снялись с якоря. Я подумал, что она предпочла бы покоиться на родном острове, а кроме того, по правде сказать, боялся, что, если увезу ее, она обернется вампиром и начнет меня преследовать; вот почему мы оставили тело хиотским священникам, а девочку увезли с собой. Ей было около двух лет, она едва могла пролепетать несколько слов: мы разобрали только, что ее зовут Зеллой. Она-то и есть мать этого мальчика!
Много ночей бедная Зелла не смыкала глаз, следя за прибывающими в Кардамилу кораблями. Видя, что госпожа лишилась сна, служанка подмешала в пищу опиум и уговорила ее немного поесть; бедная женщина забыла, что дух сильнее плоти, а любовь одолевает все препятствия, и телесные, и духовные. С открытыми глазами лежала Зелла на своем ложе: дух ее затуманился, но сердце бодрствовало. Среди ночи, ведомая необъяснимым порывом, она прильнула к окну – и увидела, что в залив входит маленькая саколева: она шла быстро, подгоняемая попутным ветром, и скоро скрылась за выступающим утесом. Легко спрыгнула Зелла на мраморный пол своих покоев, окутав плечи шалью, спустилась по каменистой тропе и быстрым шагом достигла берега. Судно все не показывалось, и Зелла уж готова была поверить, что ее обмануло возбужденное воображение – однако не трогалась с места. Всякий раз, пытаясь шевельнуться, она ощущала слабость и тошноту; веки ее отяжелели и сами собой закрывались. Наконец желание заснуть стало необоримым: она прилегла на камни, плотнее завернулась в шаль и забылась сном.
Так глубоко было ее забытье, навеянное снотворным снадобьем, что много часов она не замечала, что творилось вокруг. Просыпалась она постепенно, и постепенно осознавала, что происходит. Веет прохладный свежий ветерок – значит, она по-прежнему на берегу моря; где-то рядом плещут волны – тот же плеск звучал у нее в ушах перед сном. Но ложе ее не из камня, и мрачный утес более не служит ей пологом. Зелла подняла голову… что это? Она на борту суденышка, разрезающего морские волны; под головой у нее соболья накидка; по левую руку – мыс Матапан; корабль идет прямо на полдень. Ее объял не страх – изумление; быстрой рукой отодвинула она занавес, скрывавший ее от глаз моряков…
Боже! Страшный албанец сидел с ней рядом, и на руках его покоился Констанс. Зелла испустила крик – Кирилл обернулся, и в следующий миг она упала к нему в объятия.
Сон
Che dice mal d’amore
Dice una falsit?![47 - Лгут уста, хулящие любовь! (ит.)]
Итальянская песня
Легенда, которую мы сейчас расскажем, относится к началу царствования Генриха Четвертого, чье обращение и воцарение принесли мир измученной Франции, но не смогли залечить глубоких ран, нанесенных друг другу враждующими партиями. Память о раздорах и смертельных обидах еще жила меж примиренными, и часто, едва разняв руки после «дружеского» рукопожатия, былые враги непроизвольно хватались за кинжалы: язык оружия отвечал их страстям более галантного языка придворной любезности. Многие рьяные католики укрылись в отдаленных провинциях: там, в уединении, лелеяли они свое недовольство и с нетерпением дожидались дня, когда смогут заявить о нем открыто.
В большом, хорошо укрепленном шато на крутом берегу Луары, невдалеке от города Нанта, жила юная и прекрасная графиня де Вильнёв – последняя из рода, наследница семейного состояния. Целый год провела она в одиночестве в своей отдаленной обители, не появлялась при дворе, не участвовала в придворных празднествах: траур по отцу и братьям, погибшим в гражданских войнах, был тому понятной и уважительной причиной. Однако осиротевшая графиня унаследовала знатное имя и обширные земли. Скоро ей дали знать: король, ее опекун, желает, чтобы она отдала эти богатства вместе с рукой некоему дворянину, чье происхождение и состояние делают его достойным такого дара. В ответ Констанция изъявила желание принести обет безбрачия и уйти в монастырь. Король наложил на ее намерение решительный запрет: он видел в нем лишь плод скорби, охватившей чувствительную душу, и надеялся, что рано или поздно упругий дух юности прорвет мрачную пелену уныния.
Прошел год, но графиня упорствовала в своем решении. Наконец, не желая применять насилие – а кроме того, лично разобраться в том, что за причины побуждают юную, прекрасную, щедро одаренную судьбою девушку заживо похоронить себя в монастырских стенах, – Генрих объявил, что теперь, когда срок траура истек, намерен посетить ее замок; и если, добавил монарх, те доводы, что он представит, не склонят ее остаться в миру – что ж, тогда он не станет ей препятствовать.
Много дней Констанция провела в слезах, много ночей не знала покоя. Для всех затворив ворота, она, подобно леди Оливии в «Двенадцатой ночи», предавалась отшельничеству и унынию. Старших над ней не было; жалобы и упреки домашних скоро смолкли; ничто не мешало ей лелеять и пестовать свое горе. Но скорбь, горькая, жгучая, неотвязная гостья, постепенно сделалась ей ненавистна. Дух Констанции, юный, живой и пламенный, боролся с унынием, сопротивлялся ему, рвался его стряхнуть – однако приятные и радостные впечатления лишь оживляли сердечную муку, и графиня покорялась своей участи: пока она несла свою ношу безропотно, та хоть и давила на сердце, но не терзала его.
Часто Констанция покидала замок и бродила по окрестностям. Как ни просторны были ее покои, как ни высоки их своды, в четырех стенах и под лепными потолками она чувствовала себя, словно в клетке. Ясное небо, пологие холмы, древние леса, с которыми связывали Констанцию милые воспоминания прошлого, – все манило к себе, все звало найти покой под лиственным кровом. Нет неподвижности в природе: то ветерок прошелестит в ветвях, то солнце, скользя по небу, позолотит верхушки деревьев – все эти перемены успокаивали Констанцию и рассеивали глухую скорбь, что неотступно теснила ее сердце под крышей замка.
У границы густо заросшего парка располагался один укромный уголок, надежно скрытый от мира высокими тенистыми деревьями. Уголок этот был для Констанции под запретом – однако ноги ее сами находили к нему путь; вот и теперь, как ни старалась она держаться в стороне от заветной полянки, но уже в двадцатый раз за день возвращалась сюда, сама не понимая, как здесь очутилась. Присев на шелковистую траву, она устремила горестный взгляд на цветы, которые сама когда-то посадила, желая украсить свое зеленое убежище – храм воспоминаний и любви. В руке ее лежало письмо от короля – причина нового горя. На лице отражалось уныние; нежное сердце вопрошало судьбу, зачем та готовит ей – столь юной, одинокой, всеми покинутой – новые бедствия?
«Ничего иного не прошу, – думала Констанция, – только бы остаться навек в отцовском доме, где прошло мое детство, обливать слезами дорогие могилы, и здесь, в лесах, где когда-то снедала меня безумная мечта о счастье, вечно оплакивать свои погибшие надежды!»
Вдруг что-то зашелестело в кустах. Сердце у графини сильно забилось – но в тот же миг все утихло.
– Глупая! – пробормотала она. – Это все твое воображение! Здесь мы встречались, здесь сидела я, ожидая, когда шорох кустов возвестит о приближении любимого; и теперь, кролик ли пробежит мимо или птица пробудит лес от сна, – все говорит мне о нем. О Гаспар! Когда-то ты был моим – но никогда, никогда больше эта милая поляна не услышит твоих шагов!
Вновь зашелестели кусты, и из зарослей донеслись чьи-то шаги. Констанция поднялась; сердце ее затрепетало. Должно быть, это глупая Манон – снова будет уговаривать ее воротиться! Но нет, шаг звучит медленнее и тверже, чем у служанки; вот непрошеный гость показался из-за деревьев – теперь Констанция слишком ясно различала его черты. Первый порыв ее был – бежать. Бежать… не взглянув на него в последний раз, не услышав милого голоса перед тем, как монашеский обет разлучит их навеки? Нет, эта последняя встреча не оскорбит мертвецов – но, быть может, смягчит роковую скорбь, от которой так побледнели щеки юной графини.
Вот он стоит перед нею – возлюбленный, с которым Констанция некогда обменялась клятвами верности. Как и она, он печален; взор его молит: «Останься хоть на миг!» – и Констанция не в силах ему противиться.
– Не для того я пришел, госпожа, – заговорил молодой рыцарь, – чтобы бороться с твоей непреклонной волей. Я хотел лишь взглянуть на тебя в последний раз и проститься с тобою навеки. Я отправляюсь в Палестину. Молю, не хорони себя в монастырских стенах: того, кто тебе так ненавистен, ты больше не увидишь. Умру я на чужбине или останусь жив – Франция для меня навеки потеряна!
– Палестина! – воскликнула Констанция. – Страшное слово – но я ему не верю! Король Генрих не расстанется с храбрейшим из своих воинов. Ты помог ему взойти на трон – ты и должен его защищать. Нет, если мои слова хоть что-нибудь для тебя значат, не езди в Палестину!
– Одно твое слово… одна твоя улыбка… Констанция!
И юный влюбленный бросился перед ней на колени. Но образ его, когда-то милый и родной, а теперь чуждый и запретный, укрепил ее решимость.
– Прочь! – воскликнула она. – Ни слова, ни улыбки ты от меня не получишь! Зачем ты здесь – здесь, где бродят тени умерших и проклинают предательницу, что позволяет убийце смущать их священный покой?
– Когда любовь наша только расцветала и ты была ко мне добра, – отвечал рыцарь, – ты показала мне путь через лесную чащу, ты привела меня на эту поляну и здесь, под сводами древних дубов, поклялась, что будешь моей.
– Я согрешила, – отозвалась Констанция, – когда отворила двери родительского дома сыну врага; тяжек мой грех и страшно наказание!
От этих слов юный рыцарь преисполнился надеждой, однако ближе подойти не осмелился, видя, что девушка готова в любой миг обратиться в бегство. Вместо этого он заговорил:
– То была счастливая пора, Констанция: каждый вечер, когда я припадал к твоим ногам, дневной ужас в моем сердце сменялся блаженством. В мрачном моем замке царил дух ненависти и мести – но эта зеленая поляна, залитая звездным светом, стала для нас святилищем любви.
– Счастливая? – эхом откликнулась Констанция. – То была злосчастная пора: я нарушила свой долг – и воображала, что из этого выйдет что-то доброе и что Господь вознаградит меня за непослушание… Не говори мне о любви, Гаспар! – море крови разделяет нас! Не приближайся! Бледные тени мертвых и теперь стоят меж нами, предупреждают о моем проступке и грозят за то, что я слушаю речи убийцы.
– Но я не убийца! – воскликнул юноша. – Послушай, Констанция, я, как и ты, – последний в роду. Наши семьи смерть не пощадила: мы остались одни. Не так было, когда мы полюбили друг друга: тогда отец, братья, родные, да что там – даже мать моя дышала проклятьями роду Вильнёв… но я благословлял его. Я увидел тебя, любимая, и благословил твой род. Бог мира вселил в сердца наши любовь; много летних ночей провели мы втайне от всех на освещенных луною полянах, когда же день освещал землю, в этом милом приюте укрывались мы от его докучного надзора. Здесь, на этом самом месте, где я сейчас преклоняю колени пред тобою, мы, стоя на коленях, произнесли клятву верности. Неужели же ты отречешься от своего обета?
Слезы заструились по щекам Констанции; речи возлюбленного воскресили в ее памяти часы счастья.
– Замолчи! – вскричала она. – Ни слова более! Ты знаешь, Гаспар, или скоро узнаешь веру и решимость той, что не осмеливается стать твоей. Как могли мы говорить о любви и счастье, когда вокруг бушевали война, злоба и кровопролитие? Недолго цвели цветы, взращенные руками влюбленных: они погибли под ногами врагов. Мой отец погиб в схватке с твоим отцом; брат мой клялся, что твоя рука нанесла ему смертельный удар. Так это или нет – не знаю; но не все ли равно? Ты сражался на стороне тех, кто его убил. Молчи, ни слова более: слушать тебя – преступление пред душами усопших. Уходи, Гаспар, забудь обо мне. Генрих щедр и благороден, при его дворе тебе открыт славный путь; немало прекрасных дев пожелают, как я когда-то, обменяться с тобою клятвами, многие смогут даровать тебе счастье. Прощай! Да благословит тебя Пресвятая Дева! Я же не забуду высочайшую из заповедей Христовых – молиться за врагов. Прощай, Гаспар!
С этими словами она бросилась прочь, перебежала просеку и быстрыми шагами устремилась к замку. Оказавшись под защитою стен, Констанция отдалась порыву горя, бушующему в нежной груди. Ее терзала страшнейшая из скорбей – воспоминание о былых радостях, окрашенное горечью и угрызениями совести; любовь в ее сознании сплелась с воображаемой виной в страшный узел, словно живой человек, каким-то безжалостным палачом прикованный к мертвому телу.
Вдруг некая мысль посетила графиню. Сперва Констанция отринула ее как ребяческую и суеверную, но мысль не уходила. Девушка поспешно позвала служанку.
– Манон, – заговорила она, – спала ли ты когда-нибудь на ложе Святой Екатерины?
Манон перекрестилась.
– Господь сохрани! На моей памяти только две девицы на это отваживались: одна упала в Луару и утонула, а вторая только взглянула на узкое ложе и без лишних слов повернула назад. Страшное это место: если женщина не вела доброй и благочестивой жизни, горек будет час, когда она положит голову на святой камень!
Констанция также перекрестилась.
– Что говорить о доброй жизни? Лишь помощью Господа и святых его мы надеемся обрести праведность. Завтрашнюю ночь я проведу на ложе Святой Екатерины!
– Господи, помилуй! Да ведь завтра приезжает король!
– Тем более я нуждаюсь в помощи. Не может быть, чтобы от такой горькой скорби, как моя, не нашлось исцеления! Я надеялась принести мир обоим нашим домам; возможно ли, чтобы терновый венец стал моей наградой? Пусть Небеса направят мой путь. Завтра ночью я лягу спать на ложе Святой Екатерины: если правду говорят, будто святая является своим почитательницам во сне и указывает, что делать, я последую ее словам; а затем – что ж, зная, что дела мои угодны Небу, я покорюсь даже самому худшему.
Король направлялся из Парижа в Нант; в эту ночь он остановился в замке в нескольких милях от Шато Вильнёв. Перед рассветом в покои к нему ввели молодого кавалера. Рыцарь был прекрасен лицом и телом, но в чертах его отпечаталась усталость от долгой дороги, а сверх того, тревога и уныние. Молча предстал он перед Генрихом; тот, веселый и бодрый, обратил на него живые голубые глаза и заговорил ласково:
– Что, Гаспар, она все стоит на своем?
– По-прежнему намерена сделать несчастными нас обоих. Увы, не о себе я горюю, сир! – горько мне, что Констанция жертвует собственным счастьем!
– Полагаешь, она ответит «нет» блестящему кавалеру, которого представим ей мы сами?
– О сир! Надеюсь, что нет! Быть того не может. Сердце мое преисполнено благодарности к Вашему Величеству. Но если ее возлюбленный при свидании наедине, там, где и прелесть лесной поляны, и сладость воспоминаний были на его стороне, не смог ее убедить – что, если она воспротивится и вашим приказам? Она твердо решила заточить себя в монастыре, и если желание ее исполнится, позвольте и мне вас покинуть – я стану воином креста и встречу смерть в Палестине.
– Гаспар, – заговорил монарх, – я знаю женщин лучше твоего. Их покоряют не смирением и не слезными мольбами. Неудивительно, что гибель родных тяжелым камнем легла на сердце юной графини: пестуя в одиночестве свою скорбь и раскаяние, Констанция воображает, что сами Небеса воспрещают вам соединиться. Пусть достигнут ее голоса мира сего – земной власти и земной доброты, один повелевающий, другой молящий; оба найдут отклик в ее сердце, и, клянусь моей честью и святым Крестом, она станет твоей! Итак, будем придерживаться нашего плана. А теперь по коням: солнце взошло, уже утро!
Король прибыл во дворец епископа, а оттуда отправился отстоять мессу в соборе. За мессой последовал роскошный обед, и день уже клонился к вечеру, когда монарх, выехав из Нанта и проехав немного вверх по течению Луары, достиг Шато Вильнёв. Юная графиня встречала его у ворот. Тщетно Генрих искал в ее лице бледность и иные признаки уныния, которые ожидал увидеть. Щеки графини пылали, голос слегка дрожал, во всех движениях чувствовалось воодушевление. «Либо она его не любит, – сказал себе Генрих, – либо сердце ее уже смягчилось».
Для монарха приготовили легкий ужин; после некоторого колебания, вызванного очевидной бодростью Констанции, король заговорил о Гаспаре. Она не побледнела, но залилась румянцем и отвечала поспешно: