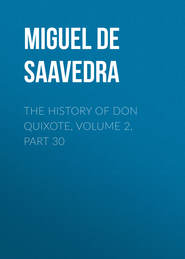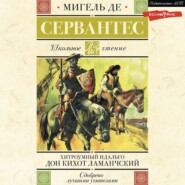По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дон Кихот
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Благодарю вас, ваша милость, и за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос: к чему мы все больше и больше углубляемся в горы, когда мы могли бы отлично скрыться от Санта-Эрмандад и не забираясь в такие дебри?
– Знай, Санчо, – ответил Дон Кихот, – что в эти дикие и пустынные места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
– А подвиг этот очень опасен? – спросил Санчо Панса.
– Нет, – ответил Рыцарь Печального Образа. – Впрочем, кто знает, – может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
– От моего усердия? – воскликнул Санчо.
– Да, – продолжал Дон Кихот. – Я намерен послать тебя с одним поручением, и если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не долго будут длиться и слава обо мне прогремит по всему свету. Но мне не следует оставлять тебя в мучительной неизвестности. Перейдем прямо к делу. Тебе, конечно, известно, Санчо, что всякий художник, желающий прославиться в своем искусстве, старается подражать творениям тех мастеров, которых он считает величайшими. Но то же правило должен соблюдать в жизни каждый рассудительный человек. Кто хочет прослыть благоразумным и терпеливым, тот должен подражать Улиссу[38 - Улисс – Одиссей, легендарный царь острова Итака, участник Троянской войны. В поэмах Гомера он за свой ум, сообразительность и лукавство прозван «хитроумным».], которого Гомер изображает воплощением благоразумия и твердости. Вергилий в своем Энее[39 - Эней. – В поэме Вергилия «Энеида» рассказывается, как во время пожара и гибели Трои Эней спас своего престарелого отца Анхиза. Рискуя жизнью, он на руках донес Анхиза до корабля, на котором оставшиеся в живых троянцы отплыли от берегов Трои.] дал нам образец почтительного сына и мудрого вождя. Конечно, оба поэта изобразили своих героев не такими, какими они были на самом деле, а такими, какими они должны быть, чтобы служить примером человечеству. Как бы то ни было, но ты не станешь спорить, что и странствующий рыцарь обязан избрать себе для подражания героя. Для меня таким героем является единственный и несравненный Амадис Галльский. Но этот славнейший из славных рыцарь блистательнее всего проявил свою рыцарскую доблесть – мудрость, мужество и постоянство в любви – именно в ту пору, когда, отвергнутый сеньорой Орианой, он удалился на скалу Пенья-Побре и, переменив свое имя на имя Бельтенеброс[40 - Бельтенеброс – мрачный красавец (исп.).], предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру, тем более что для меня это гораздо легче, чем подражать другим его подвигам: рубить головы великанам и драконам, обращать в бегство армии, рассеивать флотилии и разрушать чары волшебников. Эта скалистая пустыня как нельзя лучше подходит для выполнения задуманного мною дела, и я намерен сегодня же начать свой новый подвиг.
– Но что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности? – спросил Санчо, ничего не понявший из длинной речи своего господина.
– Да ведь я же тебе сказал, – ответил Дон Кихот, – что хочу последовать примеру Амадиса Галльского и вести себя так, словно я впал в отчаяние и лишился разума из-за жестокости моей дамы. А в то же время я буду подражать и доблестному дону Роланду, прозванному Неистовым[41 - Неистовый Роланд – герой знаменитой поэмы итальянского поэта эпохи Возрождения Ариосто (1474–1533). Анджелика – дама сердца Роланда, ради которой он совершает все безумства и подвиги, воспетые в поэме.]. Когда он узнал, что прекрасная Анджелика изменила ему, то с горя сошел с ума: он с корнем вырывал деревья, мутил прозрачные воды ручьев, убивал пастухов, поджигал и разрушал пастушьи хижины и проделывал тысячи других безумств, достойных вечного прославления. Впрочем, я не собираюсь подражать Роланду, Орландо или Ротоланду (он известен под этими тремя именами) во всех его безумствах. Возможно также, что я удовлетворюсь подражанием одному Амадису, который никаких убийств и поджогов не совершал, а все же своей скорбью и плачем достиг такой славы, какой не достигал ни один рыцарь ни до, ни после него.
– Думается мне, сеньор, – сказал Санчо, – что рыцари, о которых вы рассказывали, не без причины проделывали все эти штуки. Но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве вас отвергла какая-нибудь дама или сеньора Дульсинея Тобосская изменила вам?
– Видишь ли, друг мой Санчо, – ответил Дон Кихот, – сойти с ума, имея на то причину, – в этом нет ни заслуги, ни подвига, но совсем иное дело утратить разум, когда для этого нет никаких поводов. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия без всякой к тому причины, – она поймет, что? я смогу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если в своем послании она воздаст должное моей верности, тогда кончится мое безумие и покаяние, а если нет, тогда я и вправду сойду с ума и ничего не буду чувствовать. Итак, что бы она ни ответила, мои страдания и испытания закончатся. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме, если же горе, то я не почувствую его, ибо лишусь рассудка. Теперь скажи мне, Санчо, ведь ты уберег шлем Мамбрина, не правда ли? Ибо я заметил, что ты поднял его с земли, после того как неблагодарный каторжник, которого я освободил, хотел разбить его в куски. Понятно, что это ему не удалось: волшебный шлем не так-то легко уничтожить.
На это Санчо ответил:
– Ей-богу, сеньор Рыцарь Печального Образа, вы иногда такое говорите, что у меня просто терпенья не хватает слушать. Нередко мне приходит в голову, что все ваши разговоры о рыцарях, о завоевании царств и государств, о пожаловании мне острова и оказании милостей и почестей – простая побывальщина или небывальщина, – не знаю, как это по-настоящему называется. Услышь кто-нибудь, как ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина, так, наверное, он решит, что вы действительно рехнулись. Этот таз у меня в сумке; он весь исковеркан, но все же я подобрал его. Если Бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду пользоваться им для бритья.
– Теперь, Санчо, – сказал Дон Кихот, – позволь и мне поклясться Божьим именем. Клянусь – такого тупоголового оруженосца еще не было на свете. Неужели же за то время, как ты мне служишь, ты не успел убедиться, что все вещи, к которым прикасаются странствующие рыцари, подвергаются таинственным превращениям и кажутся не тем, что они есть на самом деле? И это потому, что нас постоянно окружают целые толпы волшебников, которые околдовывают и подменивают все предметы, желая нас облагодетельствовать или, напротив, погубить. Запомни это, и ты поймешь, почему тот предмет, который ты принимаешь за бритвенный таз, для меня настоящий шлем Мамбрина. Волшебник, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы подлинный шлем Мамбрина всем другим казался тазом: иначе все стали бы преследовать меня, стараясь отнять его, ибо шлем этот – величайшая драгоценность. Но люди вроде тебя думают, что это всего-навсего бритвенный таз, и потому не добиваются его; вспомни только, что неблагодарный каторжник сначала попытался его сломать, а потом швырнул на землю и даже не потрудился поднять; уверяю тебя, что, если бы он знал правду, он бы не расстался с ним. Сохрани же его у себя, друг мой, ибо в настоящую минуту он мне не нужен. Сейчас я сниму с себя все доспехи, сложу оружие и разденусь донага в знак моего глубочайшего отчаяния.
В таких беседах доехали они до подножия высокой горы; мирный ручеек вился по ее склону и опоясывал прелестную зеленую лужайку, на которую нельзя было смотреть без восхищения. Лужайка поросла тенистыми деревьями и была покрыта свежей травой и пестрыми цветами. Эту лужайку Рыцарь Печального Образа избрал местом своего покаяния и, остановив коня, воскликнул:
– Вот место, которое я избираю, чтобы оплакивать ниспосланные мне несчастья! Вот место, где мои слезы сольются со струями ручейка, где от моих глубоких вздохов будут непрерывно шелестеть листья горных деревьев, повествуя о печали истерзанного сердца! Солнце жизни моей! О Дульсинея Тобосская, ты путеводная звезда моя, подательница счастья, пусть Небо благосклонно исполнит все твои желания! Взгляни же, до чего довела меня разлука с тобой, и награди по заслугам мою верность. А вы, возросшие в уединении деревья, ныне товарищи моего скорбного одиночества, подайте знак нежным колебанием ветвей, что мое присутствие вам не в тягость. А ты, мой оруженосец, мой верный спутник в удачах и невзгодах, запечатлей в памяти все, что я сейчас стану делать, и поведай об этом единственной виновнице моего отчаяния и горя.
Сказав это, он соскочил с Росинанта, расседлал его, потом хлопнул его рукой по спине и сказал:
– О конь, столь же прославленный своими подвигами, сколь обездоленный судьбою, тебе дарует свободу тот, кто сам ее лишается, – ступай куда хочешь. Ты достоин свободы.
А Санчо, увидев это, вскричал:
– Черт бы побрал того, кто увел моего серого. Уж я бы тоже сумел похлопать своего дружка по спине и наговорить ему всяких похвал. Впрочем, если бы он был тут, я бы ни за что не согласился отпустить его на волю, потому что я никого не обожаю и не лезу на стены от любви. Но по правде говоря, сеньор Рыцарь Печального Образа, если ваша милость всерьез собирается послать меня с каким-то поручением, а потом сойти с ума, так следовало бы опять оседлать Росинанта: он заменит мне пропавшего серого; на нем я скорее совершу предстоящий мне путь; если же мне придется идти пешком, так уж я и не знаю, когда доберусь до вашей Дульсинеи и вернусь обратно, ибо, по правде говоря, хожу я очень медленно.
– Ну что ж, – ответил Дон Кихот, – мысль твоя неплоха; пусть будет по-твоему: бери Росинанта. Ты отправишься отсюда через три дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал бы ей обо всем этом.
– А что же вы станете делать? – полюбопытствовал Санчо Панса.
– Сначала я стану рвать на себе одежды, – ответил Дон Кихот, – разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы и… вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
– Ради самого Господа, – сказал Санчо, – бейтесь о скалы поосторожнее: ведь вы можете так удариться, что сразу наступит конец и вам, и всем вашим удивительным проделкам. И вот что я советую вашей милости: раз вы считаете, что в этом деле необходимо биться лбом и что без этого никак нельзя обойтись, то не довольно ли будет вашей милости биться головой о воду или о другие предметы помягче, вроде ваты. А в остальном положитесь на меня: я доложу сеньоре Дульсинее, что ваша милость билась лбом о выступы скалы потверже самого алмаза.
– Благодарю тебя за доброе намерение, друг Санчо, – ответил Дон Кихот, – но я должен тебя предупредить, что все, о чем я тебе только что рассказывал, я буду проделывать всерьез, без всякого обмана. Законы рыцарства запрещают нам лгать хотя бы для спасения своей жизни. Вот почему удары головой о камни должны быть сильными и полновесными, без всякого притворства. Необходимо поэтому, чтобы ты оставил мне немножко корпии для лечения ран; ужасно жаль, что волею судьбы мы потеряли наш бальзам.
– Потеря осла – сущая беда, ваша милость, – ответил Санчо, – вместе с ним лишились мы всего, кроме мешка с провизией: и запасного белья, и корпии, и бинтов. А об этом проклятом зелье, умоляю вас, сеньор, лучше и не вспоминайте: стоит мне только услышать о нем – и у меня переворачиваются все внутренности. И еще прошу вас: вообразите, что назначенный вами трехдневный срок уже кончился, что все ваши безумства я уже видел, а уж я сумею насказать про вас вашей сеньоре разные чудеса. Итак, пишите письмо и отправляйте меня поскорее, так как мне очень хочется пораньше вернуться, чтобы вызволить вашу милость из этого чистилища.
– Ты называешь это место чистилищем, Санчо? – воскликнул Дон Кихот. – Вернее было бы назвать его адом.
– Ну нет, – ответил Санчо, – для того, кто попал в ад, уже нет возврата, а я надеюсь, если только у меня не отнимутся ноги, чтобы шпорить Росинанта, вызволить вас отсюда. Как только я доберусь до Тобосо и предстану перед лицом вашей сеньоры Дульсинеи, так я ей такого наговорю о глупостях и безумствах (что одно и то же), которые ваша милость проделывала и продолжает проделывать, что она станет мягче перчатки, хотя бы до этого была тверже дуба. Затем, прихватив с собой ее сладкий, как мед, ответ, я прилечу обратно и извлеку вашу милость из этого чистилища, которое только с виду похоже на ад, ибо вас не покидает надежда выйти из него, – а я уже вам докладывал, что у грешников в аду этой надежды нет. Я не думаю, чтобы ваша милость могла что-либо мне возразить.
– Совершенно верно, – ответил Рыцарь Печального Образа. – Но как же мы напишем письмо?
– Не забудьте еще, ваша милость, написать вашей экономке, чтобы она мне выдала трех ослят, которых вы мне обещали подарить.
– Не беспокойся, не забуду, – ответил Дон Кихот, – только на чем же мне писать? У нас нет бумаги. Пожалуй, нам следовало бы, по примеру древних, писать на листьях деревьев или вощаных табличках, хотя найти здесь такие таблички так же нелегко, как и бумагу. Впрочем, вот счастливая мысль: у нас есть записная книжка, которую мы нашли в горах, и там, конечно, найдется два-три чистых листика. А ты в первом же местечке, куда приедешь, постарайся разыскать какого-нибудь школьного учителя или пономаря и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге и красивым почерком; только смотри не давай его писарям, которые обычно пишут, не отрывая пера от бумаги, так что их почерк сам сатана не разберет.
– Ну а как же быть с подписью? – спросил Санчо.
– Амадис никогда не подписывал своих писем, – ответил Дон Кихот.
– Так-то оно так, – сказал Санчо, – а только расписка непременно должна быть за вашей подписью, а если ее переписать, так, наверное, скажут, что подпись поддельная, – и я так и останусь без ослят.
– Расписку свою я подпишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она, ни слова не говоря, исполнит мое распоряжение. Что же касается любовного послания, то ты вели подписать его так: «Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа». Не важно, если подпись будет сделана не моей рукой, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать и во всю свою жизнь не видела ни моих писем, ни моего почерка. Мы только смотрели друг на друга, да и то весьма редко. Могу по совести поклясться, что за все двенадцать лет, что я люблю ее больше света очей моих, я не видел ее и четырех раз. Очень возможно, что она вовсе и не замечала, что я на нее смотрел: в такой строгости воспитали ее Лоренсо Корчуэло, ее отец, и Альдонса Ногалес, ее мать.
– Те-те-те! – вскричал Санчо. – Так, значит, сеньора Дульсинея Тобосская не кто иная, как дочка Лоренсо Корчуэло – Альдонса Лоренсо?
– Да, – ответил Дон Кихот, – и она достойна быть царицей всего мира.
– Да я ее отлично знаю, – воскликнул Санчо, – девка хоть куда, ладная да складная! Накажи меня Бог! В силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть какого рыцаря, странствующего или собирающегося странствовать, за пояс заткнет. Лопни я на этом месте, и силища же у нее! А какой голос! Должен вам сказать, что однажды взобралась она на нашу колокольню и стала кликать отцовских батраков, работавших в поле, и, хоть до них было не меньше полумили, они услышали ее так же ясно, как будто стояли под самой колокольней. А лучше всего, что она ничуть не жеманится, со всеми балагурит и все ее смешит и потешает. Ну, теперь я могу сказать, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумства, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Всякий, кто про это знает, наверное скажет, что поступили вы вполне правильно, хотя бы потом сам черт потащил вас в ад. Мне уже не терпится тронуться в путь, чтобы взглянуть на нее; давненько я ее не видел. Должно быть, она порядочно изменилась: девка-то ведь постоянно в поле, на воздухе и на солнцепеке, а от этого цвет лица скоро портится. Только, сеньор Дон Кихот, открою я вашей милости одну правду: до сего дня пребывал я в великом заблуждении, ибо твердо и крепко верил, что сеньора Дульсинея, в которую ваша милость влюблены, – какая-то принцесса или вообще важная особа, достойная тех богатых подарков, которые ваша милость ей посылала. Ведь вы послали ей бискайца, каторжников и, должно быть, еще многих, ибо, наверное, ваша милость одержала немало побед в ту пору, когда я не состоял вашим оруженосцем. Но подумайте хорошенько, какой прок сеньоре Альдонсе Лоренсо, то есть, я хочу сказать, сеньоре Дульсинее Тобосской, в том, что ваша милость посылает и будет посылать к ней побежденных, а те будут падать перед ней на колени? Ведь, чего доброго, они могут явиться к ней в ту минуту, когда она будет расчесывать лен или молотить на гумне. Застав ее за такой работой, они могут рассердиться, а ее самое ваш подарок, наверное, насмешит и обидит.
– Сколько раз уже я тебе твердил, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты несносный болтун и что напрасно ты с твоим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения. Но чтобы тебе стало ясно, насколько ты глуп и насколько я умен, скажу тебе только, что все графини и принцессы, все благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Поэтому их просто выдумывают, чтобы было о ком написать стихи и чтобы все считали их влюбленными или людьми, достойными любви. Кто же мешает мне вообразить, что Альдонса Лоренсо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете? Тебе следует знать, Санчо, – если ты только этого не знаешь, – что две вещи особенно возбуждают любовь: совершенная красота и добрая слава, а Дульсинея в полной мере обладает и тем и другим. В красоте никто не сравнится с ней, и мало кто пользуется такой доброй славой, как она. Одним словом, я считаю, что говорю чистую правду, ибо моему воображению она представляется такой прекрасной и благородной, что с ней не сравнится ни Елена, ни Лукреция, ни другие знаменитые жены древности. Так пусть люди говорят что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы вознаградят меня своими похвалами.
– Вы вполне правы, ваша милость, – ответил Санчо, – согласен, что вы мудрец, а я осел… Ай-ай!.. К чему только вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Ведь в доме повешенного никогда не говорят о веревке. Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорей, а то время идет.
Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо и сказал:
– Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему.
На это Санчо ответил:
– Да вы, ваша милость, перепишите его раза два или три и передайте мне, а я уж доставлю его в целости. Но чтобы я выучил его наизусть! – ну, уж от этого увольте: память у меня такая дырявая, что я частенько и свое собственное имя забываю. Но все-таки прочтите мне его: должно быть, оно очень хорошо написано.
– Итак, слушай, что я написал, – сказал Дон Кихот.
Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобосской
Высокая и властительная сеньора!
Рыцарь, раненный и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобосская, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет, жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой, если же нет, поступай, как тебе будет угодно: расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть.
Твой до гроба Рыцарь Печального Образа
– Клянусь жизнью моего батюшки, – воскликнул Санчо, выслушав это послание, – никогда сроду я не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как это ваша милость так хорошо умеет сочинять и как подходит к этому письму подпись: «Рыцарь Печального Образа». Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол: чего вы только не знаете!
– Странствующий рыцарь, – ответил Дон Кихот, – обязан знать все.
– Знай, Санчо, – ответил Дон Кихот, – что в эти дикие и пустынные места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
– А подвиг этот очень опасен? – спросил Санчо Панса.
– Нет, – ответил Рыцарь Печального Образа. – Впрочем, кто знает, – может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
– От моего усердия? – воскликнул Санчо.
– Да, – продолжал Дон Кихот. – Я намерен послать тебя с одним поручением, и если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не долго будут длиться и слава обо мне прогремит по всему свету. Но мне не следует оставлять тебя в мучительной неизвестности. Перейдем прямо к делу. Тебе, конечно, известно, Санчо, что всякий художник, желающий прославиться в своем искусстве, старается подражать творениям тех мастеров, которых он считает величайшими. Но то же правило должен соблюдать в жизни каждый рассудительный человек. Кто хочет прослыть благоразумным и терпеливым, тот должен подражать Улиссу[38 - Улисс – Одиссей, легендарный царь острова Итака, участник Троянской войны. В поэмах Гомера он за свой ум, сообразительность и лукавство прозван «хитроумным».], которого Гомер изображает воплощением благоразумия и твердости. Вергилий в своем Энее[39 - Эней. – В поэме Вергилия «Энеида» рассказывается, как во время пожара и гибели Трои Эней спас своего престарелого отца Анхиза. Рискуя жизнью, он на руках донес Анхиза до корабля, на котором оставшиеся в живых троянцы отплыли от берегов Трои.] дал нам образец почтительного сына и мудрого вождя. Конечно, оба поэта изобразили своих героев не такими, какими они были на самом деле, а такими, какими они должны быть, чтобы служить примером человечеству. Как бы то ни было, но ты не станешь спорить, что и странствующий рыцарь обязан избрать себе для подражания героя. Для меня таким героем является единственный и несравненный Амадис Галльский. Но этот славнейший из славных рыцарь блистательнее всего проявил свою рыцарскую доблесть – мудрость, мужество и постоянство в любви – именно в ту пору, когда, отвергнутый сеньорой Орианой, он удалился на скалу Пенья-Побре и, переменив свое имя на имя Бельтенеброс[40 - Бельтенеброс – мрачный красавец (исп.).], предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру, тем более что для меня это гораздо легче, чем подражать другим его подвигам: рубить головы великанам и драконам, обращать в бегство армии, рассеивать флотилии и разрушать чары волшебников. Эта скалистая пустыня как нельзя лучше подходит для выполнения задуманного мною дела, и я намерен сегодня же начать свой новый подвиг.
– Но что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности? – спросил Санчо, ничего не понявший из длинной речи своего господина.
– Да ведь я же тебе сказал, – ответил Дон Кихот, – что хочу последовать примеру Амадиса Галльского и вести себя так, словно я впал в отчаяние и лишился разума из-за жестокости моей дамы. А в то же время я буду подражать и доблестному дону Роланду, прозванному Неистовым[41 - Неистовый Роланд – герой знаменитой поэмы итальянского поэта эпохи Возрождения Ариосто (1474–1533). Анджелика – дама сердца Роланда, ради которой он совершает все безумства и подвиги, воспетые в поэме.]. Когда он узнал, что прекрасная Анджелика изменила ему, то с горя сошел с ума: он с корнем вырывал деревья, мутил прозрачные воды ручьев, убивал пастухов, поджигал и разрушал пастушьи хижины и проделывал тысячи других безумств, достойных вечного прославления. Впрочем, я не собираюсь подражать Роланду, Орландо или Ротоланду (он известен под этими тремя именами) во всех его безумствах. Возможно также, что я удовлетворюсь подражанием одному Амадису, который никаких убийств и поджогов не совершал, а все же своей скорбью и плачем достиг такой славы, какой не достигал ни один рыцарь ни до, ни после него.
– Думается мне, сеньор, – сказал Санчо, – что рыцари, о которых вы рассказывали, не без причины проделывали все эти штуки. Но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве вас отвергла какая-нибудь дама или сеньора Дульсинея Тобосская изменила вам?
– Видишь ли, друг мой Санчо, – ответил Дон Кихот, – сойти с ума, имея на то причину, – в этом нет ни заслуги, ни подвига, но совсем иное дело утратить разум, когда для этого нет никаких поводов. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия без всякой к тому причины, – она поймет, что? я смогу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если в своем послании она воздаст должное моей верности, тогда кончится мое безумие и покаяние, а если нет, тогда я и вправду сойду с ума и ничего не буду чувствовать. Итак, что бы она ни ответила, мои страдания и испытания закончатся. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме, если же горе, то я не почувствую его, ибо лишусь рассудка. Теперь скажи мне, Санчо, ведь ты уберег шлем Мамбрина, не правда ли? Ибо я заметил, что ты поднял его с земли, после того как неблагодарный каторжник, которого я освободил, хотел разбить его в куски. Понятно, что это ему не удалось: волшебный шлем не так-то легко уничтожить.
На это Санчо ответил:
– Ей-богу, сеньор Рыцарь Печального Образа, вы иногда такое говорите, что у меня просто терпенья не хватает слушать. Нередко мне приходит в голову, что все ваши разговоры о рыцарях, о завоевании царств и государств, о пожаловании мне острова и оказании милостей и почестей – простая побывальщина или небывальщина, – не знаю, как это по-настоящему называется. Услышь кто-нибудь, как ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина, так, наверное, он решит, что вы действительно рехнулись. Этот таз у меня в сумке; он весь исковеркан, но все же я подобрал его. Если Бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду пользоваться им для бритья.
– Теперь, Санчо, – сказал Дон Кихот, – позволь и мне поклясться Божьим именем. Клянусь – такого тупоголового оруженосца еще не было на свете. Неужели же за то время, как ты мне служишь, ты не успел убедиться, что все вещи, к которым прикасаются странствующие рыцари, подвергаются таинственным превращениям и кажутся не тем, что они есть на самом деле? И это потому, что нас постоянно окружают целые толпы волшебников, которые околдовывают и подменивают все предметы, желая нас облагодетельствовать или, напротив, погубить. Запомни это, и ты поймешь, почему тот предмет, который ты принимаешь за бритвенный таз, для меня настоящий шлем Мамбрина. Волшебник, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы подлинный шлем Мамбрина всем другим казался тазом: иначе все стали бы преследовать меня, стараясь отнять его, ибо шлем этот – величайшая драгоценность. Но люди вроде тебя думают, что это всего-навсего бритвенный таз, и потому не добиваются его; вспомни только, что неблагодарный каторжник сначала попытался его сломать, а потом швырнул на землю и даже не потрудился поднять; уверяю тебя, что, если бы он знал правду, он бы не расстался с ним. Сохрани же его у себя, друг мой, ибо в настоящую минуту он мне не нужен. Сейчас я сниму с себя все доспехи, сложу оружие и разденусь донага в знак моего глубочайшего отчаяния.
В таких беседах доехали они до подножия высокой горы; мирный ручеек вился по ее склону и опоясывал прелестную зеленую лужайку, на которую нельзя было смотреть без восхищения. Лужайка поросла тенистыми деревьями и была покрыта свежей травой и пестрыми цветами. Эту лужайку Рыцарь Печального Образа избрал местом своего покаяния и, остановив коня, воскликнул:
– Вот место, которое я избираю, чтобы оплакивать ниспосланные мне несчастья! Вот место, где мои слезы сольются со струями ручейка, где от моих глубоких вздохов будут непрерывно шелестеть листья горных деревьев, повествуя о печали истерзанного сердца! Солнце жизни моей! О Дульсинея Тобосская, ты путеводная звезда моя, подательница счастья, пусть Небо благосклонно исполнит все твои желания! Взгляни же, до чего довела меня разлука с тобой, и награди по заслугам мою верность. А вы, возросшие в уединении деревья, ныне товарищи моего скорбного одиночества, подайте знак нежным колебанием ветвей, что мое присутствие вам не в тягость. А ты, мой оруженосец, мой верный спутник в удачах и невзгодах, запечатлей в памяти все, что я сейчас стану делать, и поведай об этом единственной виновнице моего отчаяния и горя.
Сказав это, он соскочил с Росинанта, расседлал его, потом хлопнул его рукой по спине и сказал:
– О конь, столь же прославленный своими подвигами, сколь обездоленный судьбою, тебе дарует свободу тот, кто сам ее лишается, – ступай куда хочешь. Ты достоин свободы.
А Санчо, увидев это, вскричал:
– Черт бы побрал того, кто увел моего серого. Уж я бы тоже сумел похлопать своего дружка по спине и наговорить ему всяких похвал. Впрочем, если бы он был тут, я бы ни за что не согласился отпустить его на волю, потому что я никого не обожаю и не лезу на стены от любви. Но по правде говоря, сеньор Рыцарь Печального Образа, если ваша милость всерьез собирается послать меня с каким-то поручением, а потом сойти с ума, так следовало бы опять оседлать Росинанта: он заменит мне пропавшего серого; на нем я скорее совершу предстоящий мне путь; если же мне придется идти пешком, так уж я и не знаю, когда доберусь до вашей Дульсинеи и вернусь обратно, ибо, по правде говоря, хожу я очень медленно.
– Ну что ж, – ответил Дон Кихот, – мысль твоя неплоха; пусть будет по-твоему: бери Росинанта. Ты отправишься отсюда через три дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал бы ей обо всем этом.
– А что же вы станете делать? – полюбопытствовал Санчо Панса.
– Сначала я стану рвать на себе одежды, – ответил Дон Кихот, – разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы и… вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
– Ради самого Господа, – сказал Санчо, – бейтесь о скалы поосторожнее: ведь вы можете так удариться, что сразу наступит конец и вам, и всем вашим удивительным проделкам. И вот что я советую вашей милости: раз вы считаете, что в этом деле необходимо биться лбом и что без этого никак нельзя обойтись, то не довольно ли будет вашей милости биться головой о воду или о другие предметы помягче, вроде ваты. А в остальном положитесь на меня: я доложу сеньоре Дульсинее, что ваша милость билась лбом о выступы скалы потверже самого алмаза.
– Благодарю тебя за доброе намерение, друг Санчо, – ответил Дон Кихот, – но я должен тебя предупредить, что все, о чем я тебе только что рассказывал, я буду проделывать всерьез, без всякого обмана. Законы рыцарства запрещают нам лгать хотя бы для спасения своей жизни. Вот почему удары головой о камни должны быть сильными и полновесными, без всякого притворства. Необходимо поэтому, чтобы ты оставил мне немножко корпии для лечения ран; ужасно жаль, что волею судьбы мы потеряли наш бальзам.
– Потеря осла – сущая беда, ваша милость, – ответил Санчо, – вместе с ним лишились мы всего, кроме мешка с провизией: и запасного белья, и корпии, и бинтов. А об этом проклятом зелье, умоляю вас, сеньор, лучше и не вспоминайте: стоит мне только услышать о нем – и у меня переворачиваются все внутренности. И еще прошу вас: вообразите, что назначенный вами трехдневный срок уже кончился, что все ваши безумства я уже видел, а уж я сумею насказать про вас вашей сеньоре разные чудеса. Итак, пишите письмо и отправляйте меня поскорее, так как мне очень хочется пораньше вернуться, чтобы вызволить вашу милость из этого чистилища.
– Ты называешь это место чистилищем, Санчо? – воскликнул Дон Кихот. – Вернее было бы назвать его адом.
– Ну нет, – ответил Санчо, – для того, кто попал в ад, уже нет возврата, а я надеюсь, если только у меня не отнимутся ноги, чтобы шпорить Росинанта, вызволить вас отсюда. Как только я доберусь до Тобосо и предстану перед лицом вашей сеньоры Дульсинеи, так я ей такого наговорю о глупостях и безумствах (что одно и то же), которые ваша милость проделывала и продолжает проделывать, что она станет мягче перчатки, хотя бы до этого была тверже дуба. Затем, прихватив с собой ее сладкий, как мед, ответ, я прилечу обратно и извлеку вашу милость из этого чистилища, которое только с виду похоже на ад, ибо вас не покидает надежда выйти из него, – а я уже вам докладывал, что у грешников в аду этой надежды нет. Я не думаю, чтобы ваша милость могла что-либо мне возразить.
– Совершенно верно, – ответил Рыцарь Печального Образа. – Но как же мы напишем письмо?
– Не забудьте еще, ваша милость, написать вашей экономке, чтобы она мне выдала трех ослят, которых вы мне обещали подарить.
– Не беспокойся, не забуду, – ответил Дон Кихот, – только на чем же мне писать? У нас нет бумаги. Пожалуй, нам следовало бы, по примеру древних, писать на листьях деревьев или вощаных табличках, хотя найти здесь такие таблички так же нелегко, как и бумагу. Впрочем, вот счастливая мысль: у нас есть записная книжка, которую мы нашли в горах, и там, конечно, найдется два-три чистых листика. А ты в первом же местечке, куда приедешь, постарайся разыскать какого-нибудь школьного учителя или пономаря и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге и красивым почерком; только смотри не давай его писарям, которые обычно пишут, не отрывая пера от бумаги, так что их почерк сам сатана не разберет.
– Ну а как же быть с подписью? – спросил Санчо.
– Амадис никогда не подписывал своих писем, – ответил Дон Кихот.
– Так-то оно так, – сказал Санчо, – а только расписка непременно должна быть за вашей подписью, а если ее переписать, так, наверное, скажут, что подпись поддельная, – и я так и останусь без ослят.
– Расписку свою я подпишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она, ни слова не говоря, исполнит мое распоряжение. Что же касается любовного послания, то ты вели подписать его так: «Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа». Не важно, если подпись будет сделана не моей рукой, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать и во всю свою жизнь не видела ни моих писем, ни моего почерка. Мы только смотрели друг на друга, да и то весьма редко. Могу по совести поклясться, что за все двенадцать лет, что я люблю ее больше света очей моих, я не видел ее и четырех раз. Очень возможно, что она вовсе и не замечала, что я на нее смотрел: в такой строгости воспитали ее Лоренсо Корчуэло, ее отец, и Альдонса Ногалес, ее мать.
– Те-те-те! – вскричал Санчо. – Так, значит, сеньора Дульсинея Тобосская не кто иная, как дочка Лоренсо Корчуэло – Альдонса Лоренсо?
– Да, – ответил Дон Кихот, – и она достойна быть царицей всего мира.
– Да я ее отлично знаю, – воскликнул Санчо, – девка хоть куда, ладная да складная! Накажи меня Бог! В силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть какого рыцаря, странствующего или собирающегося странствовать, за пояс заткнет. Лопни я на этом месте, и силища же у нее! А какой голос! Должен вам сказать, что однажды взобралась она на нашу колокольню и стала кликать отцовских батраков, работавших в поле, и, хоть до них было не меньше полумили, они услышали ее так же ясно, как будто стояли под самой колокольней. А лучше всего, что она ничуть не жеманится, со всеми балагурит и все ее смешит и потешает. Ну, теперь я могу сказать, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумства, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Всякий, кто про это знает, наверное скажет, что поступили вы вполне правильно, хотя бы потом сам черт потащил вас в ад. Мне уже не терпится тронуться в путь, чтобы взглянуть на нее; давненько я ее не видел. Должно быть, она порядочно изменилась: девка-то ведь постоянно в поле, на воздухе и на солнцепеке, а от этого цвет лица скоро портится. Только, сеньор Дон Кихот, открою я вашей милости одну правду: до сего дня пребывал я в великом заблуждении, ибо твердо и крепко верил, что сеньора Дульсинея, в которую ваша милость влюблены, – какая-то принцесса или вообще важная особа, достойная тех богатых подарков, которые ваша милость ей посылала. Ведь вы послали ей бискайца, каторжников и, должно быть, еще многих, ибо, наверное, ваша милость одержала немало побед в ту пору, когда я не состоял вашим оруженосцем. Но подумайте хорошенько, какой прок сеньоре Альдонсе Лоренсо, то есть, я хочу сказать, сеньоре Дульсинее Тобосской, в том, что ваша милость посылает и будет посылать к ней побежденных, а те будут падать перед ней на колени? Ведь, чего доброго, они могут явиться к ней в ту минуту, когда она будет расчесывать лен или молотить на гумне. Застав ее за такой работой, они могут рассердиться, а ее самое ваш подарок, наверное, насмешит и обидит.
– Сколько раз уже я тебе твердил, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты несносный болтун и что напрасно ты с твоим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения. Но чтобы тебе стало ясно, насколько ты глуп и насколько я умен, скажу тебе только, что все графини и принцессы, все благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Поэтому их просто выдумывают, чтобы было о ком написать стихи и чтобы все считали их влюбленными или людьми, достойными любви. Кто же мешает мне вообразить, что Альдонса Лоренсо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете? Тебе следует знать, Санчо, – если ты только этого не знаешь, – что две вещи особенно возбуждают любовь: совершенная красота и добрая слава, а Дульсинея в полной мере обладает и тем и другим. В красоте никто не сравнится с ней, и мало кто пользуется такой доброй славой, как она. Одним словом, я считаю, что говорю чистую правду, ибо моему воображению она представляется такой прекрасной и благородной, что с ней не сравнится ни Елена, ни Лукреция, ни другие знаменитые жены древности. Так пусть люди говорят что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы вознаградят меня своими похвалами.
– Вы вполне правы, ваша милость, – ответил Санчо, – согласен, что вы мудрец, а я осел… Ай-ай!.. К чему только вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Ведь в доме повешенного никогда не говорят о веревке. Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорей, а то время идет.
Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо и сказал:
– Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему.
На это Санчо ответил:
– Да вы, ваша милость, перепишите его раза два или три и передайте мне, а я уж доставлю его в целости. Но чтобы я выучил его наизусть! – ну, уж от этого увольте: память у меня такая дырявая, что я частенько и свое собственное имя забываю. Но все-таки прочтите мне его: должно быть, оно очень хорошо написано.
– Итак, слушай, что я написал, – сказал Дон Кихот.
Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобосской
Высокая и властительная сеньора!
Рыцарь, раненный и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобосская, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет, жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой, если же нет, поступай, как тебе будет угодно: расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть.
Твой до гроба Рыцарь Печального Образа
– Клянусь жизнью моего батюшки, – воскликнул Санчо, выслушав это послание, – никогда сроду я не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как это ваша милость так хорошо умеет сочинять и как подходит к этому письму подпись: «Рыцарь Печального Образа». Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол: чего вы только не знаете!
– Странствующий рыцарь, – ответил Дон Кихот, – обязан знать все.