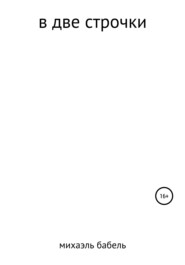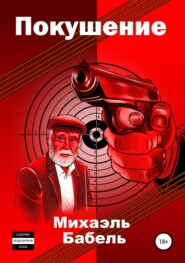По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
С закрытыми глазами, или Неповиновение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тот пустил слезу, когда случился обвал, заспешил из эмиграции противостоять обвалу, бил себя в грудь за свою ошибку бороться против. К власти пришли новые те же. Кэгэбэ остался. А ему было обидно за державу в обвале.
Еврей в «своей» кэгэбэшне хочет обвала, потому что Б-г так жить не велел, когда еврея убивают не от Его имени, а от имени кэгэбэшни.
Грядёт обвал!
Даже если не убивают, а ногами бьют по яйцам, чтобы поймать на плёнку взмах руки в обороне.
Даже если не бьют по яйцам, а рукой в спину тычут, чтобы поймать на плёнку лицо в обороте сердитом.
Даже если не тычут, а шьют дело.
Даже если не шьют, а пачкают имя.
Даже если не пачкают, а подбрасывают слушок.
Даже если не подбрасывают, а стряпают заготовочку на будущее.
Значит, убили многие тысячи.
Грядёт обвал!
Твой ход, товарищ кэгэбэ.
Рассказ 20
Теперь, перед домашней заготовкой, надо расслабиться любимым театром.
Ещё живы люди, которые слышали, как длинноногая Джемма – помощница молодящегося Юткевича, кричала в тёмном зале студенческого театра во время прогона: «Бабель! Где занавес?» или «Бабель! Свет!» Или, когда я присаживался насладиться любимым театром, шептала на весь зал – для историков театра – мне на ухо: «Бабель, у тебя отец стекольщик?» Поэтому про театр у меня всегда есть что рассказать.
Можно о знаменитой немой сцене из «Ревизора» Гоголя. «Немой» последнюю сцену назвал сам автор и так кончает её описание:
«Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается».
Но жизнь в кэгэбэшне, которая сменила гнилой царский режим, о котором пьеса, оказалась веселее. От бурных аплодисментов снова поднимался занавес и опускался, чтобы снова подняться. А чуть стихали аплодисменты, инициатива переходила к театру: занавес поднимался, горяча аплодисменты новым положением окаменевшей группы, из которой актёры хитро подмигивали хлопавшим зрителям.
Такое продолжалось за полночь, значительно дольше, чем предполагал автор, который, к его счастью, не дожил до кэгэбэшни, зато его герои оказались в ней на первых ролях.
Были хохмачи, которые тратились на билет, а прикатывали только на немую сцену – отвести душу. Бурными аплодисментами, криками «браво!» проклинали, презирали, ненавидели кэгэбэшню, которая убивала героев, лидеров, сильных духом, чтобы остальным уже не хотелось; строила семью разных народов в ущерб народу святой земли; насаждала в парламенте и правительстве чекистов-пенсионеров и заслуживших вознаграждение за хорошую чекистскую работу; поощряла расцвет преступности и распределяла в ней заказы на убийства.
Знаменитая немая сцена стала праздником будущей победы правды над ложью. И долго не смолкали приглушенные голоса в кухнях, свет гас, а люди всё говорили за правду.
И вот правда победила ложь, но не кэгэбэ. А правда и кэгэбэ не совместимы. И правда стала ложью, потому что никто уже не хотел умирать за правду, которая всё равно станет ложью в руках кэгэбэ. Правде не осталось места в кухнях двух кэгэбэшен, где она теплилась. И уже любой разговор подтверждал, что состоялся переход из кухни в салон к кэгэбэшному экрану.
Позвонил рекордсмен той кэгэбэшни, его не выпускали много лет. И вот прошло ещё столько же лет, как его не выпускали. Первым звонком днями раньше он хотел найти у меня материал для книги воспоминаний о его рекорде. Я посоветовал взять материал прямо с моего сайта и подсказал, где искать. Теперь он звонил, потому что не всё нашёл. Но он не мог обойти первой страницы моего сайта, где сообщается о покушении. Поэтому не мог не спросить для приличия:
– У тебя есть проблемы с властями? – в его голосе слышалось удовольствие, что у него нет этой проблемы.
Так теперь это называется: покушение – это проблема с властями, но не проблема самих властей. Как выразился чекист на одном кэгэбэшном их форуме, а других форумов не бывает, по поводу этой книги, которую я показываю им с продолжениями: «Если бы у тебя была власть, ты бы сделал свой кэгэбэ».
– У меня нет проблемы с властями, – возразил я, – но есть проблема с кэгэбэшней.
Короткое молчание было несогласием вести кухонные разговоры.
Отсталый я – никто так уже не разговаривает.
– Я с ними со всеми вот так прямо общался, – говорил он довольный, без подробностей, зная, что кадры новостей кэгэбэшного экрана не обошли меня.
Но это не доказательство, а поведение, которое даёт хлеб с маслом. Такой хлеб можно было делать и в той кэгэбэшне и не устанавливать рекорд. Что не мешает потом оказаться даже в кнессете этой кэгэбэшни.
В его случае бессмысленны мои доказательства. Но любителю театра очень хочется. Привёл простое доказательство:
– Посмотри, как работает пропаганда: радио, телевизор, газета – долдонят одно.
Выразительное доказательство – покушение на меня – не использую, потому что даже не злые на меня опровергают его убийственно логично: «Если бы они хотели, то убили». Не говорят: «Если бы они были». А говорят: «Если бы они хотели». Значит, они есть, но не хотят. «Пока не хотят», – добавляю про себя.
– У людей могут быть разные мнения, – ответил он моментально, что говорило о его чёткой позиции покинувшего кухонные разговоры.
– Но все эти разные мнения сводятся к одному, – возразил я из закутка в кухне в прикрываемую дверь.
– И получаются только два мнения: одно – не моё и одно – моё, – это успел сказать уже только себе.
– Но нет одного мнения миллионов. Есть одно мнение, навязанное миллионам, – так рассудил в прикрытую всеми дверь.
Поэтому только одно из двух мнений – моё – правда, осознал это давно.
С потерей кухонной правды померкла знаменитая немая сцена, «Ревизор» и сам Гоголь.
С «Мёртвыми душами» расправилась ещё давно царская охранка, и ей все поверили, что Гоголь сошёл с ума и лучшую, критическую, вторую часть книги сжёг.
А в наши дни вышло из употребления последнее, с чем было ещё связано его имя, – смелое выражение: «Гоголя на них нет!», из-за отсутствия бесстрашных кухонных разговоров.
Наступал период, когда только гоголь-моголь сохранял великое имя.
И вдруг, после повсеместного закрытия театра Гоголя, было интересно видеть его возрождение в моей психушке в знаменитой немой сцене из "Ревизора".
Большой увалень, не из душевных, развалился под столом, раскинул ноги, головой уткнулся в руки, сложенные кренделем на полу, пряча в них лицо. Вокруг стола суетились пузатый надзиратель и ещё трое недушевных в наклоне к лежащему под столом.
В это время открылась дверь, и меня пригласили на выход.
Мне отвели роль ревизора, который закончил свой визит, и я вздрогнул, но ещё не понял отведённой мне роли.
Мгновенно сцена вокруг стола стала знаменитой немой сценой. Все артисты застыли при объявлении об отъезде ревизора. Сцена вокруг стола слилась с залом для еды и оказалась в центре зала. И зал для еды тоже слился со сценой под столом. Вокруг сцены, со столом и под столом, шли душевные с опущенными головами. Шаркали ногами.
Это продолжалась долго, как во времена бесстрашных кухонных разговоров.
Это было выразительнее бурных аплодисментов.
Мне отвели не только роль ревизора, но и другие роли, ещё не известные.