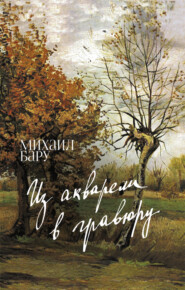По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Непечатные пряники
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В дому все благополучно. Детки очень шибко бегают и Шура за ними бегает, не отстается. Макару отдано часы и пальто в горошек. Покуда хорошо все исправляется… И затем прощай, дорогой мой Василий Петрович. Остаемся живы и здоровы и тебе желаем от бога доброго здоровие и всякого благополучия»[18 - Кто после прочтения этого письма не поднес незаметно к уголку глаза носовой платок или хотя бы не кашлянул смущенно – тот самое настоящее бесчувственное бревно.].
P. S.
Если ехать из Костромы в Солигалич и сразу за Чухломой повернуть налево, проехать по проселку километра полтора или два до ворот Авраамиево-Городецкого монастыря, войти в них, подняться на самую вершину холма, на которой стоит собор, сесть на укрепленную гранитными валунами скамейку, которая устроена над высоким обрывом, и сидеть на ней полчаса или хотя бы четверть часа, и смотреть, не отрываясь, на Чухломское озеро, на плавающее в нем небо, на облака в этом небе, на сосны по берегам этого неба, то можно почувствовать себя и сосной, и озером, и облаком, и небом, и даже жаворонком, если вы, конечно, сможете углядеть его в небе, которое внутри вас.
Май 2014
Библиография
Белоруссов Л. М. Из истории Солигаличского края: Сб. краеведческих работ. Кострома: ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», 2013. 256 с.
Фигуровский Н. А. Очерки средневековой истории г. Солигалича. Кострома: Авантитул, 2010. 268 с.
Губернский дом: историко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал. Кострома, 1995, № 4. 80 с.
СОРОК СОРТОВ ЛОЖЕК
Семенов
Кабы не хохломская роспись да знаменитые на весь мир матрешки – быть бы Семенову обычным медвежьим углом, каких у нас такое множество, что, кажется, только из этих углов мы и состоим. Это теперь в Семенове на площади имени Бориса Корнилова[19 - На площади имени Бориса Корнилова, уроженца села Покровского Семеновского уезда, стоит первый в России памятник репрессированному поэту, написавшему в тридцать втором году «Песню о встречном» и расстрелянному на тридцать первом году жизни в тридцать восьмом году как «активный участник антисоветской троцкистской организации, ставившей своей задачей террористические методы борьбы против руководителей партии и правительства». Руководители партии и правительства приказали считать слова «Песни о встречном» народными, и они стали народными и были ими почти тридцать лет до самой посмертной реабилитации Корнилова «за отсутствием состава преступления». После реабилитации они так народными и остались до самого конца этого народа, который тоже, как оказалось, был активным участником антисоветской организации.] стоит гостиница «Париж»[20 - «Париж» он потому, что план Парижа как две капли воды похож на план Семенова. Так, по крайней мере, считают все семеновцы и вместе с ними хозяин гостиницы. В холле семеновского «Парижа» стоит настольный макет Эйфелевой башни с прикрепленной к ее основанию табличкой, на которой написано «г. Семенов». Номера хорошие, уютные, вот только стены между ними так тонки и так звукопроницаемы, что слышно, как за стеной твоего номера кто-то громко думает, то ли выпить водки сейчас и потом пойти в гости к соседке, приехавшей вместе с ним в командировку на местный арматурный завод, то ли пригласить ее в лучший местный ресторан «Керженец» и там выпить вместе с ней, то ли пойти в гости… но выпить непременно. Кстати сказать, Семеновский арматурный завод переживает нынче не лучшие времена. Проще говоря, загибается арматурный завод. Остался литейный цех, но и он дышит на ладан. В позапрошлом веке этот завод, основанный местным механиком-самоучкой Гавриилом Семеновичем Рекшинским и его дядей, очень даже процветал. Основной продукцией были весовые гири – от самых больших до самых маленьких. Гири были такого качества, что владельцам завода было разрешено ставить на них собственное клеймо. Кроме гирь выпускали клещи, слесарные ножницы, колеса и даже печные заслонки с античными сюжетами. Две из них стоят за стеклом в местном краеведческом музее. На одной из них изображена та самая колесница того самого Аполлона, которая изображена на том самом Большом театре и на тех самых ста рублях, которые так оскорбили нравственность наших депутатов. Я присматривался – Аполлон на дверце вне подозрений, а вот кони…Впрочем, это все мелкие детали и к нашему рассказу не имеющие никакого касательства. Про Гавриила Семеновича Рекшинского все же не лишним будет добавить, что прожил он долгую жизнь и семь раз избирался семеновским городским головой. Тридцать один год управлял он Семеновом, замостил камнем городские мостовые, начал строить больницу и успел умереть перед самым семнадцатым годом. Очень немного было в тогдашней провинциальной России таких городских голов. Сына Гавриила Семеновича новые власти в восемнадцатом году с завода выгнали, но… тут же попросили вернуться, поскольку оказалось, что каждая кухарка не может управлять не только государством, но и чугунолитейным заводом. Еще пять лет он руководил заводом и готовил себе смену, а потом уехал в Нижний, подальше от своих учеников.] и в городской бане, которая находится на той же площади, все шайки расписаны под хохлому, а лет четыреста назад здесь, кроме села Семенова, затерянного среди дремучих, глухих и немых керженских лесов, не было ничего. В первый раз Семенов упомянут в письменных источниках по довольно необычному и даже несколько обидному поводу – в самой середине XVII века в каком-то платежном документе кто-то написал, что житель села Семеновского Никифор Щетинин, бывший на оброке вместе со всем селом у боярина Бориса Ивановича Морозова, не уплатил за сенной покос. Ну не уплатил. Наверное, высекли Никифора или конфисковали в счет уплаты долга корову или то и другое вместе. Зато не было повода у летописца написать, что брали село штурмом татаро-монголы, что присягали семеновцы Лжедмитриям, что жгли посад интервенты, уводя в плен аборигенов. Может, еще долго в тех местах было бы малолюдно и тихо, если бы ровно через пять лет после первого упоминания села Семеновского патриарх Никон не начал свою церковную реформу. Стали в Заволжье от греха подальше стекаться те, которых от никонианской реформы, что называется, с души воротило в самом прямом смысле этого слова. Впрочем, не только староверы шли в заволжские леса – шли остатки разбитых разинских отрядов, беглые крестьяне, московские, смоленские, новгородские старообрядцы, соловецкие монахи-раскольники, монастырь которых после долгой осады взяли царские полки, иконописцы и просто лихие люди. В известном смысле Заволжье середины XVII века стало для русских тем, чем стала Америка для европейцев после открытия ее Колумбом.
Беглые иконописцы
Насчет того, кто придумал расписывать деревянную посуду хохломской росписью… Если даже исключить ее инопланетное происхождение, то и тогда останется множество или даже два множества версий. Самые правдоподобные и самые скучные из них принадлежат, понятное дело, историкам, археологам и искусствоведам. Пишут они, к примеру, что ложкари пришли в Заволжье из соседнего Приволжья, буквально с другого берега из староверческого села Пурех[21 - Проезжал я как-то мимо Пуреха – нет нынче там никаких ложкарей и староверов нет. Зато в придорожном вагончике с надписью «Вяленая и копченая рыба» можно купить небольших копченых стерлядок недорого. Свежий пурехский ситный хлеб ничуть не уступает стерлядкам по вкусу. Если есть их вместе, пить крепкий горячий чай из большого походного термоса и при этом смотреть вдаль, на залив, который образует река Юг при впадении в Волгу, на семью цапель, медленно и чинно летящих сквозь туманную дымку из левого угла неба в правый, то можно получить если не море, то реку удовольствия. С заливом в придачу.], близ Балахны, что техника хохломской «золотой» росписи была занесена на левый берег Волги беглыми иконописцами, что можно сравнить технику и приемы мастеров-иконописцев «строгановского письма», установить связь, найти истоки, что хохломской промысел и вовсе возник из нужд крестьянского быта… Нет, мы не будем устанавливать, анализировать и выводить из нужд, тем более бытовых. Лучше мы обратимся к легенде, по которой скрывался в дремучих керженских лесах беглый иконописец-раскольник, делавший деревянные чаши, братины и ендовы, удивительно похожие на золотые. Само собой, чаши эти поставлялись в Москву и пользовались там огромным успехом. Как только прознал царь, кто и где делает такую красоту, – тотчас же направил свои царские войска на поиски мастера. Каким образом проведал иконописец-раскольник про то, что идут за ним, – то не только нам, но даже и ученым-искусствоведам неведомо. Собрал он местных жителей, рассказал им в подробностях все свои производственные секреты, отдал краски, кисти и… исчез. Исчез, если верить одной из легенд, а если другой, то не исчез, а зашел в свой дом, затворился и сгорел заживо. Эта концовка, надо сказать, довольно правдоподобная. Не раз и не два раскольники затворялись в своих лесных скитах и сжигали себя заживо, чтобы не попасть в руки правительственных войск. До несгоревших скитов рано или поздно добирались войска, правительственные чиновники и раскатывали их по бревнышку, а насельников выгоняли на все четыре стороны. Кроме тех, конечно, которых сажали «за караул», как выражались во времена Петра Алексеевича, бывшего большим любителем поприжать староверов.
При Николае Первом за искоренение старообрядчества в Заволжье отвечал чиновник особых поручений Министерства внутренних дел Павел Иванович Мельников-Печерский, по совместительству известный писатель и большой знаток быта и обычаев староверов. Мельников все свое детство провел в Семенове и старообрядцев знал не понаслышке. Павел Иванович за свои заслуги в деле разорения скитов и обращения в единоверие получил от правительства орден Св. Анны (правда, в петлицу, а не на шею), а от староверов столько проклятий… «Мельниковым зорением» называли его деятельность староверы. Павел Иванович даже стал героем старообрядческого фольклора. Про него слагали песни и рассказывали, что сквозь стены он взором проницал и верхом на змии ехал, а все потому, что заключил союз с самим врагом рода человеческого. Дела эти прошлые – староверов теперь в Семенове раз-два и обчелся, а от Мельникова-Печерского остались нам два толстенных романа – «В лесах» и «На горах» – да улица его имени в Семенове. Не такая, конечно, широкая, как улица 50 лет Октября, в которую она впадает, но уютная и уставленная домиками с резными наличниками на окнах.
Вернемся, однако, к легендам, но прежде заметим, что село Хохлома, без упоминания которого не обходится ни один рассказ о хохломской росписи, к этой самой росписи имеет в некотором роде двоюродное отношение. В Хохломе преимущественно происходил оживленный торг так называемым «щепным» или «щепетильным» товаром, а расписывали все эти деревянные чашки и ложки в окрестных деревнях Семеновского уезда, которые назывались Большие и Малые Бездели, Мокушино, Шабаши, Глибино и Хрящи. Ну не Малые же Бездели с Хрящами и Шабашами брать в прилагательные и существительные такой красоте.
Так вот, по еще одной легенде, которой пользуются все семеновцы каждый день по многу раз, основал село Семеновское Семен-ложкарь. Он же первым стал бить баклуши – чурбачки-заготовки для изготовления ложек. В восьмидесятых годах XIX века в Семеновском уезде было зарегистрировано более трех тысяч дворов ложкарей с восемнадцатью тысячами работников, считая женщин и детей. Вся эта армия производила тридцать пять миллионов ложек в год. Это получается почти по две тысячи ложек на брата, на сестру, на бабку, на дедку, на Жучку и на кошку с мышкой. И ложки эти надо было не только вырезать из дерева, но еще и загрунтовать и расписать. К концу XIX века Семеновский уезд производил уже восемьдесят миллионов ложек. Если бы этими ложками одновременно зачерпнуть, то, наверное, Волгу можно было бы вычерпать. Уж если не Волгу, то Оку точно.
Сорок сортов ложек выделывали семеновские кустари – «рабочие», «бурлацкие», «детские», «монастырские», «уполовник» и множество других. На обычных ложках рисовали птичек, ягодки, домики, листочки, на «монастырках» – башенки и колокольни, на бурлацких могли бы рисовать канаты и кораблики, но не рисовали, а вместо этого просто делали их раза в два больше обычных. Большой популярностью пользовалась так называемая «отеческая» или «воспитательная» ложка, которой отец семейства бил по лбу детей, начавших есть раньше родителей или ведущих за столом неподобающие разговоры. На таких ложках не рисовали ни ягод, ни листьев, а писали различные нравоучительные пословицы и поговорки воспитательного характера, как правило, неприличного содержания[22 - Жаль, конечно, что ложки теперь все одинаковые в том смысле, что нет ни бурлацких, ни монастырских. Представьте себе, к примеру, ложку гаишника, расписанную «кирпичами» и двойными сплошными линиями, или ложку олигарха всю в газопроводах и нефтяных вышках, или ложку сотрудника НИИ, изрисованную дырками от бубликов, или Царь-ложку президента, на дне которой в мельчайших подробностях выписан Кры… то есть Кремль.].
Сумки с «бельем»
В историко-художественном музее и музее при фабрике «Хохломская роспись» собрано несколько сотен ложек красивых, ложек красивых во всех отношениях и ложек, от которых глаз не оторвать, а к ложкам тарелки, к тарелкам бокалы и рюмки, к рюмкам чашки, к чашкам чайники, к чайникам самовары, к самоварам расписные столы, а к столам расписные же стулья и стульчики. Между прочим, сервизы есть не только деревянные, но и фарфоровые, расписанные хохломской росписью. Однажды приехала в Семенов Людмила Зыкина, которая, если разобраться, тоже была в своем роде Хохлома, только песенная, посмотрела на сокровища, выставленные в музее, и посетовала, что нет в хохломской росписи ее любимых ландышей. Подумали семеновские мастера, попробовали, и… получилась у них «зеленая» хохлома, которую теперь так и называют «зыкинской». Художник, бывший у нас экскурсоводом на фабрике, рассказал, что сервиз в зыкинском стиле заказал у них не кто-нибудь, а сам Иосиф Кобзон, который, если разобраться, тоже в своем роде та еще… только политическая.
Говоря о сокровищах фабричного музея, нельзя обойти матрешек. Самая маленькая матрешка, изготовленная на семеновской фабрике, была величиной с рисовое зернышко, и это рисовое зернышко мастера расписали по всем правилам: с пышным букетом цветов на фартуке, с круглым румянцем на щеках и платочком в горошек. Самая большая была метрового роста, и в ней, как в Матренином ковчеге, хранилось семьдесят две матрешки. Семеновцы начали заниматься матрешками еще в конце двадцатых годов и в советское время делали матрешек даже к царскому столу. Лучший друг писателей и физкультурников любил дарить матрешек соратникам по строительству коммунизма в одной отдельно взятой и запуганной до смерти репрессиями стране. Как-то раз, к Первому съезду писателей СССР, Иосиф Виссарионович заказал набор матрешек-писателей для Алексея Максимовича. Понятное дело, что все они помещались внутри огромной и усатой горьковской матрешки. Рассказывают, что когда Горький открыл крупных матрешек Толстого, Фадеева, Эренбурга, Бабеля, а вслед за ними еще десяток мелких леоновых, парфеновых, безыменских и совсем мелких вишневских, то увидел, взяв в руки толстое увеличительное стекло, крошечную пятимиллиметровую матрешку чекиста Ягоды, – его чуть кондрашка не хватила.
Экскурсантам на фабрике показывают весь производственный цикл изготовления матрешек – от деревянных липовых чурок до готовых расписанных красавиц. Показывают и токарей-женщин, вытачивающих и ошкуривающих заготовки, показывают, как грунтуют и как расписывают. Тем, кто захочет, дадут в руки острую беличью кисточку и усадят раскрашивать матрешек. Понятное дело, что не тех, которые на продажу, а тех, которые специально для туристов. Особенно любят раскрашивать матрешек дети, когда их приводят на экскурсии. Впрочем, в детей превращаются и взрослые, как только им выдают матрешек, кисточки и разноцветную гуашь в баночках. Надо сказать, что заказов у фабрики много, особенно на матрешек, и она если и не процветает, то уж за свое будущее может не опасаться, чего не скажешь о тех, кто на ней работает. Средняя зарплата на фабрике – десять тысяч рублей. У токарей доходит до пятнадцати, но пока дойдешь до средней… Работа сдельная, и для того, чтобы заработать эти самые десять тысяч, к примеру, художнику, который расписывает матрешек, надо работать не только восьмичасовую смену, но и брать с собой на дом полные сумки «белья», как называют нераскрашенные заготовки, чтобы и дома до ночи их раскрашивать. Не возьмешь домой, отработаешь только восьмичасовой рабочий день – получишь три, в лучшем случае пять тысяч. Замужним хорошо – им помогают зарабатывающие в Нижнем или Москве мужья, а незамужним, разведенным и вдовам плохо. Особенно тем, у кого есть дети. Им приходится корпеть над матрешками и ранним утром, и поздним вечером, и в выходные дни[23 - Есть еще те, которые и расписывают на дому, и сами возят в Москву на продажу, но их немного. Художник умеет хорошо придумывать узоры и расписывать, а продавать, искать клиентов и вообще заниматься бизнесом умеет плохо.]. Добро бы работа была нелюбимая и ради денег – плюнули и перешли бы на другую, а то и вовсе уехали на заработки в Нижний или в Москву. Так нет же – любимая работа. Случайных людей на фабрике нет – сюда не приходят в надежде хорошо заработать. Молодежь фабрику старается, увы, обходить. Все держится на тех немолодых уже женщинах, которые не уйдут с фабрики, даже если там начнут брать деньги за вход.
– Часто ли бывают на фабрике бунты из?за низкой оплаты труда? – спросил я у художниц, помогавших мне расписывать матрешку. Опустили глаза художницы, вздохнули тяжело и отвечали:
– Не бывают.
«Любовь зла, и хозяева фабрики этим пользуются», – подумал я про себя, а после того, как посетил фирменный магазин при фабрике и вышел оттуда, больно искусанный ценами на хохломские сувениры, еще более утвердился в своем мнении.
Конечно, Семенов – это не только матрешки и золотая хохломская роспись. Кроме матрешек и росписи это на удивление ухоженный, уютный городок с чистыми улицами, площадями[24 - Есть в Семенове площадь Октябрьской Революции, на которой еще при советской власти поставили памятник трем коммунистам. Боролись эти коммунисты в девятнадцатом году за установление советской власти в Заволжье. Так боролись, что их убили до смерти те, кому советская власть была поперек горла. Между собой семеновцы называют памятник «Тремя мужиками», а площадь вокруг памятника «площадью Трех мужиков». Про площадь Трех мужиков вычитал я в интернете, и черт меня дернул блеснуть своей эрудицией как раз в тот самый момент, когда наш экскурсовод рассказывал проникновенным голосом об истории подвига трех коммунистов… и тут вдруг оказалось, что один из этих коммунистов приходится ей то ли двоюродным, то ли троюродным прадедушкой. Возмущению экскурсовода не было предела. Конец экскурсии прошел в менее теплой и менее дружественной обстановке.], мусорными урнами, расписанными хохломскими узорами, и такими красивыми, непохожими одна на другую, цветочными клумбами, какие и в столице редко встретишь. По количеству резных оконных наличников на душу населения Семенов далеко опережает не только Москву, Париж или Токио, но даже и Городец с Кимрами и Палехом. Наверное, все это потому, что по количеству людей с художественным вкусом на душу населения Семенов далеко опережает… да кого угодно и опережает.
Июль 2014
Библиография
Шамшурин В. А., Алексеев В. А. Под сенью керженских лесов. Нижний Новгород, 2009. 118 с.
ТРИСТА ПАР КОКЛЮШЕК
Балахна
Туристы Балахну своим посещением не балуют. Нижний балуют, Городец балуют, даже Чкаловск балуют, а Балахну проезжают мимо. Ну и зря. Все равно мимо нее не проезжаешь, а проползаешь в многокилометровой и многочасовой пробке по дороге из Нижнего в Городец. За это время можно было бы не только познакомиться, но даже и напроситься на чай поужинать и переночевать. Конечно, в Балахне нет красивых медовых пряников, как в Городце, или Кремля, как в Нижнем, и даже само название города напоминает о каком-то балахоне – мешковатом и распахнутом на волжском ветру. Даже и поговорка такая есть у аборигенов – «стоит Балахна полы распахня». Кстати говоря, жителей Балахны, которых теперь называют «балахнинцами», в наши Средние века так и называли – «балахонцы». Ходили, мол, они в специальных балахонах, чтобы защитить себя от разъедающего действия солевых растворов, поскольку в те далекие времена Балахна была одним из центров соледобычи на Руси. Часть краеведов даже выводит из этого балахона происхождение названия города, а другая часть эту версию считает несостоятельной и утверждает, что балахонцами жители Балахны стали из?за новгородцев, сосланных Иваном Грозным на Волгу. Новгородцев называли «волохонцами» потому, что были они с берегов Волхова. Ну а от волохонцев до балахонцев, считай, рукой подать. Третья часть краеведов считает, что две первые части краеведов… а четвертая часть и вовсе считает, что название города произошло от персидского «Бала ханэ», что означает «Верхний город». И правда, Балахна находится в верхнем течении Волги. Есть еще и пятая часть, и шестая с восьмой, но о них даже упоминать не станем – иначе к самому городу мы так и не продеремся сквозь заросли этих версий.
Соль на Городце
Самое удивительное, что поначалу город и вовсе назывался Соль на Городце и городом никаким не являлся, поскольку не было у него ни крепости, ни пушек на башнях, ни рва, утыканного острыми кольями и наполненного водой, ни приказной и губной избы, ни толстого воеводы с золотой серьгой в ухе, который по утрам устраивал бы смотр стрельцам и распекал их за ржавчину на бердышах и отсыревший порох в пороховницах. Вместо крепости были соляные варницы, вместо башен рассолоподъемные трубы, а вместо одного воеводы были целых три совершенно штатских человека – купец Иван Ястребов и два брата Ляпиных – Федор и Нефедей. Именно они основали поселение на месте современной Балахны. Легенда говорит о том, что вся эта троица была в плену у татар в Сибирском ханстве и у них научилась добывать соль. Одна часть краеведов утверждает, что Ястребов и братья Ляпины основали Соль на Городце в самом конце XIV века, и даже называют год, от которого и предлагают вести историю Балахны, другая часть считает, что можно считать годом основания города упоминание Соли на Городце в духовной серпуховского князя Владимира Андреевича в первом или втором году XV века, третья указывает на то, что впервые Балахна упоминается под своим именем в грамоте Ивана Третьего от пятьсот второго года, которая до нас не дошла, но упоминается в более поздней грамоте Ивана Четвертого, а четвертая в лице известного писателя и краеведа Мельникова-Печерского непоколебимо стоит на том, что еще в XI веке на месте современной Балахны находился город волжских булгар и в нем каждый год были ярмарки… Мы и тут аккуратно обойдем стороной спорящих на эту тему краеведов и пойдем дальше – в те времена, когда Балахна стала одним из центров солеварения Московского государства.
Это была эпоха первого золотого века Балахны. Это были десятки пробуренных на глубину до сотни метров соляных колодцев и десятки изготовленных из огромных дубовых стволов рассолоподъемных труб[25 - Строго говоря, средневековая технология добычи соли в разных местах была примерно одинаковой. Уж если и отличалась она, то названиями рассолоподъемных труб, которые давались сообразно местной топонимике, фамилиям владельцев и чувству юмора балахонцев. Попадья Большая, Киселиха Меньшая, Золотуха, Толстуха Большая и Толстуха Малая, Близнецы, Каменка в узкой улочке и Каменка Малая, Кошелиха а Кухтина тож… Поди теперь разбери, отчего трубу назвали Золотухой – чесалась она у них или шелушилась…], из которых сотнями и тысячами бадей поднимали на поверхность десятки тысяч литров рассола, выпаривали, затаривали десятки тысяч пудов соли в мешки и отправляли по Волге на стругах или подводах в города и веси нашей, уже тогда необъятной, страны. Первый золотой век продлился в Балахне почти два столетия – с XVI по XVII век включительно, пока другие, более богатые, месторождения соли не превратили его поначалу в серебряный, потом в бронзовый, а под конец и вовсе в железный. Еще и проржавевший насквозь. Надо сказать, что солеварение в Балахне не прекратилось в одночасье – оно медленно и мучительно умирало на протяжении всего XVIII и даже XIX веков. В шестидесятых годах XIX века из бывших когда-то восьмидесяти варниц осталось всего шесть, из которых пять взял у казны в аренду декабрист И. А. Анненков. Увы, вернуть их к полноценной жизни не получилось. И механизация не помогла. Еще в Гражданскую войну из нескольких труб качали солевой раствор и выпаривали из него соль. Впрочем, в Гражданскую никто и не заикался о рентабельности производства – хватило бы щи посолить. В шестидесятых годах прошлого века на берегу Волги еще оставалось около двух десятков заброшенных труб. Из одной из таких труб солевой раствор выбивало и в начале нашего века. Воля ваша, а я бы этот раствор разливал по красивым пузырькам и продавал туристам с инструкцией по солеварению в домашних условиях. Еще бы и приписал, что балахнинская соль, которую издревле поставляли к царскому столу и которую более всех других солей любил Иван Грозный, обладает несомненными целебными свойствами. В умеренных, конечно, дозах.
Теперь от многочисленных балахнинских рассолоподъемных труб остались лишь деревянные фрагменты, из одной части которых смонтирована посвященная солеварению экспозиция в местном краеведческом музее, а другая хранится в запасниках музея.
Как бы там ни было, а соль дала возможность стать Балахне на ноги и крепко на них стоять. Соль превратила Балахну из обычного поселка при солевых колодцах в город. Тот самый город, который с крепостью, с двадцатью пушками на восьми крепостных башнях, со рвом, утыканным острыми кольями и заполненным водой, с подвалом, где хранилось десять тысяч каменных и железных ядер, и с толстым воеводой с золотой серьгой в ухе, каждое утро устраивающим смотр стрельцам в крепости, которая была построена на Балахонском Усолье в 1537 году по указу матери Ивана Грозного Елены Глинской для защиты посадских людей и нажитого непосильным трудом добра от набегов казанских татар, лихих людей и их вместе взятых. Кое-кто из историков утверждает, что построили крепость лишь после того, как за год до постройки казанцы во главе с ханом Сафа-Гиреем сожгли и разграбили Балахну дочиста, как об этом записано в Никоновской летописи, но это, конечно, не так. Постройка крепости стояла в плане московских властей еще до татарского набега – просто басурман черти принесли вне всякого плана.
Между прочим, пушек в балахнинской крепости в конце третьей четверти XVI века было ровно столько же, сколько в Нижегородском кремле. И вообще в те времена Балахна была всего в два раза меньше Нижнего по числу дворов и входила в первую дюжину городов Московского княжества. Что-то пошло не так, и теперь Балахна в двадцать пять раз меньше Нижнего и даже в четвертой сотне наших современных российских городов, увы, не первая…
Но вернемся в те времена, когда Балахна росла и богатела[26 - Так богатела, что даже Иван Грозный включил ее в состав своих опричных земель. Грозный, кстати, был в Балахне проездом после взятия Казани. На радостях отведал вынесенную ему балахонцами хлеб-соль, которая в тамошнем исполнении была более похожа на соль-хлеб, сказал, что вкуснее этой соли ничего не едал и ускакал в Москву, а в Балахне приказал построить Никольскую церковь, которая стоит и до сей поры на проспекте Революции.], богатела, богатела… пока не пришла Смута. О роли и месте Балахны в Смуте рассказывать довольно сложно. С одной стороны, Балахна – это родной город не кого-нибудь, а самого Козьмы Минина. В нынешней Балахне на каждом придорожном электрическом столбе висит табличка, на которой написано, что Балахна – родина этого, без сомнения, выдающегося человека. И памятник Минину установлен на одной из площадей города[27 - На самом деле бетонный покрашенный «под бронзу» памятник в 1943 году установили в Нижнем. Почти сорок лет он там простоял. Почему он перестал нравиться местному начальству – теперь не установить, а только сослали они его в Балахну, на родину героя. Себе же нижегородцы сделали другой, побогаче, из настоящей бронзы. Не то чтобы они помнили ту атаку «лутчих балахонцев посадских людей» и тушинцев на Нижний, а все же…]. Как раз перед музеем его имени. С другой… Балахна и уезд исправно присягали сначала Гришке Отрепьеву, а потом и Тушинскому вору. Мало того, балахнинский воевода Степан Голенищев вместе с тушинцами дерзнул пойти на штурм Нижнего Новгорода. Вышел боком воеводе, а вместе с ним и Балахне, этот штурм. Нижегородцы «воров побили же, и балахнинского воеводу Степана Голенищева и лутчих балахонцев посадских людей привели в Нижний». Привели, чтобы казнить, и немедленно казнили, а Балахну привели к присяге царю Василию Шуйскому. Только стали балахонцы восстанавливать свои соляные промыслы, как в 1610 году напали казаки и все дотла сожгли и разграбили. Через два года двинулось ополчение Минина и Пожарского на Москву через Кострому и Ярославль, а прежде всего через Балахну. Стояло ополчение в Балахне долго. Собирали деньги на войну с поляками. Кто утверждает, сообразуясь с историческими документами, что балахонцы сдавали деньги Минину, бывшему казначеем ополчения, добровольно и с охотой, а кто говорит, сообразуясь с этими же документами, что и совсем наоборот. Минин обложил всех недетским налогом – потребовал две трети имущества сдать в кассу ополчения. Сам-то он поступил именно таким образом. Что же до балахонцев, то они, по-видимому, не все были готовы принести такие жертвы на алтарь отечества. Тем, кто был не готов и принес не две трети, а половину или даже одну треть, а то и вовсе объявил себя неимущим, Минин предложил отрубать руки. Времена тогда были такие, и сам Козьма Минин был таков, что в серьезности и неотвратимости его предложения никто и не подумал усомниться. Понесли неимущие не только две трети, но три четверти.
Второй золотой век и половина третьего
После Смуты Балахна с помощью своих соляных промыслов восстановилась быстро, но в XVIII век она пришла уже не молодой и полной сил, а одряхлевшей и постоянно оглядывающейся назад, в свое славное светлое прошлое. Не так ли и мы теперь?.. (Подобные мысли, однако, лучше от себя гнать. Тем более что к истории Балахны они не имеют никакого отношения.) На самом деле не все было так плохо, как хотелось бы, – в недрах первого золотого века исподволь вызревал второй. Даже два вторых. Вокруг Балахны были довольно большие месторождения отличной глины, которая, как известно, при достаточном умении и сноровке превращается в кирпичи, плитку и печные изразцы. В кирпичном и особенно изразцовом деле балахонцы достигли большого искусства. Настолько большого, что балахнинские кирпичи поставлялись к царскому столу в том смысле, что балхнинских кирпичников приглашали на строительство собора Василия Блаженного, они принимали участие в строительстве Московского Кремля и Санкт-Петербурга, а печи с красочными балахнинскими изразцами стояли в лучших домах Нижнего Новгорода и Гороховца, Ярославля и Костромы. В самой Балахне такие изразцы сохранились на Спасской церкви, построенной во второй половине XVII века местными солепромышленниками в память о родственниках, погибших во время морового поветрия. Только надо помнить при ее осмотре, что те яркие, без единой трещинки, изразцы с узорами, райскими птицами и невиданными цветами, которые вы видите на стенах нижнего яруса шатровой колокольни, – это изготовленные недавно, хоть и с большим искусством, но копии. А вот те облупленные, в сетке мелких трещин, потемневшие от времени изразцы на втором ярусе колокольни – настоящие.
Кроме кирпичников славилась Балахна своими иконописцами. Такими, что состояли при Оружейной палате, хоть и проживали в Балахне. Эти иконописцы принимали участие в росписи кремлевских Успенского и Архангельского соборов. Впрочем, это уж и не второй золотой век, а половина третьего. Вторая половина третьего – знаменитые колокола и колокольчики, звеневшие не хуже валдайских. Их лили в Балахне на заводе Чарышниковых. От самых маленьких, поддужных, до тысячепудовых колоколов для храмов Ярославля, Мурома, Красноярска и Санкт-Петербурга. Огромные балахнинские колокола всегда имели голоса звучные и приятные для слуха. Мало кто теперь помнит, что отличались они, к примеру, от колоколов, которые лили в Москве, одной интересной деталью. Московские колокольные мастера всегда перед отливкой больших колоколов распускали по городу самые невероятные слухи и небылицы, а балахнинские – никогда. Даже тогда, когда отливали тысячепудовый колокол специально для Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в 1896 году в Нижнем Новгороде. Уж как ни выспрашивали у них москвичи, как ни подсылали к ним нижегородцев, чтобы узнать, какую байку сочинили балахнинцы, чтобы их колокол так чисто звучал, – так ничего и не сказали им честные балахнинцы[28 - Не умели они врать, а потому каждый раз, как возникала нужда в отливке колокола, выписывали они себе из Москвы человечка, который и сочинял им такое… Даже денег не брал. Работал, можно сказать, из одной любви к искусству и вину. Бывало, придумает он такую историю, от которой все только рты в изумлении разевают, а к ней приплетет еще самых невероятных деталей. И это при том, что колокол-то собирались лить всего один. Так рачительные хозяева завода, чтобы эти умопомрачительные детали не пропали зря, – отольют за компанию еще десяток мелких колокольчиков.].
Более всего, после пришедшего в упадок солеварения помогло Балахне судостроение. Началось оно еще в первой половине XVII века, когда в Россию приезжало посольство от Шлезвиг-Голштинского герцога Фридриха. Секретарем этого посольства был не кто иной, как Адам Олеарий. Голштинцам очень хотелось прокатиться по Волге от верховьев до самой Персии. Был у них в этой Персии торговый интерес. И у нас он был тоже. Предполагалось построить для путешествия по Волге и Каспию, а также для торговли шелком с Персией десять кораблей. Строить решили в Балахне. И условие с нашей стороны было только одно – иностранцы своего умения перед нашими плотниками не утаивают. Они и не утаили. В 1636 году был спущен на воду трехмачтовый и двадцатичетырехвесельный «Фридерик» под голштинским флагом. Он доплыл до самого Дагестана, где его настигла страшная буря и разбила о прибрежные камни. Остальные девять кораблей строить не стали. Плотникам для обучения хватило и одного.
И стали строить балахонцы военные суда. Большая часть парусников для Азовского похода была построена в самом конце XVIII века в Балахне. Правда, Петр не был бы Петром, если бы не прислал на балахнинские верфи для наблюдения за качеством иностранных специалистов. После азовского заказа стали строить и морские шхуны для Каспия, речные суда, военные корабли для Балтийского флота. Построили и галеру, на которой Екатерина Великая путешествовала по Волге. Из гражданских судов более всего строили огромные, нередко стометровые в длину, баржи-беляны грузоподъемностью до десяти тысяч тонн. При этом умудрялись строить их без всяких стапелей. Иной раз заказов было столько, что строили по сотне барж в год. Достроились до того, что даже в герб Балахны попали детали корабельных конструкций – кокоры[29 - Кокоры – это стволы деревьев вместе с корнями, но не со всеми корнями подряд, а только с теми, которые перпендикулярны стволам. Остальные растущие под разными неполезными углами корни обрубали. Проще говоря, кокоры – это шпангоуты, если вы, конечно, понимаете, о чем речь. Признаться, я и сам не очень разбираюсь в шпангоутах и часто путаю их с бимсами… Короче говоря, пусть в кокорах балахнинцы разбираются. Я даже не уверен, что все они, если разбудить их ночью и спросить, что такое кокоры, без запинки ответят на этот вопрос.]. В середине XIX века стали делать пароходы и продолжали бы их делать до сих пор, кабы не хитроумный грек Бенардаки, построивший возле Нижнего, в Сормове, свой судостроительный завод. Балахнинские судостроительные магнаты не смогли с ним выдержать конкуренции, и понемногу третий золотой век Балахны стал клониться к своему закату. В конце XIX века Балахна, хоть и бывшая уездным городом, превратилась в заброшенный нищий заштатный городок, в котором немного торговали кирпичами, немного плели кружева, немного делали деревянную домашнюю утварь и… все.
Триста пар коклюшек
XX век нельзя назвать золотым веком Балахны. Скорее это были электрический, бумажный и картонный века вместе. Все потому, что построили в Балахне электростанцию и огромные целлюлозно-бумажный и картонный комбинаты. Понятное дело, что к царскому столу ни балахнинское электричество, ни балахнинская бумага, ни картон не доходят. Ну да это ничего. Зато на работу не надо уезжать в Москву или Нижний. Хотя… бегают по Москве – и не только по ней – микроавтобусы «Мерседес» и «Фольксваген», которые собирают в Балахне. С одной стороны, немецкие микроавтобусы – это не свои корабли, печные изразцы и кружево, а с другой… Первый корабль на балахнинской верфи тоже назывался «Фридерик» и ходил под голштинским флагом.
Почему в Балахну не едут туристы… Наверное, потому, что нет в Балахне пристани для туристических теплоходов. В Городце пристань есть, в Нижнем, понятное дело, есть, а в Балахне нет, хотя музеев целых три. Да и музеи какие… Один краеведческий, расположенный в усадьбе купца первой гильдии судостроителя Плотникова и недавно прекрасно отремонтированный, стоит того, чтобы в нем провести не час и не два.
В музее есть зал с балахнинскими кружевами, которые уже триста лет плетут местные мастерицы из белых, кремовых и черных шелковых нитей при помощи кленовых коклюшек. Все эти невесомые кружевные мантильи и шарфики, искусно сплетенные единственно для того, чтобы их владелица, сидя теплым летним вечером в саду у остывшего самовара и слушая пение соловьев, могла бы сказать, зябко поводя круглыми полными плечами: «Как, однако, посвежело. Принесите мне, Николя, мою черную кружевную мантилью из гостиной».
И принести, и укутать ее этой мантильей, и видеть, как она прямо на твоих влюбленных глазах из Настеньки превращается в Инезилью, как Балахна становится Севильей, и потом бесчисленное количество раз поправить этот переплетенный черным шелком воздух у нее на плечах, а на вопрос, кто это там так отвратительно горланит на берегу, отвечать, шепча в золотой завиток, прикрывающий веснушчатое и розовое от смущения ухо: «Это, Настенька, мужичье-с на верфи расчет за баржу получило. Вот и горланят, надравшись. Животные-с. Никакого понятия о культурном отдыхе».
Кстати, о коклюшках. Балахнинское кружевоплетение – одно из самых сложных и трудоемких. В нем используется до трехсот и более пар коклюшек одновременно. Не ко всякому, надо сказать, царскому столу такое кружево и поставляют.
Есть у краеведческого музея филиал, расположенный в усадьбе известного балахнинского купца первой гильдии, городского головы, владельца баржестроительной верфи и гласного городской думы Александра Александровича Худякова. Жил он в этой огромной усадьбе на набережной Волги втроем с женой и сыном. Сын отчего-то умер в пятилетнем возрасте, и Александр Александрович вместе с женой уехал в Нижний, а усадьбу подарил Нижегородской епархии. Жили там довольно долгое время престарелые священнослужители. При советской власти находился там детский дом, потом сидели чекисты и других сажали, с тридцатых годов устроили детский садик, а теперь филиал музея. Музейных экспонатов в этом доме мало – печи со знаменитыми балахнинскими изразцами, несколько старых самоваров, красивый кожаный диван конца позапрошлого века, видавший виды письменный стол, патефон, настенные часы с боем, комната с чучелами животных и птиц, населяющих эти края, несколько старых фотографий на стенах, уголок бывшего детского сада с пластмассовыми пупсами – вот, пожалуй, и все. Кроме этих экспонатов есть там такая тишина и такой покой… Достаточно сесть у окна, у колеблемой летним ветерком шторы, на стул и безотрывно час или два смотреть, как в сотне метров от тебя и твоего стула медленно плывет по Волге огромная черная баржа с нефтью или лесом, как кипит, разрезаемая форштевнем, вода, как пыхтит толкающий баржу буксир, как что-то кричит матрос другому матросу, как другой матрос показывает первому… Ей-богу, я бы не отказался и приплатить за час сидения одному у окна худяковского дома. Да, наверное, не только я. За небольшие, но отдельные деньги для более состоятельных туристов можно поставить рядом графин с водкой и патефон. Завести на нем «Дубинушку» или «Очи черные» в шаляпинском исполнении. Пусть слушают, тяжело вздыхают и даже смахивают украдкой слезу. И уж для тех, кто не ограничен в средствах, на словах «вы сгубили меня, очи черные» пусть входит в комнату человек, наклоняется к уху туриста и тихонько спрашивает: «Прикажете цыган?» И в сей момент, под окнами, на улице Карла Маркса грянул бы хор «К нам приехал, к нам приехал…». И под эти величальные слова и переливчатый звон цыганских монист выйти на пристань, у которой стоит белый катер с прекрасной царь-девицей, крикнуть старшему группы: «Не поминайте лихом!» – и уплыть в Нижний гулять до утра, а потом, через неделю или две, продав японские часы, подаренные женой ко дню рождения, или новый фотоаппарат, купленный перед отпуском, добраться на электричках и попутках к себе домой в какие-нибудь Сухиничи или Череповец, позвонить в дверь, почти увернуться от утюга, пущенного точно в голову, и потом, часа через два или три, тихонько сидеть в полутемной кухне, гладить по вихрастой голове сына, второклассника и второгодника, и шептать ему: «Не женись, Витька. Никогда не женись!» – осторожно трогая указательным пальцем багровый фингал под левым глазом.
P. S.
Если ехать из Костромы в Солигалич и сразу за Чухломой повернуть налево, проехать по проселку километра полтора или два до ворот Авраамиево-Городецкого монастыря, войти в них, подняться на самую вершину холма, на которой стоит собор, сесть на укрепленную гранитными валунами скамейку, которая устроена над высоким обрывом, и сидеть на ней полчаса или хотя бы четверть часа, и смотреть, не отрываясь, на Чухломское озеро, на плавающее в нем небо, на облака в этом небе, на сосны по берегам этого неба, то можно почувствовать себя и сосной, и озером, и облаком, и небом, и даже жаворонком, если вы, конечно, сможете углядеть его в небе, которое внутри вас.
Май 2014
Библиография
Белоруссов Л. М. Из истории Солигаличского края: Сб. краеведческих работ. Кострома: ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», 2013. 256 с.
Фигуровский Н. А. Очерки средневековой истории г. Солигалича. Кострома: Авантитул, 2010. 268 с.
Губернский дом: историко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал. Кострома, 1995, № 4. 80 с.
СОРОК СОРТОВ ЛОЖЕК
Семенов
Кабы не хохломская роспись да знаменитые на весь мир матрешки – быть бы Семенову обычным медвежьим углом, каких у нас такое множество, что, кажется, только из этих углов мы и состоим. Это теперь в Семенове на площади имени Бориса Корнилова[19 - На площади имени Бориса Корнилова, уроженца села Покровского Семеновского уезда, стоит первый в России памятник репрессированному поэту, написавшему в тридцать втором году «Песню о встречном» и расстрелянному на тридцать первом году жизни в тридцать восьмом году как «активный участник антисоветской троцкистской организации, ставившей своей задачей террористические методы борьбы против руководителей партии и правительства». Руководители партии и правительства приказали считать слова «Песни о встречном» народными, и они стали народными и были ими почти тридцать лет до самой посмертной реабилитации Корнилова «за отсутствием состава преступления». После реабилитации они так народными и остались до самого конца этого народа, который тоже, как оказалось, был активным участником антисоветской организации.] стоит гостиница «Париж»[20 - «Париж» он потому, что план Парижа как две капли воды похож на план Семенова. Так, по крайней мере, считают все семеновцы и вместе с ними хозяин гостиницы. В холле семеновского «Парижа» стоит настольный макет Эйфелевой башни с прикрепленной к ее основанию табличкой, на которой написано «г. Семенов». Номера хорошие, уютные, вот только стены между ними так тонки и так звукопроницаемы, что слышно, как за стеной твоего номера кто-то громко думает, то ли выпить водки сейчас и потом пойти в гости к соседке, приехавшей вместе с ним в командировку на местный арматурный завод, то ли пригласить ее в лучший местный ресторан «Керженец» и там выпить вместе с ней, то ли пойти в гости… но выпить непременно. Кстати сказать, Семеновский арматурный завод переживает нынче не лучшие времена. Проще говоря, загибается арматурный завод. Остался литейный цех, но и он дышит на ладан. В позапрошлом веке этот завод, основанный местным механиком-самоучкой Гавриилом Семеновичем Рекшинским и его дядей, очень даже процветал. Основной продукцией были весовые гири – от самых больших до самых маленьких. Гири были такого качества, что владельцам завода было разрешено ставить на них собственное клеймо. Кроме гирь выпускали клещи, слесарные ножницы, колеса и даже печные заслонки с античными сюжетами. Две из них стоят за стеклом в местном краеведческом музее. На одной из них изображена та самая колесница того самого Аполлона, которая изображена на том самом Большом театре и на тех самых ста рублях, которые так оскорбили нравственность наших депутатов. Я присматривался – Аполлон на дверце вне подозрений, а вот кони…Впрочем, это все мелкие детали и к нашему рассказу не имеющие никакого касательства. Про Гавриила Семеновича Рекшинского все же не лишним будет добавить, что прожил он долгую жизнь и семь раз избирался семеновским городским головой. Тридцать один год управлял он Семеновом, замостил камнем городские мостовые, начал строить больницу и успел умереть перед самым семнадцатым годом. Очень немного было в тогдашней провинциальной России таких городских голов. Сына Гавриила Семеновича новые власти в восемнадцатом году с завода выгнали, но… тут же попросили вернуться, поскольку оказалось, что каждая кухарка не может управлять не только государством, но и чугунолитейным заводом. Еще пять лет он руководил заводом и готовил себе смену, а потом уехал в Нижний, подальше от своих учеников.] и в городской бане, которая находится на той же площади, все шайки расписаны под хохлому, а лет четыреста назад здесь, кроме села Семенова, затерянного среди дремучих, глухих и немых керженских лесов, не было ничего. В первый раз Семенов упомянут в письменных источниках по довольно необычному и даже несколько обидному поводу – в самой середине XVII века в каком-то платежном документе кто-то написал, что житель села Семеновского Никифор Щетинин, бывший на оброке вместе со всем селом у боярина Бориса Ивановича Морозова, не уплатил за сенной покос. Ну не уплатил. Наверное, высекли Никифора или конфисковали в счет уплаты долга корову или то и другое вместе. Зато не было повода у летописца написать, что брали село штурмом татаро-монголы, что присягали семеновцы Лжедмитриям, что жгли посад интервенты, уводя в плен аборигенов. Может, еще долго в тех местах было бы малолюдно и тихо, если бы ровно через пять лет после первого упоминания села Семеновского патриарх Никон не начал свою церковную реформу. Стали в Заволжье от греха подальше стекаться те, которых от никонианской реформы, что называется, с души воротило в самом прямом смысле этого слова. Впрочем, не только староверы шли в заволжские леса – шли остатки разбитых разинских отрядов, беглые крестьяне, московские, смоленские, новгородские старообрядцы, соловецкие монахи-раскольники, монастырь которых после долгой осады взяли царские полки, иконописцы и просто лихие люди. В известном смысле Заволжье середины XVII века стало для русских тем, чем стала Америка для европейцев после открытия ее Колумбом.
Беглые иконописцы
Насчет того, кто придумал расписывать деревянную посуду хохломской росписью… Если даже исключить ее инопланетное происхождение, то и тогда останется множество или даже два множества версий. Самые правдоподобные и самые скучные из них принадлежат, понятное дело, историкам, археологам и искусствоведам. Пишут они, к примеру, что ложкари пришли в Заволжье из соседнего Приволжья, буквально с другого берега из староверческого села Пурех[21 - Проезжал я как-то мимо Пуреха – нет нынче там никаких ложкарей и староверов нет. Зато в придорожном вагончике с надписью «Вяленая и копченая рыба» можно купить небольших копченых стерлядок недорого. Свежий пурехский ситный хлеб ничуть не уступает стерлядкам по вкусу. Если есть их вместе, пить крепкий горячий чай из большого походного термоса и при этом смотреть вдаль, на залив, который образует река Юг при впадении в Волгу, на семью цапель, медленно и чинно летящих сквозь туманную дымку из левого угла неба в правый, то можно получить если не море, то реку удовольствия. С заливом в придачу.], близ Балахны, что техника хохломской «золотой» росписи была занесена на левый берег Волги беглыми иконописцами, что можно сравнить технику и приемы мастеров-иконописцев «строгановского письма», установить связь, найти истоки, что хохломской промысел и вовсе возник из нужд крестьянского быта… Нет, мы не будем устанавливать, анализировать и выводить из нужд, тем более бытовых. Лучше мы обратимся к легенде, по которой скрывался в дремучих керженских лесах беглый иконописец-раскольник, делавший деревянные чаши, братины и ендовы, удивительно похожие на золотые. Само собой, чаши эти поставлялись в Москву и пользовались там огромным успехом. Как только прознал царь, кто и где делает такую красоту, – тотчас же направил свои царские войска на поиски мастера. Каким образом проведал иконописец-раскольник про то, что идут за ним, – то не только нам, но даже и ученым-искусствоведам неведомо. Собрал он местных жителей, рассказал им в подробностях все свои производственные секреты, отдал краски, кисти и… исчез. Исчез, если верить одной из легенд, а если другой, то не исчез, а зашел в свой дом, затворился и сгорел заживо. Эта концовка, надо сказать, довольно правдоподобная. Не раз и не два раскольники затворялись в своих лесных скитах и сжигали себя заживо, чтобы не попасть в руки правительственных войск. До несгоревших скитов рано или поздно добирались войска, правительственные чиновники и раскатывали их по бревнышку, а насельников выгоняли на все четыре стороны. Кроме тех, конечно, которых сажали «за караул», как выражались во времена Петра Алексеевича, бывшего большим любителем поприжать староверов.
При Николае Первом за искоренение старообрядчества в Заволжье отвечал чиновник особых поручений Министерства внутренних дел Павел Иванович Мельников-Печерский, по совместительству известный писатель и большой знаток быта и обычаев староверов. Мельников все свое детство провел в Семенове и старообрядцев знал не понаслышке. Павел Иванович за свои заслуги в деле разорения скитов и обращения в единоверие получил от правительства орден Св. Анны (правда, в петлицу, а не на шею), а от староверов столько проклятий… «Мельниковым зорением» называли его деятельность староверы. Павел Иванович даже стал героем старообрядческого фольклора. Про него слагали песни и рассказывали, что сквозь стены он взором проницал и верхом на змии ехал, а все потому, что заключил союз с самим врагом рода человеческого. Дела эти прошлые – староверов теперь в Семенове раз-два и обчелся, а от Мельникова-Печерского остались нам два толстенных романа – «В лесах» и «На горах» – да улица его имени в Семенове. Не такая, конечно, широкая, как улица 50 лет Октября, в которую она впадает, но уютная и уставленная домиками с резными наличниками на окнах.
Вернемся, однако, к легендам, но прежде заметим, что село Хохлома, без упоминания которого не обходится ни один рассказ о хохломской росписи, к этой самой росписи имеет в некотором роде двоюродное отношение. В Хохломе преимущественно происходил оживленный торг так называемым «щепным» или «щепетильным» товаром, а расписывали все эти деревянные чашки и ложки в окрестных деревнях Семеновского уезда, которые назывались Большие и Малые Бездели, Мокушино, Шабаши, Глибино и Хрящи. Ну не Малые же Бездели с Хрящами и Шабашами брать в прилагательные и существительные такой красоте.
Так вот, по еще одной легенде, которой пользуются все семеновцы каждый день по многу раз, основал село Семеновское Семен-ложкарь. Он же первым стал бить баклуши – чурбачки-заготовки для изготовления ложек. В восьмидесятых годах XIX века в Семеновском уезде было зарегистрировано более трех тысяч дворов ложкарей с восемнадцатью тысячами работников, считая женщин и детей. Вся эта армия производила тридцать пять миллионов ложек в год. Это получается почти по две тысячи ложек на брата, на сестру, на бабку, на дедку, на Жучку и на кошку с мышкой. И ложки эти надо было не только вырезать из дерева, но еще и загрунтовать и расписать. К концу XIX века Семеновский уезд производил уже восемьдесят миллионов ложек. Если бы этими ложками одновременно зачерпнуть, то, наверное, Волгу можно было бы вычерпать. Уж если не Волгу, то Оку точно.
Сорок сортов ложек выделывали семеновские кустари – «рабочие», «бурлацкие», «детские», «монастырские», «уполовник» и множество других. На обычных ложках рисовали птичек, ягодки, домики, листочки, на «монастырках» – башенки и колокольни, на бурлацких могли бы рисовать канаты и кораблики, но не рисовали, а вместо этого просто делали их раза в два больше обычных. Большой популярностью пользовалась так называемая «отеческая» или «воспитательная» ложка, которой отец семейства бил по лбу детей, начавших есть раньше родителей или ведущих за столом неподобающие разговоры. На таких ложках не рисовали ни ягод, ни листьев, а писали различные нравоучительные пословицы и поговорки воспитательного характера, как правило, неприличного содержания[22 - Жаль, конечно, что ложки теперь все одинаковые в том смысле, что нет ни бурлацких, ни монастырских. Представьте себе, к примеру, ложку гаишника, расписанную «кирпичами» и двойными сплошными линиями, или ложку олигарха всю в газопроводах и нефтяных вышках, или ложку сотрудника НИИ, изрисованную дырками от бубликов, или Царь-ложку президента, на дне которой в мельчайших подробностях выписан Кры… то есть Кремль.].
Сумки с «бельем»
В историко-художественном музее и музее при фабрике «Хохломская роспись» собрано несколько сотен ложек красивых, ложек красивых во всех отношениях и ложек, от которых глаз не оторвать, а к ложкам тарелки, к тарелкам бокалы и рюмки, к рюмкам чашки, к чашкам чайники, к чайникам самовары, к самоварам расписные столы, а к столам расписные же стулья и стульчики. Между прочим, сервизы есть не только деревянные, но и фарфоровые, расписанные хохломской росписью. Однажды приехала в Семенов Людмила Зыкина, которая, если разобраться, тоже была в своем роде Хохлома, только песенная, посмотрела на сокровища, выставленные в музее, и посетовала, что нет в хохломской росписи ее любимых ландышей. Подумали семеновские мастера, попробовали, и… получилась у них «зеленая» хохлома, которую теперь так и называют «зыкинской». Художник, бывший у нас экскурсоводом на фабрике, рассказал, что сервиз в зыкинском стиле заказал у них не кто-нибудь, а сам Иосиф Кобзон, который, если разобраться, тоже в своем роде та еще… только политическая.
Говоря о сокровищах фабричного музея, нельзя обойти матрешек. Самая маленькая матрешка, изготовленная на семеновской фабрике, была величиной с рисовое зернышко, и это рисовое зернышко мастера расписали по всем правилам: с пышным букетом цветов на фартуке, с круглым румянцем на щеках и платочком в горошек. Самая большая была метрового роста, и в ней, как в Матренином ковчеге, хранилось семьдесят две матрешки. Семеновцы начали заниматься матрешками еще в конце двадцатых годов и в советское время делали матрешек даже к царскому столу. Лучший друг писателей и физкультурников любил дарить матрешек соратникам по строительству коммунизма в одной отдельно взятой и запуганной до смерти репрессиями стране. Как-то раз, к Первому съезду писателей СССР, Иосиф Виссарионович заказал набор матрешек-писателей для Алексея Максимовича. Понятное дело, что все они помещались внутри огромной и усатой горьковской матрешки. Рассказывают, что когда Горький открыл крупных матрешек Толстого, Фадеева, Эренбурга, Бабеля, а вслед за ними еще десяток мелких леоновых, парфеновых, безыменских и совсем мелких вишневских, то увидел, взяв в руки толстое увеличительное стекло, крошечную пятимиллиметровую матрешку чекиста Ягоды, – его чуть кондрашка не хватила.
Экскурсантам на фабрике показывают весь производственный цикл изготовления матрешек – от деревянных липовых чурок до готовых расписанных красавиц. Показывают и токарей-женщин, вытачивающих и ошкуривающих заготовки, показывают, как грунтуют и как расписывают. Тем, кто захочет, дадут в руки острую беличью кисточку и усадят раскрашивать матрешек. Понятное дело, что не тех, которые на продажу, а тех, которые специально для туристов. Особенно любят раскрашивать матрешек дети, когда их приводят на экскурсии. Впрочем, в детей превращаются и взрослые, как только им выдают матрешек, кисточки и разноцветную гуашь в баночках. Надо сказать, что заказов у фабрики много, особенно на матрешек, и она если и не процветает, то уж за свое будущее может не опасаться, чего не скажешь о тех, кто на ней работает. Средняя зарплата на фабрике – десять тысяч рублей. У токарей доходит до пятнадцати, но пока дойдешь до средней… Работа сдельная, и для того, чтобы заработать эти самые десять тысяч, к примеру, художнику, который расписывает матрешек, надо работать не только восьмичасовую смену, но и брать с собой на дом полные сумки «белья», как называют нераскрашенные заготовки, чтобы и дома до ночи их раскрашивать. Не возьмешь домой, отработаешь только восьмичасовой рабочий день – получишь три, в лучшем случае пять тысяч. Замужним хорошо – им помогают зарабатывающие в Нижнем или Москве мужья, а незамужним, разведенным и вдовам плохо. Особенно тем, у кого есть дети. Им приходится корпеть над матрешками и ранним утром, и поздним вечером, и в выходные дни[23 - Есть еще те, которые и расписывают на дому, и сами возят в Москву на продажу, но их немного. Художник умеет хорошо придумывать узоры и расписывать, а продавать, искать клиентов и вообще заниматься бизнесом умеет плохо.]. Добро бы работа была нелюбимая и ради денег – плюнули и перешли бы на другую, а то и вовсе уехали на заработки в Нижний или в Москву. Так нет же – любимая работа. Случайных людей на фабрике нет – сюда не приходят в надежде хорошо заработать. Молодежь фабрику старается, увы, обходить. Все держится на тех немолодых уже женщинах, которые не уйдут с фабрики, даже если там начнут брать деньги за вход.
– Часто ли бывают на фабрике бунты из?за низкой оплаты труда? – спросил я у художниц, помогавших мне расписывать матрешку. Опустили глаза художницы, вздохнули тяжело и отвечали:
– Не бывают.
«Любовь зла, и хозяева фабрики этим пользуются», – подумал я про себя, а после того, как посетил фирменный магазин при фабрике и вышел оттуда, больно искусанный ценами на хохломские сувениры, еще более утвердился в своем мнении.
Конечно, Семенов – это не только матрешки и золотая хохломская роспись. Кроме матрешек и росписи это на удивление ухоженный, уютный городок с чистыми улицами, площадями[24 - Есть в Семенове площадь Октябрьской Революции, на которой еще при советской власти поставили памятник трем коммунистам. Боролись эти коммунисты в девятнадцатом году за установление советской власти в Заволжье. Так боролись, что их убили до смерти те, кому советская власть была поперек горла. Между собой семеновцы называют памятник «Тремя мужиками», а площадь вокруг памятника «площадью Трех мужиков». Про площадь Трех мужиков вычитал я в интернете, и черт меня дернул блеснуть своей эрудицией как раз в тот самый момент, когда наш экскурсовод рассказывал проникновенным голосом об истории подвига трех коммунистов… и тут вдруг оказалось, что один из этих коммунистов приходится ей то ли двоюродным, то ли троюродным прадедушкой. Возмущению экскурсовода не было предела. Конец экскурсии прошел в менее теплой и менее дружественной обстановке.], мусорными урнами, расписанными хохломскими узорами, и такими красивыми, непохожими одна на другую, цветочными клумбами, какие и в столице редко встретишь. По количеству резных оконных наличников на душу населения Семенов далеко опережает не только Москву, Париж или Токио, но даже и Городец с Кимрами и Палехом. Наверное, все это потому, что по количеству людей с художественным вкусом на душу населения Семенов далеко опережает… да кого угодно и опережает.
Июль 2014
Библиография
Шамшурин В. А., Алексеев В. А. Под сенью керженских лесов. Нижний Новгород, 2009. 118 с.
ТРИСТА ПАР КОКЛЮШЕК
Балахна
Туристы Балахну своим посещением не балуют. Нижний балуют, Городец балуют, даже Чкаловск балуют, а Балахну проезжают мимо. Ну и зря. Все равно мимо нее не проезжаешь, а проползаешь в многокилометровой и многочасовой пробке по дороге из Нижнего в Городец. За это время можно было бы не только познакомиться, но даже и напроситься на чай поужинать и переночевать. Конечно, в Балахне нет красивых медовых пряников, как в Городце, или Кремля, как в Нижнем, и даже само название города напоминает о каком-то балахоне – мешковатом и распахнутом на волжском ветру. Даже и поговорка такая есть у аборигенов – «стоит Балахна полы распахня». Кстати говоря, жителей Балахны, которых теперь называют «балахнинцами», в наши Средние века так и называли – «балахонцы». Ходили, мол, они в специальных балахонах, чтобы защитить себя от разъедающего действия солевых растворов, поскольку в те далекие времена Балахна была одним из центров соледобычи на Руси. Часть краеведов даже выводит из этого балахона происхождение названия города, а другая часть эту версию считает несостоятельной и утверждает, что балахонцами жители Балахны стали из?за новгородцев, сосланных Иваном Грозным на Волгу. Новгородцев называли «волохонцами» потому, что были они с берегов Волхова. Ну а от волохонцев до балахонцев, считай, рукой подать. Третья часть краеведов считает, что две первые части краеведов… а четвертая часть и вовсе считает, что название города произошло от персидского «Бала ханэ», что означает «Верхний город». И правда, Балахна находится в верхнем течении Волги. Есть еще и пятая часть, и шестая с восьмой, но о них даже упоминать не станем – иначе к самому городу мы так и не продеремся сквозь заросли этих версий.
Соль на Городце
Самое удивительное, что поначалу город и вовсе назывался Соль на Городце и городом никаким не являлся, поскольку не было у него ни крепости, ни пушек на башнях, ни рва, утыканного острыми кольями и наполненного водой, ни приказной и губной избы, ни толстого воеводы с золотой серьгой в ухе, который по утрам устраивал бы смотр стрельцам и распекал их за ржавчину на бердышах и отсыревший порох в пороховницах. Вместо крепости были соляные варницы, вместо башен рассолоподъемные трубы, а вместо одного воеводы были целых три совершенно штатских человека – купец Иван Ястребов и два брата Ляпиных – Федор и Нефедей. Именно они основали поселение на месте современной Балахны. Легенда говорит о том, что вся эта троица была в плену у татар в Сибирском ханстве и у них научилась добывать соль. Одна часть краеведов утверждает, что Ястребов и братья Ляпины основали Соль на Городце в самом конце XIV века, и даже называют год, от которого и предлагают вести историю Балахны, другая часть считает, что можно считать годом основания города упоминание Соли на Городце в духовной серпуховского князя Владимира Андреевича в первом или втором году XV века, третья указывает на то, что впервые Балахна упоминается под своим именем в грамоте Ивана Третьего от пятьсот второго года, которая до нас не дошла, но упоминается в более поздней грамоте Ивана Четвертого, а четвертая в лице известного писателя и краеведа Мельникова-Печерского непоколебимо стоит на том, что еще в XI веке на месте современной Балахны находился город волжских булгар и в нем каждый год были ярмарки… Мы и тут аккуратно обойдем стороной спорящих на эту тему краеведов и пойдем дальше – в те времена, когда Балахна стала одним из центров солеварения Московского государства.
Это была эпоха первого золотого века Балахны. Это были десятки пробуренных на глубину до сотни метров соляных колодцев и десятки изготовленных из огромных дубовых стволов рассолоподъемных труб[25 - Строго говоря, средневековая технология добычи соли в разных местах была примерно одинаковой. Уж если и отличалась она, то названиями рассолоподъемных труб, которые давались сообразно местной топонимике, фамилиям владельцев и чувству юмора балахонцев. Попадья Большая, Киселиха Меньшая, Золотуха, Толстуха Большая и Толстуха Малая, Близнецы, Каменка в узкой улочке и Каменка Малая, Кошелиха а Кухтина тож… Поди теперь разбери, отчего трубу назвали Золотухой – чесалась она у них или шелушилась…], из которых сотнями и тысячами бадей поднимали на поверхность десятки тысяч литров рассола, выпаривали, затаривали десятки тысяч пудов соли в мешки и отправляли по Волге на стругах или подводах в города и веси нашей, уже тогда необъятной, страны. Первый золотой век продлился в Балахне почти два столетия – с XVI по XVII век включительно, пока другие, более богатые, месторождения соли не превратили его поначалу в серебряный, потом в бронзовый, а под конец и вовсе в железный. Еще и проржавевший насквозь. Надо сказать, что солеварение в Балахне не прекратилось в одночасье – оно медленно и мучительно умирало на протяжении всего XVIII и даже XIX веков. В шестидесятых годах XIX века из бывших когда-то восьмидесяти варниц осталось всего шесть, из которых пять взял у казны в аренду декабрист И. А. Анненков. Увы, вернуть их к полноценной жизни не получилось. И механизация не помогла. Еще в Гражданскую войну из нескольких труб качали солевой раствор и выпаривали из него соль. Впрочем, в Гражданскую никто и не заикался о рентабельности производства – хватило бы щи посолить. В шестидесятых годах прошлого века на берегу Волги еще оставалось около двух десятков заброшенных труб. Из одной из таких труб солевой раствор выбивало и в начале нашего века. Воля ваша, а я бы этот раствор разливал по красивым пузырькам и продавал туристам с инструкцией по солеварению в домашних условиях. Еще бы и приписал, что балахнинская соль, которую издревле поставляли к царскому столу и которую более всех других солей любил Иван Грозный, обладает несомненными целебными свойствами. В умеренных, конечно, дозах.
Теперь от многочисленных балахнинских рассолоподъемных труб остались лишь деревянные фрагменты, из одной части которых смонтирована посвященная солеварению экспозиция в местном краеведческом музее, а другая хранится в запасниках музея.
Как бы там ни было, а соль дала возможность стать Балахне на ноги и крепко на них стоять. Соль превратила Балахну из обычного поселка при солевых колодцах в город. Тот самый город, который с крепостью, с двадцатью пушками на восьми крепостных башнях, со рвом, утыканным острыми кольями и заполненным водой, с подвалом, где хранилось десять тысяч каменных и железных ядер, и с толстым воеводой с золотой серьгой в ухе, каждое утро устраивающим смотр стрельцам в крепости, которая была построена на Балахонском Усолье в 1537 году по указу матери Ивана Грозного Елены Глинской для защиты посадских людей и нажитого непосильным трудом добра от набегов казанских татар, лихих людей и их вместе взятых. Кое-кто из историков утверждает, что построили крепость лишь после того, как за год до постройки казанцы во главе с ханом Сафа-Гиреем сожгли и разграбили Балахну дочиста, как об этом записано в Никоновской летописи, но это, конечно, не так. Постройка крепости стояла в плане московских властей еще до татарского набега – просто басурман черти принесли вне всякого плана.
Между прочим, пушек в балахнинской крепости в конце третьей четверти XVI века было ровно столько же, сколько в Нижегородском кремле. И вообще в те времена Балахна была всего в два раза меньше Нижнего по числу дворов и входила в первую дюжину городов Московского княжества. Что-то пошло не так, и теперь Балахна в двадцать пять раз меньше Нижнего и даже в четвертой сотне наших современных российских городов, увы, не первая…
Но вернемся в те времена, когда Балахна росла и богатела[26 - Так богатела, что даже Иван Грозный включил ее в состав своих опричных земель. Грозный, кстати, был в Балахне проездом после взятия Казани. На радостях отведал вынесенную ему балахонцами хлеб-соль, которая в тамошнем исполнении была более похожа на соль-хлеб, сказал, что вкуснее этой соли ничего не едал и ускакал в Москву, а в Балахне приказал построить Никольскую церковь, которая стоит и до сей поры на проспекте Революции.], богатела, богатела… пока не пришла Смута. О роли и месте Балахны в Смуте рассказывать довольно сложно. С одной стороны, Балахна – это родной город не кого-нибудь, а самого Козьмы Минина. В нынешней Балахне на каждом придорожном электрическом столбе висит табличка, на которой написано, что Балахна – родина этого, без сомнения, выдающегося человека. И памятник Минину установлен на одной из площадей города[27 - На самом деле бетонный покрашенный «под бронзу» памятник в 1943 году установили в Нижнем. Почти сорок лет он там простоял. Почему он перестал нравиться местному начальству – теперь не установить, а только сослали они его в Балахну, на родину героя. Себе же нижегородцы сделали другой, побогаче, из настоящей бронзы. Не то чтобы они помнили ту атаку «лутчих балахонцев посадских людей» и тушинцев на Нижний, а все же…]. Как раз перед музеем его имени. С другой… Балахна и уезд исправно присягали сначала Гришке Отрепьеву, а потом и Тушинскому вору. Мало того, балахнинский воевода Степан Голенищев вместе с тушинцами дерзнул пойти на штурм Нижнего Новгорода. Вышел боком воеводе, а вместе с ним и Балахне, этот штурм. Нижегородцы «воров побили же, и балахнинского воеводу Степана Голенищева и лутчих балахонцев посадских людей привели в Нижний». Привели, чтобы казнить, и немедленно казнили, а Балахну привели к присяге царю Василию Шуйскому. Только стали балахонцы восстанавливать свои соляные промыслы, как в 1610 году напали казаки и все дотла сожгли и разграбили. Через два года двинулось ополчение Минина и Пожарского на Москву через Кострому и Ярославль, а прежде всего через Балахну. Стояло ополчение в Балахне долго. Собирали деньги на войну с поляками. Кто утверждает, сообразуясь с историческими документами, что балахонцы сдавали деньги Минину, бывшему казначеем ополчения, добровольно и с охотой, а кто говорит, сообразуясь с этими же документами, что и совсем наоборот. Минин обложил всех недетским налогом – потребовал две трети имущества сдать в кассу ополчения. Сам-то он поступил именно таким образом. Что же до балахонцев, то они, по-видимому, не все были готовы принести такие жертвы на алтарь отечества. Тем, кто был не готов и принес не две трети, а половину или даже одну треть, а то и вовсе объявил себя неимущим, Минин предложил отрубать руки. Времена тогда были такие, и сам Козьма Минин был таков, что в серьезности и неотвратимости его предложения никто и не подумал усомниться. Понесли неимущие не только две трети, но три четверти.
Второй золотой век и половина третьего
После Смуты Балахна с помощью своих соляных промыслов восстановилась быстро, но в XVIII век она пришла уже не молодой и полной сил, а одряхлевшей и постоянно оглядывающейся назад, в свое славное светлое прошлое. Не так ли и мы теперь?.. (Подобные мысли, однако, лучше от себя гнать. Тем более что к истории Балахны они не имеют никакого отношения.) На самом деле не все было так плохо, как хотелось бы, – в недрах первого золотого века исподволь вызревал второй. Даже два вторых. Вокруг Балахны были довольно большие месторождения отличной глины, которая, как известно, при достаточном умении и сноровке превращается в кирпичи, плитку и печные изразцы. В кирпичном и особенно изразцовом деле балахонцы достигли большого искусства. Настолько большого, что балахнинские кирпичи поставлялись к царскому столу в том смысле, что балхнинских кирпичников приглашали на строительство собора Василия Блаженного, они принимали участие в строительстве Московского Кремля и Санкт-Петербурга, а печи с красочными балахнинскими изразцами стояли в лучших домах Нижнего Новгорода и Гороховца, Ярославля и Костромы. В самой Балахне такие изразцы сохранились на Спасской церкви, построенной во второй половине XVII века местными солепромышленниками в память о родственниках, погибших во время морового поветрия. Только надо помнить при ее осмотре, что те яркие, без единой трещинки, изразцы с узорами, райскими птицами и невиданными цветами, которые вы видите на стенах нижнего яруса шатровой колокольни, – это изготовленные недавно, хоть и с большим искусством, но копии. А вот те облупленные, в сетке мелких трещин, потемневшие от времени изразцы на втором ярусе колокольни – настоящие.
Кроме кирпичников славилась Балахна своими иконописцами. Такими, что состояли при Оружейной палате, хоть и проживали в Балахне. Эти иконописцы принимали участие в росписи кремлевских Успенского и Архангельского соборов. Впрочем, это уж и не второй золотой век, а половина третьего. Вторая половина третьего – знаменитые колокола и колокольчики, звеневшие не хуже валдайских. Их лили в Балахне на заводе Чарышниковых. От самых маленьких, поддужных, до тысячепудовых колоколов для храмов Ярославля, Мурома, Красноярска и Санкт-Петербурга. Огромные балахнинские колокола всегда имели голоса звучные и приятные для слуха. Мало кто теперь помнит, что отличались они, к примеру, от колоколов, которые лили в Москве, одной интересной деталью. Московские колокольные мастера всегда перед отливкой больших колоколов распускали по городу самые невероятные слухи и небылицы, а балахнинские – никогда. Даже тогда, когда отливали тысячепудовый колокол специально для Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в 1896 году в Нижнем Новгороде. Уж как ни выспрашивали у них москвичи, как ни подсылали к ним нижегородцев, чтобы узнать, какую байку сочинили балахнинцы, чтобы их колокол так чисто звучал, – так ничего и не сказали им честные балахнинцы[28 - Не умели они врать, а потому каждый раз, как возникала нужда в отливке колокола, выписывали они себе из Москвы человечка, который и сочинял им такое… Даже денег не брал. Работал, можно сказать, из одной любви к искусству и вину. Бывало, придумает он такую историю, от которой все только рты в изумлении разевают, а к ней приплетет еще самых невероятных деталей. И это при том, что колокол-то собирались лить всего один. Так рачительные хозяева завода, чтобы эти умопомрачительные детали не пропали зря, – отольют за компанию еще десяток мелких колокольчиков.].
Более всего, после пришедшего в упадок солеварения помогло Балахне судостроение. Началось оно еще в первой половине XVII века, когда в Россию приезжало посольство от Шлезвиг-Голштинского герцога Фридриха. Секретарем этого посольства был не кто иной, как Адам Олеарий. Голштинцам очень хотелось прокатиться по Волге от верховьев до самой Персии. Был у них в этой Персии торговый интерес. И у нас он был тоже. Предполагалось построить для путешествия по Волге и Каспию, а также для торговли шелком с Персией десять кораблей. Строить решили в Балахне. И условие с нашей стороны было только одно – иностранцы своего умения перед нашими плотниками не утаивают. Они и не утаили. В 1636 году был спущен на воду трехмачтовый и двадцатичетырехвесельный «Фридерик» под голштинским флагом. Он доплыл до самого Дагестана, где его настигла страшная буря и разбила о прибрежные камни. Остальные девять кораблей строить не стали. Плотникам для обучения хватило и одного.
И стали строить балахонцы военные суда. Большая часть парусников для Азовского похода была построена в самом конце XVIII века в Балахне. Правда, Петр не был бы Петром, если бы не прислал на балахнинские верфи для наблюдения за качеством иностранных специалистов. После азовского заказа стали строить и морские шхуны для Каспия, речные суда, военные корабли для Балтийского флота. Построили и галеру, на которой Екатерина Великая путешествовала по Волге. Из гражданских судов более всего строили огромные, нередко стометровые в длину, баржи-беляны грузоподъемностью до десяти тысяч тонн. При этом умудрялись строить их без всяких стапелей. Иной раз заказов было столько, что строили по сотне барж в год. Достроились до того, что даже в герб Балахны попали детали корабельных конструкций – кокоры[29 - Кокоры – это стволы деревьев вместе с корнями, но не со всеми корнями подряд, а только с теми, которые перпендикулярны стволам. Остальные растущие под разными неполезными углами корни обрубали. Проще говоря, кокоры – это шпангоуты, если вы, конечно, понимаете, о чем речь. Признаться, я и сам не очень разбираюсь в шпангоутах и часто путаю их с бимсами… Короче говоря, пусть в кокорах балахнинцы разбираются. Я даже не уверен, что все они, если разбудить их ночью и спросить, что такое кокоры, без запинки ответят на этот вопрос.]. В середине XIX века стали делать пароходы и продолжали бы их делать до сих пор, кабы не хитроумный грек Бенардаки, построивший возле Нижнего, в Сормове, свой судостроительный завод. Балахнинские судостроительные магнаты не смогли с ним выдержать конкуренции, и понемногу третий золотой век Балахны стал клониться к своему закату. В конце XIX века Балахна, хоть и бывшая уездным городом, превратилась в заброшенный нищий заштатный городок, в котором немного торговали кирпичами, немного плели кружева, немного делали деревянную домашнюю утварь и… все.
Триста пар коклюшек
XX век нельзя назвать золотым веком Балахны. Скорее это были электрический, бумажный и картонный века вместе. Все потому, что построили в Балахне электростанцию и огромные целлюлозно-бумажный и картонный комбинаты. Понятное дело, что к царскому столу ни балахнинское электричество, ни балахнинская бумага, ни картон не доходят. Ну да это ничего. Зато на работу не надо уезжать в Москву или Нижний. Хотя… бегают по Москве – и не только по ней – микроавтобусы «Мерседес» и «Фольксваген», которые собирают в Балахне. С одной стороны, немецкие микроавтобусы – это не свои корабли, печные изразцы и кружево, а с другой… Первый корабль на балахнинской верфи тоже назывался «Фридерик» и ходил под голштинским флагом.
Почему в Балахну не едут туристы… Наверное, потому, что нет в Балахне пристани для туристических теплоходов. В Городце пристань есть, в Нижнем, понятное дело, есть, а в Балахне нет, хотя музеев целых три. Да и музеи какие… Один краеведческий, расположенный в усадьбе купца первой гильдии судостроителя Плотникова и недавно прекрасно отремонтированный, стоит того, чтобы в нем провести не час и не два.
В музее есть зал с балахнинскими кружевами, которые уже триста лет плетут местные мастерицы из белых, кремовых и черных шелковых нитей при помощи кленовых коклюшек. Все эти невесомые кружевные мантильи и шарфики, искусно сплетенные единственно для того, чтобы их владелица, сидя теплым летним вечером в саду у остывшего самовара и слушая пение соловьев, могла бы сказать, зябко поводя круглыми полными плечами: «Как, однако, посвежело. Принесите мне, Николя, мою черную кружевную мантилью из гостиной».
И принести, и укутать ее этой мантильей, и видеть, как она прямо на твоих влюбленных глазах из Настеньки превращается в Инезилью, как Балахна становится Севильей, и потом бесчисленное количество раз поправить этот переплетенный черным шелком воздух у нее на плечах, а на вопрос, кто это там так отвратительно горланит на берегу, отвечать, шепча в золотой завиток, прикрывающий веснушчатое и розовое от смущения ухо: «Это, Настенька, мужичье-с на верфи расчет за баржу получило. Вот и горланят, надравшись. Животные-с. Никакого понятия о культурном отдыхе».
Кстати, о коклюшках. Балахнинское кружевоплетение – одно из самых сложных и трудоемких. В нем используется до трехсот и более пар коклюшек одновременно. Не ко всякому, надо сказать, царскому столу такое кружево и поставляют.
Есть у краеведческого музея филиал, расположенный в усадьбе известного балахнинского купца первой гильдии, городского головы, владельца баржестроительной верфи и гласного городской думы Александра Александровича Худякова. Жил он в этой огромной усадьбе на набережной Волги втроем с женой и сыном. Сын отчего-то умер в пятилетнем возрасте, и Александр Александрович вместе с женой уехал в Нижний, а усадьбу подарил Нижегородской епархии. Жили там довольно долгое время престарелые священнослужители. При советской власти находился там детский дом, потом сидели чекисты и других сажали, с тридцатых годов устроили детский садик, а теперь филиал музея. Музейных экспонатов в этом доме мало – печи со знаменитыми балахнинскими изразцами, несколько старых самоваров, красивый кожаный диван конца позапрошлого века, видавший виды письменный стол, патефон, настенные часы с боем, комната с чучелами животных и птиц, населяющих эти края, несколько старых фотографий на стенах, уголок бывшего детского сада с пластмассовыми пупсами – вот, пожалуй, и все. Кроме этих экспонатов есть там такая тишина и такой покой… Достаточно сесть у окна, у колеблемой летним ветерком шторы, на стул и безотрывно час или два смотреть, как в сотне метров от тебя и твоего стула медленно плывет по Волге огромная черная баржа с нефтью или лесом, как кипит, разрезаемая форштевнем, вода, как пыхтит толкающий баржу буксир, как что-то кричит матрос другому матросу, как другой матрос показывает первому… Ей-богу, я бы не отказался и приплатить за час сидения одному у окна худяковского дома. Да, наверное, не только я. За небольшие, но отдельные деньги для более состоятельных туристов можно поставить рядом графин с водкой и патефон. Завести на нем «Дубинушку» или «Очи черные» в шаляпинском исполнении. Пусть слушают, тяжело вздыхают и даже смахивают украдкой слезу. И уж для тех, кто не ограничен в средствах, на словах «вы сгубили меня, очи черные» пусть входит в комнату человек, наклоняется к уху туриста и тихонько спрашивает: «Прикажете цыган?» И в сей момент, под окнами, на улице Карла Маркса грянул бы хор «К нам приехал, к нам приехал…». И под эти величальные слова и переливчатый звон цыганских монист выйти на пристань, у которой стоит белый катер с прекрасной царь-девицей, крикнуть старшему группы: «Не поминайте лихом!» – и уплыть в Нижний гулять до утра, а потом, через неделю или две, продав японские часы, подаренные женой ко дню рождения, или новый фотоаппарат, купленный перед отпуском, добраться на электричках и попутках к себе домой в какие-нибудь Сухиничи или Череповец, позвонить в дверь, почти увернуться от утюга, пущенного точно в голову, и потом, часа через два или три, тихонько сидеть в полутемной кухне, гладить по вихрастой голове сына, второклассника и второгодника, и шептать ему: «Не женись, Витька. Никогда не женись!» – осторожно трогая указательным пальцем багровый фингал под левым глазом.