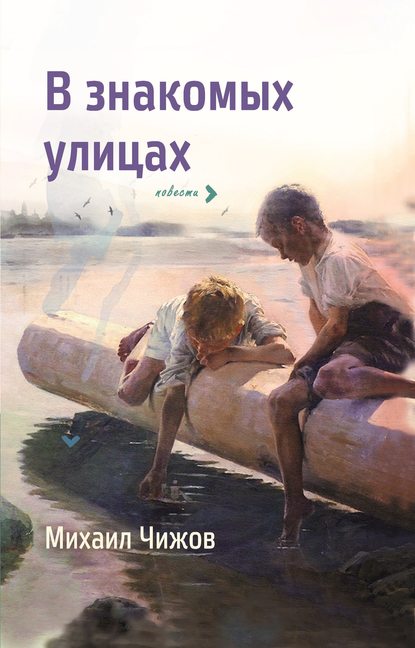По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В знакомых улицах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вот многочисленные домочадцы – дедушка с бабушкой, отец с мамой, два брата и две сестры – с любопытством заглядывают за откинутый угол тёплого конверта, сооружённого из ватного одеяла, чтобы увидеть меня новорождённого. Первый вопрос, что мучает всех – на кого он похож? – кажется смешным. Ну на кого может быть похож этот маленький комочек мяса?
На протяжении столетий родители и все родственники самым серьёзным образом решают: на кого же похож только что рождённый человечек от трёх (а то и двух) до четырёх килограммов весом? И при этом спорят, порой до изнеможения, пытаясь найти в любимом чаде только свои неповторимые черты. Родных словно поражает вирус тупой забывчивости, ведь «израстаясь», ребёнок кардинально меняет свои черты. В обсуждении между тем заложена великая мудрость и любовь. Люди лишний раз хотят удостовериться, что всё в мире идёт по плану, по-божески, что вновь появившееся на свет существо подобно образу Божьему, а род людской сохраняется и продолжается.
Итак, на исходе первого полностью невоенного года я бессмысленно жмурил глаза, не замечая ни побелевших холодных углов теперь уже родного дома, ни нетерпеливых лиц родных, ни их улыбок, ни чего-либо другого. Но мой мозг уже напитывался звуками родных голосов, развивались центры слуха, а за ними центры аналитики. Ласковые слова родных так много значат для формирования мозга ребёнка, а значит, личности…
Через двадцать лет, второкурсником политехнического института, я узнал об этом на лекциях по диалектическому материализму. Читал их профессор с запоминающимся красивым лицом и причёской «а-ля Алексей Толстой», с падающими на широкий лоб чёрными прядями. Раздвигая их, он театрально встряхивал головой, а мы, зелень второкурсная, с восторгом наблюдали за его выверенными движениями, подпадая под их очарование. Читал он лекции без бумажки, по памяти, что было в ту пору диковинкой. Он говорил, что ребёнок поглощает информацию, ещё находясь во чреве матери. Девчонки-однокурсницы смущённо и стыдливо отводили от профессора глаза, парни бедово ухмылялись…
Пока же никакие «мелочи» не могли отвлечь меня, младенца, от тёплой материнской груди, полной вкусного, несравнимого ни с каким другим молока. Глаза мои не различали обилие мелочей, они понимали сущее: грудь, молоко, тепло! Мама – что-то широкое, большое, изначальное доброе и светлое, беззаветно любимое. Дрёма приливной волной накрывала меня, баюкала, шурша в незамутнённой голове, словно мелкая галька на речном пляже.
Жили-были дед и баба
1
Мой крестьянский род тянется из забытых глубин прошлого. Я – потомок Микулы Селяниновича. Рюриковичам далеко до меня. Что ж из того, что ветви родословного древа скрылись в плотном сумраке времён и почти невидимы? Отыскивать имена предков, веками поднимающих зябь и ярь на одном и том же бугре, не имеет большого смысла. Я знаю, где они жили, как беззаветно работали, знаю, куда принести скромные полевые цветы на помин их души. Хотя бы на тот же бугор, который они возделывали сотни лет, не истощая почву.
Как-то пришлось прочитать родословную некоего гражданина из народа. Описать её очень легко. Предки XVIII века: крестьяне с именами Карп, Мефодий, Ананий, Акакий. ХIХ век – крестьяне Фёдор, Поликарп, Тимофей, Евфалий. В ХХ веке – те же крестьяне, но с именами Сергей, Иван, Павел, Михаил. Не смешно ли?
В генеалогическом плане крестьяне – это те же монахи, кому родословное чванство неведомо. В Кирилло-Белозёрском монастыре свои имена умирающие монахи завещали выбивать на пешеходных плитах, чтобы время и ноги богомольцев стёрли их имена навечно. Без следа?!
Ступал и я по этим плитам своими грешными ногами. И под яркими лучами летнего солнца темнели шумерской клинописью остатки русских имён. Что это? Православная скромность, вековая дремучесть или провидческая мудрость, пронизывающая неизбежность конца людской истории и бесконечность времени?
Может ли время быть бесконечным? Одному Богу известно.
«Не поминай имя Господне всуе», – знаем мы из Евангелия. Что же говорить о своём грешном «Я»? Отнюдь не показным было у монахов это чувство – не искать славы земной. Не в знатности имени видели иноки (иные) своё предназначение, а в иступлённых молитвах во славу Господа своего, Отчизны и Души, расцветающих под лучами Божьего озарения.
Да, и что такое породистость, о которой постоянно и так много говорят? Она заключается не в подробной родословной, ведущей начало от сотворения земли, а в красивой Душе. Ведь душа может быть лживой, гнилой, жадной, а у некоторых её и вовсе может не быть. Разве породистыми можно назвать людей с богатой родословной, но грязной душой? Ответ, я думаю, очевиден.
Так и крестьяне, беззаветные устроители и пахари земли русской, не считали нужным освещать своими скромными именами путь народа в кромешной тьме веков и молитвенного труда. Тысячу лет назад выходили они на пахоту, пятьсот лет назад, день тому назад. Выйдут и сегодня, и завтра. Им не страшно умирать: о них вечно помнят поля и пажити. «Я Микула, мужик я Селянинович, меня любит Мать-Сыра Земля», – отвечал пахарь богатырю Святогору.
К монахам тянулись и тянутся за духовной пищей миллионы паломников из далёких краёв. Так и добрые, отзывчивые и памятливые едоки хлеба помнят о тех, кто его вырастил.
Кажется, что крестьянский труд, как и слова молитвы, растворяются в воздухе без следа. Уж очень плотно закручена спираль хозяйственных дел и не сразу видны их результаты. Вспахал, отсеялся, убрал урожай. И тут же снова надо вывозить навоз на поля, пахать и сеять. Зимой крестьянин отдохнул, глядя в затянутое причудливыми узорами окно, а потом вышел на оттаявшее поле, и радостно обмерла душа при виде зелени. Но нужны ещё яровые. Опять вспахал, вновь засеял поле, у которого нет ни начала, ни конца, как у крестьянских забот.
Богом для крестьянина была Природа. Ей он молился и испрашивал совета, как и когда с ней общаться, то есть обрабатывать и нежно преобразовывать её. Тот, кто видел радость в этом общении, был счастлив. Прасол и поэт Алексей Кольцов так пел о радости крестьянского труда:
Заблестит наш серп здесь,
С тихою молитвой
Зазвенят здесь косы;
Я вспашу, посею;
Сладок будет отдых
Уроди мне, Боже,
На снопах тяжёлых!
Хлеб – моё богатство!
Белые вьюги, казалось, навечно и наглухо заметали деревню. Весенняя распутица полностью отрезала её от внешнего мира. Проливали на неё свои холодные струи нескончаемые, осенние дожди. Сумрачно и неприютно в эту пору на душе. Но сильна и могуча традиция, зов крови и земли не давал закиснуть созидательному духу. «Готовь сани летом, а телегу зимой». Так крестьянская мудрость боролось с разжижением воли землепашца. И не могли они сидеть без дела, руки искали его, и от этого постоянного поиска становились они золотыми.
Детей же своих крестьяне рассматривали прежде всего как будущих работников и помощников. В них они видели надежду и опору, самостоятельных тружеников и кормильцев своих: ведь к старости уходят силы, слабнут руки, и серп становится тяжёл, словно кузнечный молот.
Шли годы, сменялись поколения, укреплялись традиции, росла культура не только обработки земли. Над всем этим возвышалась, как абсолютная истина, жертвенная служба делу, мудро приниженная простыми, обиходными словами: «Вот день прошёл – и слава Богу. Так бы прожить и завтра». Так говорили деды мои и прадеды. Так говорили отец мой и мать. Так пытаюсь говорить я, когда испытываю удовлетворение от дня, когда хорошо поработал.
Наверно, кто-то сочтёт эту похвалу русскому крестьянству излишне возвышенной, а может, и надуманной. Разумеется, «в каждой семье не без урода». Мой земляк Максим Горький не любил «мужиков». Что ж, у каждого своя история происхождения, своё мировоззрение. Каждому своё. Впрочем, а рабочие – это не те ли российские «мужики», что толпами бежали из деревень на встающие из лона капитализма, а потом социализма, заводы и фабрики? Нет, я не вижу в словах своих преувеличений, потому что так чувствует моя крестьянская душа. Импрессионисты, кубисты и разные прочие футуристы в ответ на обвинения о непонятности изображённого на картине отвечали: «Я так вижу!» А я вижу вот так.
С интеллигенцией, хотя и она некогда имела общую пуповину с «мужиками», всё гораздо сложнее. В ней чётко различаются поколения по степени отхода от физического труда. Чем выше степень, тем яснее и ощутимее отрыв интеллигенции от народа.
2
Через четыре месяца после моего появления на свет Божий в дом пришла беда. Неожиданно умер дедушка Василий. Накануне, как рассказывала мама, свёкор сидел на диване рядом с ней, вязавшей шерстяные носки для него. Свёкор особо выделял младшую невестку, нравилось ему смотреть, как любое дело горит в её ловких руках. Мама отвечала взаимностью, обращалась к свёкру исключительно на «Вы» и называла «тятенька».
А ведь на первый взгляд можно было бы ожидать сложностей в общении свёкра и невестки, зная о разности религиозных взглядов. Мама происходила из православного старообрядческого семейства, исповедовавшего суровую беспоповскую веру – так называемых «понетов», или, по-научному, свидетелей «Спасова согласия». Крестное знамение она совершала двуперстием, тем самым, что можно увидеть на знаменитой картине Василия Сурикова «Боярыня Морозова». И крестик нательный у мамы был особенный, без распятого Спасителя на нём. Свёкор, и, соответственно, его сын, мой отец – церковники, крестившиеся «щепотью», истово поклонялись господствовавшей до революции православной церкви. Но все эти религиозные тонкости находились в столь глубокой тени, что не смели не только как-то обозначиться в семейных отношениях, но даже слегка пошевелиться в них.
Свёкор обожал своих многочисленных внуков от восьмерых детей числом не менее двадцати пяти душ. Особенно привечал он тех, с кем делил кров. Он частенько говорил невестке:
– Анна, собери-ка мне Славного (так он звал старшего внука с ударением на второй слог), я прогуляюсь с ним по «низу».
«Низ» – это не нечто второстепенное, чем «верх» – Гребешковская (Ярилина) гора, где стоял наш дом. Нет! Это название пришло из глубины веков, из седого средневековья, со времён покорения славянами мордовских племён, издавна заселивших берега реки Оки. Русские из новой своей столицы Владимира спускались на стругах по Клязьме до Оки, а потом ещё ниже по течению до Волги. Низовья реки Оки и прозвали «низовской землей», когда основатель Нижнего Новгорода, великий князь Владимирский Юрий (Георгий) Всеволодович, воевал здесь в XIII веке с мордвой.
Со дня основания Нижнего Новгорода низ – самое оживлённое место в городе. И как иначе – ведь здесь две главные дороги Руси – Ока и Волга. Что по воде, что по льду – ровнее пути не сыщешь. По льду, однако сложнее, и потому вплоть до Октябрьской революции зимой в нагорной (правобережной) части Нижнего Новгорода господствовала тишина. Лишь звон колоколов бесчисленных приходских и монастырских церквей тягуче растекался над скованными льдом Окой и Волгой, над мещанскими, купеческими и дворянскими домами и особняками, отзывался эхом в глубоких и узких оврагах и съездах, проложенных по бывшим оврагам.
К началу навигации население города увеличивалось в 5–7 раз. Особенно этот прирост был заметен до изобретения парохода, когда на бурлацкие биржи труда (базары) собиралась голытьба, беглые и малоземельные государственные крестьяне и даже крепостные, приведённые старостами деревень. Эта буйная орущая ватага собиралась у Волги на нижнем посаде или базаре, который после революции стал называться Нижневолжской набережной. А чуть выше неё, параллельно берегу, пролегла самая богатая улица города, Рождественская, получившая имя в честь церкви Рождества Богородицы, построенной в самом начале XVIII века богатым графом Григорием Строгановым.
Вот на эту улицу шёл дед Василий с маленьким внуком, облачённым в матроску – самую модную и праздничную мальчишескую одежду ХХ века. Мода, возникшая с рождения царевича Алексея и поражения в Цусимском сражении. Словно каждый мальчишка обязан был помнить о русском флоте и укреплять его своими силами.
Благообразный, худощавый, высокий старик с седыми гладкими, но не редкими волосами, разделёнными прямым пробором на две равные части, с небольшой бородкой, в модной полувоенной толстовке, не спеша спускался с внуком по Похвалинскому съезду к только что выстроенному автомобильному мосту через Оку. При въезде на мост, сбоку, стоит будка для вооружённого охранника.
– Деда, – спрашивает семилетний внук, – а чего он тут сидит?
– Мост охраняет! – внушительно отвечает дед.
– От кого?
– Мост есть важный стратегический объект, а вредителей кругом очень много.
Славка не понимает, что значит «стратегический», но слово «важный» ему хорошо знакомо, да и о вредителях он достаточно наслышан, и любопытство его удовлетворено с лихвой.
Под мостом река свободна от судов, пристаней и прочих плавающих посудин, видимо, в целях безопасности. Зато выше и ниже моста вся прибрежная гладь реки буквально впритирку заставлена баржами, буксирами, колёсными пароходами, что стоят в два-три ряда возле пристаней. Выше моста – плавательный бассейн с десятиметровой вышкой, лодочная станция и эллинг для парусных судов. Десятки из них «валяются» на боку, упираясь длинными мачтами в землю. Вокруг яхт, швертботов, «кадетов» крутятся загорелые, обнажённые по пояс парни. Они шпаклюют, грунтуют, красят своих любимцев.
Разве ж можно заскучать у большой воды? Гудят и пыхтят маленькие буксиры, выбрасывая из коротких труб чёрный дым, шлёпают по мутной и быстрой воде шлицы пароходов, снуют вёсельные лодки с нарядно одетыми дамами и мужчинами, мелькают белоснежные паруса яхт. Так бы и сидел на берегу, часами разглядывая всю эту с виду суматошную, но внутренне организованную и полезную работу. Весело на реке…
* * *
Дед, Василий Семёнович Сомов, прозывался в пригородной деревне, откуда он родом, «Модным». Мирских прозвищ удостаивались почти все общинные (мiрские) крестьяне. Поводом для навешивания пожизненного ярлыка мог стать любой запоминающийся и неожиданный факт. Неудачно сказанное слово, забавная манера поведения, привычка, черта характера. Одну из моих двоюродных сестёр, в годы войны пасшую козу в деревне, «окрестили» «Чепой». Она, добросовестная и ответственная девчонка шести лет, боясь потерять козу-кормилицу, часто звала её: «Чепа», «Чепа», «Чепа». Так кличка козы прочно, на десятилетия, приклеилась к ней.
Дед Василий, крестьянин-кустарь, имел в подклети дома «работную» (так звали мастерскую, где «работали» бочки, ящики, а также пеналы, шкатулки и другие канцелярские принадлежности). Ему часто приходилось по торговым делам с нижегородскими и московскими купцами ездить на ярмарку, поэтому он «чисто» одевался, чтобы достойно вести переговоры. Своеобразный купеческий дресс-код. Отсюда – «модный».
Место для деревни в 20 вёрстах от Нижнего Новгорода, где он родился, крестьяне выбрали с умом. Деревня протянулась вдоль гребня длинного и высокого холма, западный склон которого изобиловал чистыми полноводными родниками. Выше них, по косогору, но чуть ниже основного хребта, проложили широченную улицу. Она разделялась на два самостоятельных порядка: верхний и нижний. При разговоре крестьяне, чтобы точнее указать на заинтересованное лицо, всегда называли порядок: «Настя Котомина с верхнего порядка», – говорили они, например. Позднее на северном въезде в деревню вырос ещё перпендикулярный отросток из семи домов, звучно названный Кочетовкой. Кочетом крестьяне издревле зовут петуха, деятельно и эффективно исполняющего свои обязанности.
Василий Модный родился на четыре года позже главного смутьяна ХХ века Владимира Ульянова и считался в деревне одним из самых грамотных, и потому был уважаем. Ни в каких коридорах учебных заведений он замечен не был, а имел, так сказать, «домашнее» образование. Вопросы обучения малышей грамоте решали в деревне специальные люди.
Занималась с Василием грамотой старшая его сестра Алевтина, жившая в «кельях». Так называли в деревне маленькие домики в два окна по фасаду, с низкими земляными завалинками, без хозяйственных дворов. Их строила сельская община для инвалидов, бездетных вдов, старых дев, одиноких старушек и стариков, истово предававшихся молениям Богу. «Кельи» стояли под горой среди полноводных родников, ниже нижнего порядка, невдалеке от кладбища. Среди их насельников были «мастера грамоты».
На протяжении столетий родители и все родственники самым серьёзным образом решают: на кого же похож только что рождённый человечек от трёх (а то и двух) до четырёх килограммов весом? И при этом спорят, порой до изнеможения, пытаясь найти в любимом чаде только свои неповторимые черты. Родных словно поражает вирус тупой забывчивости, ведь «израстаясь», ребёнок кардинально меняет свои черты. В обсуждении между тем заложена великая мудрость и любовь. Люди лишний раз хотят удостовериться, что всё в мире идёт по плану, по-божески, что вновь появившееся на свет существо подобно образу Божьему, а род людской сохраняется и продолжается.
Итак, на исходе первого полностью невоенного года я бессмысленно жмурил глаза, не замечая ни побелевших холодных углов теперь уже родного дома, ни нетерпеливых лиц родных, ни их улыбок, ни чего-либо другого. Но мой мозг уже напитывался звуками родных голосов, развивались центры слуха, а за ними центры аналитики. Ласковые слова родных так много значат для формирования мозга ребёнка, а значит, личности…
Через двадцать лет, второкурсником политехнического института, я узнал об этом на лекциях по диалектическому материализму. Читал их профессор с запоминающимся красивым лицом и причёской «а-ля Алексей Толстой», с падающими на широкий лоб чёрными прядями. Раздвигая их, он театрально встряхивал головой, а мы, зелень второкурсная, с восторгом наблюдали за его выверенными движениями, подпадая под их очарование. Читал он лекции без бумажки, по памяти, что было в ту пору диковинкой. Он говорил, что ребёнок поглощает информацию, ещё находясь во чреве матери. Девчонки-однокурсницы смущённо и стыдливо отводили от профессора глаза, парни бедово ухмылялись…
Пока же никакие «мелочи» не могли отвлечь меня, младенца, от тёплой материнской груди, полной вкусного, несравнимого ни с каким другим молока. Глаза мои не различали обилие мелочей, они понимали сущее: грудь, молоко, тепло! Мама – что-то широкое, большое, изначальное доброе и светлое, беззаветно любимое. Дрёма приливной волной накрывала меня, баюкала, шурша в незамутнённой голове, словно мелкая галька на речном пляже.
Жили-были дед и баба
1
Мой крестьянский род тянется из забытых глубин прошлого. Я – потомок Микулы Селяниновича. Рюриковичам далеко до меня. Что ж из того, что ветви родословного древа скрылись в плотном сумраке времён и почти невидимы? Отыскивать имена предков, веками поднимающих зябь и ярь на одном и том же бугре, не имеет большого смысла. Я знаю, где они жили, как беззаветно работали, знаю, куда принести скромные полевые цветы на помин их души. Хотя бы на тот же бугор, который они возделывали сотни лет, не истощая почву.
Как-то пришлось прочитать родословную некоего гражданина из народа. Описать её очень легко. Предки XVIII века: крестьяне с именами Карп, Мефодий, Ананий, Акакий. ХIХ век – крестьяне Фёдор, Поликарп, Тимофей, Евфалий. В ХХ веке – те же крестьяне, но с именами Сергей, Иван, Павел, Михаил. Не смешно ли?
В генеалогическом плане крестьяне – это те же монахи, кому родословное чванство неведомо. В Кирилло-Белозёрском монастыре свои имена умирающие монахи завещали выбивать на пешеходных плитах, чтобы время и ноги богомольцев стёрли их имена навечно. Без следа?!
Ступал и я по этим плитам своими грешными ногами. И под яркими лучами летнего солнца темнели шумерской клинописью остатки русских имён. Что это? Православная скромность, вековая дремучесть или провидческая мудрость, пронизывающая неизбежность конца людской истории и бесконечность времени?
Может ли время быть бесконечным? Одному Богу известно.
«Не поминай имя Господне всуе», – знаем мы из Евангелия. Что же говорить о своём грешном «Я»? Отнюдь не показным было у монахов это чувство – не искать славы земной. Не в знатности имени видели иноки (иные) своё предназначение, а в иступлённых молитвах во славу Господа своего, Отчизны и Души, расцветающих под лучами Божьего озарения.
Да, и что такое породистость, о которой постоянно и так много говорят? Она заключается не в подробной родословной, ведущей начало от сотворения земли, а в красивой Душе. Ведь душа может быть лживой, гнилой, жадной, а у некоторых её и вовсе может не быть. Разве породистыми можно назвать людей с богатой родословной, но грязной душой? Ответ, я думаю, очевиден.
Так и крестьяне, беззаветные устроители и пахари земли русской, не считали нужным освещать своими скромными именами путь народа в кромешной тьме веков и молитвенного труда. Тысячу лет назад выходили они на пахоту, пятьсот лет назад, день тому назад. Выйдут и сегодня, и завтра. Им не страшно умирать: о них вечно помнят поля и пажити. «Я Микула, мужик я Селянинович, меня любит Мать-Сыра Земля», – отвечал пахарь богатырю Святогору.
К монахам тянулись и тянутся за духовной пищей миллионы паломников из далёких краёв. Так и добрые, отзывчивые и памятливые едоки хлеба помнят о тех, кто его вырастил.
Кажется, что крестьянский труд, как и слова молитвы, растворяются в воздухе без следа. Уж очень плотно закручена спираль хозяйственных дел и не сразу видны их результаты. Вспахал, отсеялся, убрал урожай. И тут же снова надо вывозить навоз на поля, пахать и сеять. Зимой крестьянин отдохнул, глядя в затянутое причудливыми узорами окно, а потом вышел на оттаявшее поле, и радостно обмерла душа при виде зелени. Но нужны ещё яровые. Опять вспахал, вновь засеял поле, у которого нет ни начала, ни конца, как у крестьянских забот.
Богом для крестьянина была Природа. Ей он молился и испрашивал совета, как и когда с ней общаться, то есть обрабатывать и нежно преобразовывать её. Тот, кто видел радость в этом общении, был счастлив. Прасол и поэт Алексей Кольцов так пел о радости крестьянского труда:
Заблестит наш серп здесь,
С тихою молитвой
Зазвенят здесь косы;
Я вспашу, посею;
Сладок будет отдых
Уроди мне, Боже,
На снопах тяжёлых!
Хлеб – моё богатство!
Белые вьюги, казалось, навечно и наглухо заметали деревню. Весенняя распутица полностью отрезала её от внешнего мира. Проливали на неё свои холодные струи нескончаемые, осенние дожди. Сумрачно и неприютно в эту пору на душе. Но сильна и могуча традиция, зов крови и земли не давал закиснуть созидательному духу. «Готовь сани летом, а телегу зимой». Так крестьянская мудрость боролось с разжижением воли землепашца. И не могли они сидеть без дела, руки искали его, и от этого постоянного поиска становились они золотыми.
Детей же своих крестьяне рассматривали прежде всего как будущих работников и помощников. В них они видели надежду и опору, самостоятельных тружеников и кормильцев своих: ведь к старости уходят силы, слабнут руки, и серп становится тяжёл, словно кузнечный молот.
Шли годы, сменялись поколения, укреплялись традиции, росла культура не только обработки земли. Над всем этим возвышалась, как абсолютная истина, жертвенная служба делу, мудро приниженная простыми, обиходными словами: «Вот день прошёл – и слава Богу. Так бы прожить и завтра». Так говорили деды мои и прадеды. Так говорили отец мой и мать. Так пытаюсь говорить я, когда испытываю удовлетворение от дня, когда хорошо поработал.
Наверно, кто-то сочтёт эту похвалу русскому крестьянству излишне возвышенной, а может, и надуманной. Разумеется, «в каждой семье не без урода». Мой земляк Максим Горький не любил «мужиков». Что ж, у каждого своя история происхождения, своё мировоззрение. Каждому своё. Впрочем, а рабочие – это не те ли российские «мужики», что толпами бежали из деревень на встающие из лона капитализма, а потом социализма, заводы и фабрики? Нет, я не вижу в словах своих преувеличений, потому что так чувствует моя крестьянская душа. Импрессионисты, кубисты и разные прочие футуристы в ответ на обвинения о непонятности изображённого на картине отвечали: «Я так вижу!» А я вижу вот так.
С интеллигенцией, хотя и она некогда имела общую пуповину с «мужиками», всё гораздо сложнее. В ней чётко различаются поколения по степени отхода от физического труда. Чем выше степень, тем яснее и ощутимее отрыв интеллигенции от народа.
2
Через четыре месяца после моего появления на свет Божий в дом пришла беда. Неожиданно умер дедушка Василий. Накануне, как рассказывала мама, свёкор сидел на диване рядом с ней, вязавшей шерстяные носки для него. Свёкор особо выделял младшую невестку, нравилось ему смотреть, как любое дело горит в её ловких руках. Мама отвечала взаимностью, обращалась к свёкру исключительно на «Вы» и называла «тятенька».
А ведь на первый взгляд можно было бы ожидать сложностей в общении свёкра и невестки, зная о разности религиозных взглядов. Мама происходила из православного старообрядческого семейства, исповедовавшего суровую беспоповскую веру – так называемых «понетов», или, по-научному, свидетелей «Спасова согласия». Крестное знамение она совершала двуперстием, тем самым, что можно увидеть на знаменитой картине Василия Сурикова «Боярыня Морозова». И крестик нательный у мамы был особенный, без распятого Спасителя на нём. Свёкор, и, соответственно, его сын, мой отец – церковники, крестившиеся «щепотью», истово поклонялись господствовавшей до революции православной церкви. Но все эти религиозные тонкости находились в столь глубокой тени, что не смели не только как-то обозначиться в семейных отношениях, но даже слегка пошевелиться в них.
Свёкор обожал своих многочисленных внуков от восьмерых детей числом не менее двадцати пяти душ. Особенно привечал он тех, с кем делил кров. Он частенько говорил невестке:
– Анна, собери-ка мне Славного (так он звал старшего внука с ударением на второй слог), я прогуляюсь с ним по «низу».
«Низ» – это не нечто второстепенное, чем «верх» – Гребешковская (Ярилина) гора, где стоял наш дом. Нет! Это название пришло из глубины веков, из седого средневековья, со времён покорения славянами мордовских племён, издавна заселивших берега реки Оки. Русские из новой своей столицы Владимира спускались на стругах по Клязьме до Оки, а потом ещё ниже по течению до Волги. Низовья реки Оки и прозвали «низовской землей», когда основатель Нижнего Новгорода, великий князь Владимирский Юрий (Георгий) Всеволодович, воевал здесь в XIII веке с мордвой.
Со дня основания Нижнего Новгорода низ – самое оживлённое место в городе. И как иначе – ведь здесь две главные дороги Руси – Ока и Волга. Что по воде, что по льду – ровнее пути не сыщешь. По льду, однако сложнее, и потому вплоть до Октябрьской революции зимой в нагорной (правобережной) части Нижнего Новгорода господствовала тишина. Лишь звон колоколов бесчисленных приходских и монастырских церквей тягуче растекался над скованными льдом Окой и Волгой, над мещанскими, купеческими и дворянскими домами и особняками, отзывался эхом в глубоких и узких оврагах и съездах, проложенных по бывшим оврагам.
К началу навигации население города увеличивалось в 5–7 раз. Особенно этот прирост был заметен до изобретения парохода, когда на бурлацкие биржи труда (базары) собиралась голытьба, беглые и малоземельные государственные крестьяне и даже крепостные, приведённые старостами деревень. Эта буйная орущая ватага собиралась у Волги на нижнем посаде или базаре, который после революции стал называться Нижневолжской набережной. А чуть выше неё, параллельно берегу, пролегла самая богатая улица города, Рождественская, получившая имя в честь церкви Рождества Богородицы, построенной в самом начале XVIII века богатым графом Григорием Строгановым.
Вот на эту улицу шёл дед Василий с маленьким внуком, облачённым в матроску – самую модную и праздничную мальчишескую одежду ХХ века. Мода, возникшая с рождения царевича Алексея и поражения в Цусимском сражении. Словно каждый мальчишка обязан был помнить о русском флоте и укреплять его своими силами.
Благообразный, худощавый, высокий старик с седыми гладкими, но не редкими волосами, разделёнными прямым пробором на две равные части, с небольшой бородкой, в модной полувоенной толстовке, не спеша спускался с внуком по Похвалинскому съезду к только что выстроенному автомобильному мосту через Оку. При въезде на мост, сбоку, стоит будка для вооружённого охранника.
– Деда, – спрашивает семилетний внук, – а чего он тут сидит?
– Мост охраняет! – внушительно отвечает дед.
– От кого?
– Мост есть важный стратегический объект, а вредителей кругом очень много.
Славка не понимает, что значит «стратегический», но слово «важный» ему хорошо знакомо, да и о вредителях он достаточно наслышан, и любопытство его удовлетворено с лихвой.
Под мостом река свободна от судов, пристаней и прочих плавающих посудин, видимо, в целях безопасности. Зато выше и ниже моста вся прибрежная гладь реки буквально впритирку заставлена баржами, буксирами, колёсными пароходами, что стоят в два-три ряда возле пристаней. Выше моста – плавательный бассейн с десятиметровой вышкой, лодочная станция и эллинг для парусных судов. Десятки из них «валяются» на боку, упираясь длинными мачтами в землю. Вокруг яхт, швертботов, «кадетов» крутятся загорелые, обнажённые по пояс парни. Они шпаклюют, грунтуют, красят своих любимцев.
Разве ж можно заскучать у большой воды? Гудят и пыхтят маленькие буксиры, выбрасывая из коротких труб чёрный дым, шлёпают по мутной и быстрой воде шлицы пароходов, снуют вёсельные лодки с нарядно одетыми дамами и мужчинами, мелькают белоснежные паруса яхт. Так бы и сидел на берегу, часами разглядывая всю эту с виду суматошную, но внутренне организованную и полезную работу. Весело на реке…
* * *
Дед, Василий Семёнович Сомов, прозывался в пригородной деревне, откуда он родом, «Модным». Мирских прозвищ удостаивались почти все общинные (мiрские) крестьяне. Поводом для навешивания пожизненного ярлыка мог стать любой запоминающийся и неожиданный факт. Неудачно сказанное слово, забавная манера поведения, привычка, черта характера. Одну из моих двоюродных сестёр, в годы войны пасшую козу в деревне, «окрестили» «Чепой». Она, добросовестная и ответственная девчонка шести лет, боясь потерять козу-кормилицу, часто звала её: «Чепа», «Чепа», «Чепа». Так кличка козы прочно, на десятилетия, приклеилась к ней.
Дед Василий, крестьянин-кустарь, имел в подклети дома «работную» (так звали мастерскую, где «работали» бочки, ящики, а также пеналы, шкатулки и другие канцелярские принадлежности). Ему часто приходилось по торговым делам с нижегородскими и московскими купцами ездить на ярмарку, поэтому он «чисто» одевался, чтобы достойно вести переговоры. Своеобразный купеческий дресс-код. Отсюда – «модный».
Место для деревни в 20 вёрстах от Нижнего Новгорода, где он родился, крестьяне выбрали с умом. Деревня протянулась вдоль гребня длинного и высокого холма, западный склон которого изобиловал чистыми полноводными родниками. Выше них, по косогору, но чуть ниже основного хребта, проложили широченную улицу. Она разделялась на два самостоятельных порядка: верхний и нижний. При разговоре крестьяне, чтобы точнее указать на заинтересованное лицо, всегда называли порядок: «Настя Котомина с верхнего порядка», – говорили они, например. Позднее на северном въезде в деревню вырос ещё перпендикулярный отросток из семи домов, звучно названный Кочетовкой. Кочетом крестьяне издревле зовут петуха, деятельно и эффективно исполняющего свои обязанности.
Василий Модный родился на четыре года позже главного смутьяна ХХ века Владимира Ульянова и считался в деревне одним из самых грамотных, и потому был уважаем. Ни в каких коридорах учебных заведений он замечен не был, а имел, так сказать, «домашнее» образование. Вопросы обучения малышей грамоте решали в деревне специальные люди.
Занималась с Василием грамотой старшая его сестра Алевтина, жившая в «кельях». Так называли в деревне маленькие домики в два окна по фасаду, с низкими земляными завалинками, без хозяйственных дворов. Их строила сельская община для инвалидов, бездетных вдов, старых дев, одиноких старушек и стариков, истово предававшихся молениям Богу. «Кельи» стояли под горой среди полноводных родников, ниже нижнего порядка, невдалеке от кладбища. Среди их насельников были «мастера грамоты».