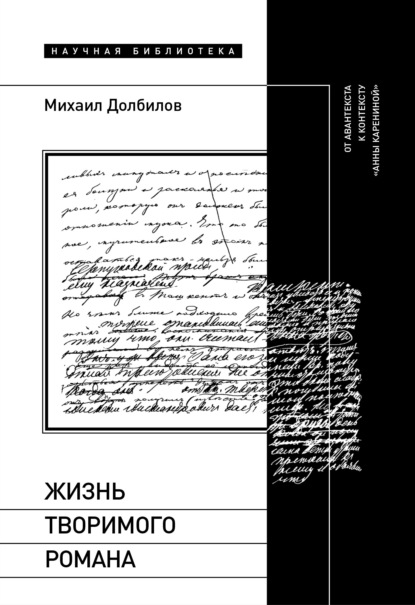По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Одно из таких сообщений, хотя и труднее считываемое, чем другие[79 - Благодарю Людмилу Шарую за замечание, которое помогло мне увидеть возможность предлагаемой ниже интерпретации.], заключено в замене, наряду с именем, и нелестной светской клички героини. Кити из ранних редакций – «душа в кринолине»[80 - ЧРВ. С. 15 (Р2), 22 (Р4).], тогда как Мари «светские умники» нарекли «душой в турнюре»[81 - Р3: 4. Слова «в турнюре» подчеркнуты карандашом – возможно, С. А. Толстой при копировании автографа.]. Первый вариант изобличает вольную или невольную ориентацию автора, приступающего к сочинению романа в режиме «реального времени», на свой былой личный опыт. Толстой бывал в Петербурге и часто виделся там с несколькими подобными будущей Мари женщинами столичного бомонда (об этом речь впереди) во второй половине 1850?х – начале 1860?х годов. Среди них была Анна Тютчева, которую он несколько позже в частном письме и обозвал «душой в кринолине» – задолго до появления этой клички в черновике АК[82 - ЛНТ–ААТ. С. 272–273 (письмо Толстого А. А. Толстой от 26 или 27 ноября 1865 г.). См. подробнее об этом в гл. 4 наст. изд.]. Но в пору, когда этот роман начал создаваться, Толстой уже больше десяти лет как не наезжал в Северную столицу, да и давно перестал посещать большие собрания московского света; между тем так уж случилось, что кринолин, особенно в его самых пышных формах, вышел из моды как раз во второй половине 1860?х[83 - См. напр.: Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской империи: Эпоха Александра II и Александра III. М.: Этерна, 2015. С. 209–211, 235–237, 318–321; Fashioning the Victorians: A Critical Sourcebook / Ed. R. N. Mitchell. London: Bloomsbury Visual Arts, 2018. P. 3–13, 93–109.]. Приведу любопытное свидетельство на этот счет, исходящее не от кого-нибудь, а от исторического лица, на чей нравственный и отчасти политический авторитет намекают в генезисе АК зарисовки благочестивых светских дам, – императрицы Марии Александровны. Передавая в 1866 году жене доверенного царедворца, проводившей зиму в Париже, заказ на строгое («без чего бы то ни было сверкающего и блестящего, как-то: золота, серебра, сталей и пр., и пр.») парадное платье для себя от тогдашнего законодателя женской haute couture Чарльза Уорта (Worth), императрица просила дать ей знать, носят ли в парижском свете в текущий сезон кринолины или нет[84 - РГИА. Ф. 1614. Оп. 2. Д. 5. Л. 65 об. (копия письма А. В. Адлерберга Е. Н. Адлерберг от 20 февраля 1866 г.).]. Собственно, именно Уорт своими новшествами и приблизил конец эпохи громоздких кринолинов.
В 1874 году Толстой, конечно же, не был в полном неведении насчет заметной реформы, произведенной в дамском костюме. Он должен был знать, что для придания юбке, а с нею и женской фигуре чарующей округлости применяется – в высшем обществе – уже преимущественно не кринолин, а турнюр. (Воздерживаюсь от цитирования перифраза, которым будет заклеймен этот предмет женского наряда в «Крейцеровой сонате»[85 - Юб. Т. 27. С. 22–23 («Крейцерова соната», гл. VI).].) Однако, по всей видимости, Петербург начала 1860?х оставался для Толстого хронотопом большого света: воспоминания о не столь давнем прошлом были достаточно свежи, чтобы, толкнув автора под руку, произвести в ранней рукописи забавный анахронизм. Силуэт фигуры петербургской великосветской дамы явился внутреннему взору писателя, как и прежде, экстравагантно колоколообразным. Новый вариант «душа в турнюре» из редакции 1874 года не дойдет потом до ОТ[86 - Зато сам турнюр как примета 1870?х прямо-таки вопиет о себе в зарисовке светской дамы Сафо Штольц, чей эпатирующий наряд не позволяет понять, «где сзади, в этой подстроенной колеблющейся горе, действительно кончается ее настоящее, маленькое и стройное, столь обнаженное сверху и столь спрятанное сзади и внизу тело» (284–285/3:18).], но его стоило придумать уже для того, чтобы устранить анахронизм. Вообще, как в черновых редакциях, так и в окончательной есть сколько-то следов вторжения реальности конца 1850?х – начала 1860?х годов (Толстой в начале четвертого десятка лет, накануне женитьбы) в мир романа «из 1870?х», и это не только реальность аристократического салона[87 - Об анахронизмах из совсем другой области – помещичьего хозяйства и аграрных отношений – говорится ниже в гл. 5.].
Вернемся к содержанию вставки. В развернутом изображении Мари используется толстовский прием несколько назойливой кодировки духовного через физическое. Именно сестре Алексей Александрович «был обязан <…> большею частью своего успеха в свете»: «она имела высшие женские связи, самые могущественные». Последние два слова добавлены в автографе над строкой, словно нарочно иллюстрируя деликатность политических аллюзий, вводимых в портрет героини. Деля с братом кров, Мари придавала «характер высшей утонченности и как будто самостоятельности его дому». В самой сцене беседы, возвещая о себе доносящимся из?за двери «звуком тонкого
сморкания» (неслучайная замена одного телесного отправления другим)[88 - Р3: 4. Опубл. с неполным воспроизведением правки: ЧРВ. С. 206.], она возникает перед братом и перед читателем, чтобы тут же подвергнуться немилосердному анатомированию со стороны нарратора. Телесная, а тем самым и моральная ущербность передается здесь метафорой сыворотки, отсекшейся от простокваши; обозначающий это диалектный или окказиональный глагол «отсикнуться» уже был употреблен в редакции 1873 года применительно к обескровленному несчастьем, лишенному остатков жизненной энергии Каренину[89 - ПЗР. С. 791.], но ни оттуда, ни из разбираемой редакции сцены с сестрой Каренина грубоватое словечко не попадет в ОТ[90 - Автор АК определенно питал слабость к слову «отсикнуться» (в другом написании – «отсекнуться»). На протяжении трех лет он не раз пробовал применить его в черновиках разных фрагментов романа, как в нарративе, так и в речи персонажа, но, по всей видимости, и глагол, и сама метафора были сочтены слишком сниженными для печатного текста. Из известных мне случаев такого словоупотребления позднейшие имеют место в рукописи, датируемой 1876 годом, с двумя последовательными вариантами сцены с Карениным, высмеиваемым придворными на рауте во дворце (5:24): Р83: 9 об. (нижний слой), 15 об. (добавляющая и тут же удаляющая фразу правка: «[В]есь похудел и опустился,
»). При этом смысловая аура глагола, несомненно, донесена до окончательных редакций соответствующих описаний и характеристик. Не исключено, что Толстой, зная заранее, что не допустит такого уподобления в ОТ, нуждался в нем на стадии черновика как в возбудителе творческого процесса. Ср. анализ того, как включенные Г. Флобером в планы и «сценарии» к «Госпоже Бовари» скабрезные слова и откровенные наброски постельных эпизодов давали тогда и дают теперь косвенный, но явственный отзвук в стилистике и тональности изображения моментов физической близости в самом романе, где подобная «излучению» «действенная сила» исходного наименования или эскиза чувствуется «под чинной формой повествования» (Leclerc Y. «Madame Bovary» au scalpel: Gen?se, rеception, critique. Paris: Classiques Garnier, 2017. P. 38–39, 50–52; цитаты – p. 51, 52). Аналогия тем более уместна, что обсуждаемый глагол в приложении к Каренину, выглядящему плачевно немужественным, имеет сексуальную коннотацию. Ср. раннюю (также 1876 года) редакцию той же сцены разговора во дворце: «Не то что постарел, а с ним сделалось, что с простоквашей бывает, когда она перестоит, – говорил Стремов, позволявший себе вольность вульгарных сравнений. – Знаете, как будто крепкое, а там вода. Это называет моя экономка „отсикнулась“. Вот и он отсикнулся. / И Стремов, сжав свои крепкие губы, с таким выражением, которое ясно говорило, что он сам надеется еще не скоро отсикнуться, смеясь умными глазами, смотрел на собеседницу» (Р79: 1 об. – копия с авторской правкой; опубл. без различения нижнего и верхнего слоя: ЧРВ. С. 418).].
Итак,
Мари была недурна собой, но она уже пережила лучшую пору красоты женщины, и с ней сделалось то, что делается с немного перестоявшейся простоквашей. Она отсикнулась. Та же хорошая простокваша стала слаба, неплотна и подернулась безвкусной, нечисто цветной сывороткой. То же сделалось с ней и физически и нравственно.
Этот брезгливо звучащий глагол не только описывает внешность, но и проецируется на духовную сущность героини, на особое сочетание религиозной покорности судьбе с упоением своею избранностью:
[С] тех пор как она отсикнулась, что незаметно случилось с ней года два тому назад, религиозность не находила себе полного удовлетворения в том, чтобы молиться и исполнять Божественный закон, но в том, чтобы судить о справедливости религиозных взглядов других и бороться с ложными учениями, с протестантами, с католиками, с неверующими. Добродетельные наклонности ее точно так же с того времени обратились не на добрые дела, но на борьбу с теми, которые мешали добрым делам. <…> И всякое доброе дело, в особенности угнетенным братьям славянам, которые были особенно близки сердцу Мари, встречало врагов, ложных толкователей, с которыми надо было бороться. Мари изнемогала в этой борьбе, находя утешенье только в малом кружке людей, понимающих ее и ее стремления[91 - ЧРВ. С. 207.].
Кроме продвижения панславизма (первая в генезисе романа антиципация одной из его будущих и политических, и мировоззренческих тем), Мари вовлечена в противоборство вокруг затеянного ею филантропического «дела сестричек». Подробным рассказом об очередной каверзе конкурентов, открывающимся жеманно-праведнической фразой на французском: «О, как я подрублена нынче», – она гасит позыв брата поделиться с нею его собственным горем, несмотря на то что понимает его состояние. Ее заключительная нотация: «Каждый несет свой крест, исключая тех, которые накладывают его на других» – сопровождается взглядом на входящую Анну[92 - Там же. С. 207, 208.].
Сцена разговора Каренина с сестрой, как и сама героиня, вскоре будут удалены автором из создающегося текста[93 - Фрагмент беседы Каренина с сестрой перед попыткой объяснения с женой вычеркивается в копии автографа. Любопытный пример толстовской «экономии» на функциональных остатках удаляемых описаний и мизансцены: относящиеся к Мари слова «звук тонкого сморкания» (который Каренин слышит из?за двери) правятся на «звук легких шагов», чтобы ввести в комнату уже не Мари, а сразу Анну (Р26: 11 об.).]. Но генетически этюд об «отсикнувшейся» Мари оказался плодотворным: он решающе углубил и нюансировал самый характер женского персонажа, требуемого темой ложного благочестия, и стал материалом для «прививки» к черновикам других сцен и фрагментов нарратива.
Политическая составляющая портрета Мари, пройдя через еще один автограф, трансформировалась – вместе с персонажем – в характеристику целой группы единомышленников и тем самым заложила основу для одного из репортерско-комментаторских опытов автора АК – классификации «подразделений» столичного высшего света в будущей Части 2 (2:4). В автографе главы, озаглавленной до смешного назидательно «Дьявол», сочинением которой Толстой весной 1874 года начал замедлять и, одновременно углубляя психологизм и сгущая фон, уплотнять рассказ о развитии страсти Анны и Удашева/Вронского (в нескольких новых автографах тех недель используется прежний вариант фамилии героя[94 - См. об этом примеч. 2 на с. 249–250 и примеч. 3 на с. 269–270.]), тот самый вскользь упомянутый «малый кружок» предстает перед нами анфас, нарисованный резкими мазками:
[Э]то был тот круг, через который Алексей Александрович сделал свою карьеру, круг, близкий к двору, внешне скромный, но могущественный [эхо «высших женских», «самых могущественных» связей Мари. – М. Д.]. Центром этого кружка была графиня А. [в этой же рукописи встречается криптоним «графиня N.». – М. Д.]; через нее-то Алексей Александрович сделал свою карьеру. В кружке этом царствовал постоянно восторг и умиленье над своими собственными добродетелями. Православие, патриотизм и славянство играли большую роль в этом круге. Алексей Александрович очень дорожил этим кругом, и Анна одно время, найдя в среде этого кружка очень много милых женщин <…> сжилась с этим кружком и усвоила себе ту некоторую утонченную восторженность, царствующую в этом кружке. Она, правда, никогда не вводила этот тон, но поддерживала его и не оскорблялась им.
Как и в ОТ (с поправкой, опять-таки, на его тенденцию к меньшей, чем в черновиках, однозначности), Анна по возвращении из Москвы отдаляется от привычной ей с замужества светской компании, осознав «все притворство», там процветающее[95 - ЧРВ. С. 194–195 (Р25).]. Автограф главы «Дьявол» дает еще одну модификацию нарочито избыточного определения, призванного, думается, уподобить женскую религиозную выспренность неестественно пышному и показному наряду – как если бы главное достояние «души в турнюре» свелось к длинному шлейфу. На сей раз не Вронский, а великосветская богачка и распутница Бетси Курагина (княгиня Тверская в ОТ) высмеивает душеспасительный кружок, называя его не только «богадельней», но и «композицией из чего-то славянофильско-хомяковско-утонченно православно-женско-придворно подленького»[96 - ЧРВ. С. 195 (Р25). Ни один из вариантов этого определения не дошел до ОТ, но в нем имеется аналогичное словесное сооружение, которое использовано для описания иной, чем «душа в турнюре», разновидности женской несостоятельности – обделенных кавалерами дам на балу: «Не успела она [Кити] войти в залу и дойти до тюлево-ленто-кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать (Кити никогда не стаивала в этой толпе), как уж ее пригласили на вальс <…>» (80/1:22).].
Стоит особо подчеркнуть, что этот черновик с перечислением ценностей некоей придворно-чиновничьей группы в стиле знаменитой уваровской триады («Православие, самодержавие, народность»), но далеко не тождественно ей самой – «Православие, патриотизм и славянство», – был написан почти за два года до начала поведших к войне антитурецких восстаний на Балканах и бурного общественного увлечения славянским вопросом. Иными словами, в той мере, в какой цитированная зарисовка не была прямой реакцией Толстого на конкретные резонансные события (в отличие от отповеди «славянобесию» 1876 года в будущей Части 8), «близкий ко двору, внешне скромный, но могущественный» кружок – это апологеты религиозно вдохновляемого панславизма по своим устойчивым, давним убеждениям.
Добавочным штрихом к тому, как описаны отношения Анны с кружком и частичное приятие ею поведенческого кода «некоторой утонченной восторженности», выступает ремарка об Удашеве (в этой редакции образ персонажа уже вполне близок к Вронскому ОТ): тот «в маленький кружок графини А. <…> не был допущен, да и не желал этого»[97 - ЧРВ. С. 196 (Р25).]. Ясно, что даже если бы он этого пожелал, некий запрет было бы трудно обойти. Именно эта деталь, на мой взгляд, интригующа. В самом деле, почему отпрыск вполне знатного рода, к тому же официально состоящий – по званию флигель-адъютанта – в свите императора[98 - О Вронском как флигель-адъютанте подробнее говорится на с. 100–103.], не мог быть принят в кружке, «близком ко двору»? Только ли по причине его участия в холостяцких увеселениях гвардейцев – зачастую попиравших начатки пристойности, пагубных для здоровья, но вполне традиционных в ту пору (и позднее)? И не подразумевается ли обзором «подразделений» света, что не менее значимы различия внутри самой институции двора? Иными словами – к какому именно двору или сегменту большого двора был близок кружок, которому Каренин обязан своей карьерой, а Анна – умением поддержать тон элегантного святошества? Еще немного авантекста, и мы вплотную обратимся к этим вопросам.
Описанию внешности и личности, а также прямой речи Мари Карениной нашлось в генезисе романа несколько иное применение. Подвергшись – уже в виде копии, снятой с автографа, – правке, соответствующий блок текста был сочленен с созданной тогда же отправной редакцией более раннего места – глав о возвращении Анны домой[99 - Р18: 33 об.–35.], в которых читателю дается первая возможность бросить взгляд не только на семью, но и на всегдашнее светское окружение главной героини (1:31–33). Правка, не вторгаясь пока в ткань изображения второстепенного, но самобытного персонажа, заменила сестру Каренина знакомою нам по смежной рукописи графиней – наставницей кружка, здесь именуемой, в той же тургеневской манере, криптонимом N. Беседа происходит теперь не между Карениным и его сестрой, а между Анной и приехавшей к ней, выкроив часок посреди разных деловых визитов и заседаний, гостьей. Одно из дополнений, вызванных необходимостью по-новому задать в фабуле отношение этой «души в турнюре» (теперь не родственницы, а попечительной приятельницы) к Анне, подчеркнуло важность, которую пресловутый кружок приписывает делению на своих и чужих: «Алексей Александрович был один из верных ее сотрудников, и Анну графиня N. причисляла к своим, хотя и замечала в ней холодность и равнодушие к ее [то есть графини. – М. Д.] интересам. Но Анну она просто любила, и Анна ценила это и была благодарна»[100 - Р18: 34 об. (верхний слой; курсив – добавленная мною эмфаза).].
И вот, наконец, в созданной вскоре, тою же весной 1874 года, новой редакции первой в романе сцены на тему великосветской религиозности возникает финальная персонификация букета «утонченной восторженности», самозваной праведности и панславизма – «знаменитая» графиня Лидия Ивановна[101 - Р18: 33 об.–35 (верхний слой); Р28: 1–2 (верхний слой).]. Это прямое развитие образа графини N./A.[102 - В генезисе романа графиня N./A. оказалась скоропреходящим промежуточным вариантом: правка в рукописи, введшая первое упоминание Лидии Ивановны, отразилась уже в датируемой концом марта – апрелем 1874 года корректуре последней из набранных тогда глав Части 1 (соответствующей главе 31 ОТ). См.: К119: 33.] Замена единственного инициала на полные, к титулу в придачу, имя и отчество оставляет недосказанной ведомую, как подразумевается, всем и каждому (не исключая читателя) фамилию героини, привнося в образ грибоедовскую нотку: «княгиня Марья Алексевна». В созвучии с этим в портрет персонажа добавляется и водевильная холерическая хлопотливость. И в исходном автографе, и в ОТ (107/1:31) первое – в реплике Каренина жене – упоминание о графине Лидии Ивановне таково: «Наш милый самовар будет в восторге»[103 - Исходный автограф: Р18: 33 об. (верхний слой).]. В черновике комизм почти утрируется: «Пыхтя, вошла с мягкими глазами кубышка»[104 - Р28: 1 (верхний слой).]. Пыхтение, одышка как сугубо телесный коррелят экзальтированности пребудут до поры до времени в резерве авантекста и станут маркером персонажа ближе к концу романа. А при первом появлении Лидии Ивановны в ОТ (сериализация – февраль 1875 года) описание ее облика сбавляет акцент на корпулентности и обыгрывает конфликт тленных и возвышенных черт: «высокая полная женщина с нездорово-желтым цветом лица и прекрасными задумчивыми черными глазами» (108/1:32).
Ни в черновой, ни в окончательной редакции этого первого выхода нарратив ничего не сообщает о семейном положении графини; лишь на исходе 1876 года, готовя к публикации окончание Части 5[105 - См. подробнее параграф 1 гл. 4 наст. изд.], Толстой заполнит эту сюжетную лакуну: у Лидии Ивановны, оказывается, есть муж, но он по (якобы) никому не понятной причине бросил ее на второй месяц после свадьбы, так что супруги давным-давно живут врозь (5:23). И даже в этом месте рассказа мы не узнаем фамилии героини: такое впечатление, что она представляла собой такую же «графиню Лидию Ивановну» еще будучи юной девушкой, готовящейся выйти замуж за безымянного для нас графа[106 - «Графиня Лидия Ивановна очень молодою восторженною девушкой была выдана замуж за богатого, знатного, добродушнейшего и распутнейшего весельчака» (431/5:23). Исходный автограф: «[Лидия Ивановна] очень молодою и привлекательною девушкой была выдана замуж за богатого, знатного, добродушнейшего и распутнейшего весельчака мужа [sic!]. Она была влюблена в него» (Р80: 14).]. И там же мы увидим, что даже формальное письмо героиня подписывает на манер августейшей особы: «Графиня Лидия» (438/5:25).
Как ясно из сравнения описаний, Лидия Ивановна, с ее нажитым явно многолетними усилиями реноме («знаменитая»), видится автору дамою более пожилой[107 - В одном из позднейших черновиков она названа «45
летней старухой» (Р84: 14 об.).], чем ее предшественница в генезисе текста – Мари Каренина, которая не так давно вышла из «лучш[ей] пор[ы] красоты женщины» и еще «недурна собой». Однако напористый темперамент графини не вяжется с сакраментальным сывороточным «отсикнулась», поэтому неудивительно, что правка, вводящая Лидию Ивановну, сразу же удаляет и восходящую к Мари характеристику персонажа с этим словцом[108 - Р28: 1 (здесь написание «отсякнулась», как было прочитано С. А. Толстой при перебеливании исходного автографа и вскоре затем скопировано Д. И. Троицким уже с ее копии, где автор не восстановил оригинального написания [Р18: 34]).]. (Позднейшие случаи использования в черновиках аналогии, описываемой этим глаголом, относятся только к Каренину; Лидия же Ивановна окажется способной на изломанное, а все-таки любовное чувство – именно к Каренину; и не изломанным ли, в сущности, представлено в книге любовное чувство самой Анны?) В целом, как мы еще увидим, видоизменив психофизический габитус персонажа – «самовар» вместо «души в турнюре», – Толстой подновил и адресацию аллюзий, заключенных в образе.
В части общественно значимых воззрений и собственно деятельности графиня Лидия Ивановна наследует Мари Карениной. «А в самом деле, смешно: ее цель добродетель, она христианка, а она всё сердится, и всё у нее враги, и всё враги по христианству и добродетели», – думает о ней Анна, удачно резюмируя пространный пассаж нарратива из черновика, цитированный выше. Среди забот Лидии Ивановны примечательно уже упоминавшееся бегло «дело сестричек» – «филантропическое, религиозно-патриотическое учреждение» (108/1:32)[109 - Исходный автограф определяет это опекаемое Мари Карениной учреждение как «филантропически-религиозное» (Р3: 4 об.); прилагательное «патриотическое», которое отсылает к программе тогда же прорисовываемого в смежной рукописи придворного кружка («Православие, патриотизм и славянство»), было добавлено в составе правки, вводящей графиню N. (Р18: 35).]. В связи с ним упомянут «известный панславист за границей» Правдин, а чуть дальше – «Славянский комитет», на заседание которого в тот же день должна поспеть графиня. Славянские благотворительные комитеты в Москве и Петербурге в те самые годы находили все больше поддержки и в бюрократии, и среди придворной знати, и в самом правящем доме. Нам вполне можно удовольствоваться предположением, что под «делом сестричек» имеется в виду проект, к примеру, основания женского монастыря или мирского православного братства[110 - Женщины – члены православных мирских братств, которые начали учреждаться в Западном крае империи после подавления Январского восстания 1863 года, именовались сестрицами. Здесь может прочитываться и прямая аллюзия на А. Д. Блудову (см. подробнее ниже в наст. гл.), которая была учредительницей Кирилло-Мефодиевского братства на Волыни (хотя занималась не только сестрицами, но и братчиками). Слово «сестричка» в таком случае могло бы быть уменьшительным и от «сестра» (монахиня), и «сестрица» (братчица).] за границей, в продолжение русификаторской кампании в Западном крае империи, или сбора пожертвований на помещение в учебные заведения империи дочерей и сестер пророссийских деятелей из подвластных Австрии или Турции «славянских земель» (также и с миссионерской целью в отношении славян-католиков)[111 - Ср. с тем, как сфера интересов того же придворного кружка, в который метит Толстой, описана в финале тургеневского «Дыма»: «Беседа ведется <…> тихая; касается она предметов духовных и патриотических, „Таинственной капли“ Ф. Н. Глинки, миссий на Востоке, монастырей и братчиков в Белоруссии» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Т. 7. С. 405 [«Дым», гл. XXVIII]). См. примеч. 1 на с. 68.]. Можно допустить и инициативу основания некоего особого филиала общества Красного Креста (официально – Общество попечения о раненых и больных воинах), которое находилось под патронажем самой императрицы. Однако в другом ракурсе угадывается аллюзия иронического свойства, которую кивок на панславизм помогал сделать более изощренной, подманив тогдашнего «среднего» читателя к простой отгадке. Сказать больше о возможном здесь втором дне будет уместно вскоре, в параграфе об историко-биографическом прочтении темы придворного кружка.
Превращению Мари Карениной в графиню Лидию Ивановну сопутствовала корректировка описания этой среды большого света. Вместе с графиней делает мимолетный дебют еще один персонаж, заведомо эпизодический, в ОТ не перешедший, но помогающий нам «уличить» Толстого в его интересе к определенной культурной семантике, которая питала мотив наигранной – как он понимал это – религиозности: «После графини Лидии Ивановны приехала кузина Алексея Александровича, старая девушка, унылая и скучная, но торжественная, потому что она знала Жуковского и Мойера»[112 - Р28: 2 (верхний слой; опубл. без различения нижнего и верхнего слоя: ЧРВ. С. 193; написание Толстого: «Моieра»). В дальнейшем генезисе связка эпитетов, описывающих кузину Каренина, досталась Лидии Ивановне, но без артикуляции эмблематических имен. Ср. вариант из текста журнальной публикации, где княгиня Бетси, устраивая встречу Анны с Вронским у себя дома (127/2:4), отправляет Анне записку: «Приезжайте, пожалуйста, ко мне вечером после оперы <…> я привезу кое-кого из театра, и мы постараемся провести вечер не так торжественно, зато не совсем так скучно, как у графини Лидии Ивановны» (РВ. 1875. № 2. С. 792–793). При переработке журнальной публикации в книжную этот момент был удален.]. Иными словами, с удалением Мари Карениной из состава действующих лиц амплуа остающейся в девичестве родственницы мужа, которому предначертано стать рогоносцем (вензельное сочетание двух провалов в миссии продолжения рода), не исчезает сразу из творимого текста.
К Жуковскому – в одном ряду с Хомяковым – отсылает, вспомним, уже самая ранняя версия многочленной характеристики «высшего петербургского направления», олицетворяемого влиятельными дамами. Имя же дерптского врача, лютеранина Иоганна Христиана Мойера добавочно ограняет реминисценцию, ибо этот человек в глазах современников и почитателей Жуковского был принадлежностью эстетизированной биографии поэта. Не имея надежды жениться на своей возлюбленной Марии Протасовой, Жуковский в 1816 года благословил ее брак с Мойером. В исследовании И. Виницкого раскрыт символический смысл этого жеста самоотречения: он подтверждал идеалистическое устремление Жуковского и сестер Протасовых, Марии и Александры, к тому, чтобы составить союз «прекрасных душ» по образцу «Новой Элоизы» Руссо – союз, который должен был претворить любовную страсть в вечную нежную, братскую дружбу. Мойер и стал вторым духовным братом этой утопической семьи[113 - Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History of Russia. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2015. P. 148–152, 164.]. После безвременной смерти Марии в 1823 году он оставался вдовцом, продолжал начатую им с женой благотворительную деятельность, сохранил связи с родными Марии, купил принадлежавшее когда-то ее матери орловское имение и именно там, а не в Дерпте, окончил в 1858 году свою жизнь, перед смертью приняв православие. Отношения Мойера с Жуковским были пожизненной дружбой двух мужчин, посвященной памяти женщины, которую любили они оба.
Культ Марии Протасовой, как убедительно показано Виницким, нашел свою пару в другой сфере жизни Жуковского – придворно-служебной. Он был педагогом и юной великой княгини Александры Федоровны (урожденной Шарлотты, принцессы Прусской), жены будущего Николая I, и – спустя десятилетие – их сына, будущего Александра II. Религиозно – но не моноконфессионально – мотивированный романтизм Жуковского оставил заметный след в эмоциональной культуре династии Романовых и близких ей аристократических кланов. Его поэзия в части, воспевающей великую княгиню Александру, привила при петербургском дворе заимствованный из Пруссии культ августейшей фемининности, служитель которого – будь то поэт или царедворец, мужчина или женщина – мыслился одной из заведомо немногих избранных душ, способных на подлинно высокое обожание непорочной красоты, воплощения небесного идеала[114 - Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History of Russia. P. 179–236.]. При Николае I этот извод сентиментализма или, как сказал бы Толстой, «восторженный тон» начал сближаться с апологией православия как русской веры. К 1870?м годам фигура Жуковского, умершего за два десятилетия перед тем, превратилась для семьи Александра II и ее придворного окружения в символ верности и благочестия, а как раз на 1873–1874 годы, когда Толстой создавал ранние редакции АК, пришлась первая публикация – в историческом журнале «Русский архив» – писем, которые Жуковский в качестве воспитателя наследника престола писал в конце 1820?х – 1830?х годах императрице Александре Федоровне, своей бывшей ученице[115 - Русский архив. 1873. № 1. Стлб. I–XL; 1874. № 1. Стлб. 9–94.]. Принадлежавший Толстому экземпляр номера «Русского архива» за январь 1874 года сохранил след чтения им этих писем[116 - Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне: Библиографическое описание. Т. 2: Периодические издания на русском языке. М.: Книга, 1978. С. 135 (описание страницы 47?й тетради 1?й «Русского архива» за 1874 г.).]. В этом свете имя Жуковского в авантексте АК как метонимия «утонченной восторженности» (или выхолощенной торжественности) вовсе не кажется, в отличие от кринолина, анахронизмом.
Сам пресловутый кружок, после того как поиск нужного женского персонажа останавливается на графине Лидии Ивановне, характеризуется уже без использования определений «могущественный» и «близкий ко двору». В той же рукописной редакции, где вводится эта героиня, кружок обрисован так: «образованный, любящий и ценящий образование, нравственный, любящий и ценящий нравственность, религиозный, исключительно православно религиозный»[117 - Р28: 7 об. (верхний слой).]. Особо подчеркнутая конфессиональная монолитность как раз и указывала в этой версии на близость к правящему дому и, разумеется, к православной иерархии: в современном высшем обществе, особенно его женской половине, были и такие очажки спиритуальной религиозности, где – в духе далеких 1810?х – преобладал надконфессиональный евангелизм или мистицизм, а вера как таковая не увязывалась с имперским или национальным самосознанием[118 - Женские персонажи АК, экземплифицирующие такого рода религиозность, несколько позднее, в начале 1875 года, оформляются в другой сюжетной линии – Кити Щербацкой. Это мадам Шталь, «пиетистка» (как называет ее – религиоведчески точно – отец Кити), состоящая в «дружеских связях с самыми высшими лицами всех церквей и исповеданий» (219/2:34; 210/2:32), и ее воспитанница Варенька, тип самоотрешенной сестры милосердия. Предтечей обеих в генезисе текста была посвятившая себя благотворительности англичанка мисс Суливан (см.: ЧРВ. С. 226–231 (Р24); два позднейших персонажа появляются в правке копии этого автографа: Р27: 55, 56). Оговорка «исключительно православный» в цитированном черновике смежной серии глав могла быть введена специально для того, чтобы отметить различие между уже воплощавшимися в тексте или только задуманными образчиками, как подразумевается, ложного религиозного воодушевления – придворно-патриотическим и космополитическим.Что касается невымышленной реальности, то, помимо возникшего именно в середине 1870?х годов редстокизма, о референциях к которому в АК ведется речь в гл. 4 наст. изд., в петербургской аристократии еще до того имелись также последователи так называемой Вселенской апостольской церкви, зародившейся еще в 1830?х годах в Англии, или «ирвингисты» (от имени проповедника Э. Ирвинга). Среди них во второй половине 1870?х была особенно активна лично знакомая Толстому по его заграничным встречам начала 1860?х годов княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова (1828–1909), широко известная своей благотворительной деятельностью – и отчасти похожая на некую комбинацию из черт мадам Шталь и Вареньки (см. записи о беседах с Дондуковой-Корсаковой и об ирвингистских чтениях в дневнике А. А. Толстой: РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 2. Д. 43. Л. 99–100, 102, 103 (записи от 15, 22 января, 5 и 15 февраля 1875 г.); см. также: Мазур Т. Р. Дондукова-Корсакова Мария Михайловна // Лев Толстой и его современники: Энциклопедия / Под общ. ред. Н. И. Бурнашевой. Вып. 3. Тула, 2016. С. 178–181; Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями / Сост., подгот. текста, комм. Н. А. Калининой, В. В. Лозбяковой, Т. Г. Никифоровой. М.: Худож. лит., 1990. С. 231–232, 238–239, 241–247).Согласно семейному преданию (см.: Толстой С. Л. Об отражении жизни в «Анне Карениной». Из воспоминаний С. Л. Толстого // Литературное наследство. Т. 37/38. М., 1939. С. 576), прототипами мадам Шталь и Вареньки послужили, соответственно, старшая родственница М. М. Дондуковой-Корсаковой княгиня Елена Александровна Голицына, в 1860 году во Франции помогавшая Толстому и его сестре ухаживать за их смертельно больным братом Николаем, и ее племянница Екатерина Александровна Корсакова, которою Толстой был тогда же мимолетно увлечен. О личности Е. Корсаковой известно совсем немного; из сохранившегося же письма Е. Голицыной Толстому, где та деликатно убеждает адресата в необходимости откровенно объясниться с Корсаковой о своих намерениях, не проступает ни чопорности, ни святошества, свойственных мадам Шталь (ОР ГМТ. Ф. 1. № 144/19–2 (письмо б. д., датируется началом апреля н. ст. 1861 года на основании содержания и в сопоставлении с дневниковой записью Толстого от 6/18 апреля того же года [Юб. Т. 48. С. 34]); см. также: Дробат Л. С. Голицына Елена Александровна // Лев Толстой и его современники. Вып. 3. С. 141 [утверждение автора, что письма Голицыной Толстому не сохранились, ошибочно]).]. Как подобает члену «исключительно православно религиозного» кружка, Каренин этой редакции читает перед сном исследование о «значении папизма в Западной Европе как элемента разложения церкви»[119 - Р28: 4. Как и во многих других случаях, ОТ здесь менее прямолинеен: Каренин – религиозный, но считающий нужным следить за новинками вполне мирской поэзии – читает Duc de Lille, «Poеsie des enfers» (111/1:33).].
И вот как эта котерия описывается в ОТ:
Центром этого кружка была графиня Лидия Ивановна. Это был кружок старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых мужчин. Один из умных людей, принадлежащих к этому кружку, называл его «совестью петербургского общества» (125/2:4).
Из обрамляющих этот пассаж упоминаний о том, что Каренин «сделал свою карьеру» через этот кружок и «очень дорожил» им, и из переданного синтаксисом первенства женщин, не говоря уже о последующей эволюции образа Лидии Ивановны, можно легко догадаться, что «высшие женские связи, самые могущественные», по-прежнему, как и в ранних редакциях, пребывают здесь. Словом, из сравнения ОТ с авантекстом выявляется красноречивое умолчание: затушеванные атрибуты изображаемой среды и есть ее «вывеска». Констатация их в печатном тексте была бы не просто слишком прямолинейной, но и, возможно, политически неблагоразумной.
2. Графиня Толстая из Зимнего дворца
Мы, наконец, вплотную подступаем к оставившему след в истории «внешне скромному» кружку при дворе императрицы Марии Александровны – плеяде религиозных дам, с которой, по моему мнению, нити аллюзии и пародии связывают трактовку в АК благочестия и духовности как подмены призвания женщины. К слову, именно в упомянутом выше «Дыме» Тургенева отыскивается одна из первых литературных репрезентаций кружка. Это откровенно саркастическая зарисовка салона безымянной старой гранд-дамы – «храм[а], посвященн[ого] высшему приличию, любвеобильной добродетели, словом: неземному», где беседы касаются только «предметов духовных и патриотических» («миссий на Востоке, монастырей и братчиков в Белоруссии») и где даже обтянутые чулками «громадные <…> икры» лакеев «безмолвно вздрагивают при каждом шаге» не иначе как почтительно, усиливая «общее впечатление благолепия, благонамеренности, благоговения». (Как не вспомнить Каренина, косящегося – таков же был ракурс взгляда Толстого на тургеневскую повесть – на «икры камергера» не когда-нибудь, а за минуту до встречи во дворце с опекающей его графиней Лидией Ивановной [435/5:24].) В хозяйке угадывается гофмейстерина императрицы графиня Н. Д. Протасова, а августейшую причастность к собранию метонимически выдает та деталь, что все говорят «чуть слышно <…> так, как будто в комнате находится трудный, почти умирающий больной <…>»[120 - Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Т. 7. С. 405–406. См. также: Кийко Е. И. Комментарии. Там же. С. 556–557. Тот же кружок очерчен всего несколькими штрихами, но с ясно читающимся намеком на влияние императрицы в одной из повестей А. Н. Апухтина, действие которой происходит в начале 1870?х: Апухтин А. Н. Архив графини Д**. Повесть в письмах // Он же. Сочинения: Стихотворения; Проза. М.: Худож. лит., 1985. С. 401–441, см. в особ. 437.]. Неписаный этикет предполагал крайне сдержанную манеру речи в присутствии Марии Александровны, голос которой был вынужденно тихим из?за хронической респираторной болезни.
То была среда, отнюдь не тождественная официальному большому двору. И мотив «высших женских связей» в ранних редакциях АК являлся не вариацией на банальную тему всепроникающего женского влияния, а способом взять на прицел взаимоотношения, стили поведения, характеры в мирке, Толстому лично неплохо знакомом.
Чтобы сразу высветить точки схождения между художественным вымыслом, биографией писателя и событиями эпохи, позволю себе привести два свидетельства «из будущего» – принимая пору начала работы над АК за настоящее. В начале марта 1882 года, спустя год после убийства Александра II и почти два года – после смерти императрицы, Толстой пишет весьма сердитое послание своей двоюродной тетушке и давней корреспондентке графине Александре Андреевне Толстой, фрейлине с тридцатипятилетним стажем, в своем роде профессиональной придворной. И до, и после этого между ними случались размолвки на почве споров о религии вообще и православной церкви в частности, но именно тогда, в период напряженных духовных исканий Толстого, наружу вырвалось глубинное несогласие. Он призывал и доказывал в своей напористо-обличительной манере:
Вообще не говорите о Христе, чтобы избежать того ridicule, который так распространен между придворными дамами – богословствовать и умиляться Христом и проповедовать, и обращать. Разве не комично то, что придворная дама – вы, Блудова, Тютчевы чувствуют себя призванными проповедовать православие. Я понимаю, что всякая женщина может желать спасения; но тогда, если она православная, то первое, что она делает, удаляется от двора – света, ходит к заутреням, постится и спасается, как умеет[121 - ЛНТ–ААТ. С. 404.].
Письмо не было отправлено, Толстой смягчился и даже раскаивался в своей резкости, но не все сказанное в сердцах было гротеском. Хлесткое «вы, Блудова, [сестры] Тютчевы» звучит как устоявшаяся для него персонификация определенного феномена или тенденции.
Сместившись вспять на несколько лет, сопоставим эту филиппику с громами толстовского негодования против панславистского общественного энтузиазма, который пришелся на последнюю фазу работы над АК в конце 1876 – первой половине 1877 года и, как хорошо известно, вплелся в саму ткань романа. Один из стимулов к этому православно-патриотическому ажиотажу Толстой усматривал в моде на «сочувствие братьям славянам» в имперской элите, определяя саму природу названного умонастроения как в значительной мере женскую. В ноябре 1876 года, вскоре после речи Александра II в Кремле, где впервые было открыто заявлено сочувствие монарха славянским повстанцам, Толстой писал А. А. Фету: «[М]не страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тех условий, при кот[орых] совершается история, как дама, какая-нибудь Аксакова с своим мизерным тщеславием и фальшивым сочувствием к чему-то неопределенному, оказывается нужным винтиком во всей машине»[122 - Юб. Т. 62. С. 288–289.]. Аксакова – это одна из все тех же сестер Тютчевых, дочерей поэта, Анна Федоровна, жена и соратница славянофила и панслависта И. С. Аксакова, пылкого пропагандиста вмешательства России в балканские события. И еще через полгода с небольшим, дорабатывая в корректурах диалоги последней части романа, куда он постарался вместить всю полноту своего отторжения от войны, оправдываемой заветами христианской веры, Толстой был близок к тому, чтобы дать одну из ключевых полемических фраз в следующей версии: «Но кто же объявил войну туркам? Иван Иваныч Рагозов и три дамы[?]»[123 - К127: 5. Чуть позднее, в той же корректуре, фразе была дана редакция, которая читается в ОТ (674/8:15). Подробнее об отповеди панславизму в АК, включая и содержащуюся в процитированном варианте аллюзию, см. гл. 4 наст. изд.] Не витает ли здесь та же триада имен?[124 - Ср. замечание о панславистском подъеме 1876 года в известных мемуарах младшей современницы и также придворной дамы Е. А. Нарышкиной: «Славянофильские круги были неутомимы в своей деятельности и даже пытались повлиять на Императрицу с помощью придворных дам. Графиня Антонина Дмитриевна Блудова, графиня Александра Андреевна Толстая и Екатерина Федоровна Тютчева изо всех сил старались оказать влияние на престолонаследника [будущего Александра III. – М. Д.] и нашли у него сочувствие» (Нарышкина Е. А. Мои воспоминания. Под властью трех царей. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 268).]
Итак: сестры Анна, Дарья и Екатерина Тютчевы, графиня Антонина Дмитриевна Блудова, графиня А. А. Толстая (и не только они). Олицетворяемые этими женщинами политические и идейные убеждения, а равно и эмоциональная культура уходили корнями в эпоху Крымской войны, поражение в которой подтолкнуло не только проведение реформ, но и вызревание русского национализма в его религиозном изводе. Известный дневник Анны Тютчевой ясно свидетельствует о том, как при дворе молодой императрицы уже во второй половине 1850?х годов укреплялись панславистские настроения – предполагавшие особую неприязнь к «вероломной» Австрии – и пестовалась идея об антагонизме интересов России и европейских держав[125 - Тютчева А. Ф. Воспоминания: При дворе двух императоров. Дневник / Пер. с фр., вступл. Л. В. Гладковой. М.: Захаров, 2016. C. 310, 323. О заявлении самой императрицей панславистской позиции в ее письмах мужу, Александру II, в середине 1870?х годов см. мою статью: Dolbilov M. A Courtier’s Services near the Battlefield: Count Alexander Adlerberg as Empress Maria Aleksandrovna’s Epistolary Confidant amid the Russo-Turkish War of 1877–1878 // History – Higher School of Economics. 2022. № 1. P. 108–111.]. Когда Толстой приступил к работе над АК, старшая Тютчева семь лет как уволилась с фрейлинской службы, выйдя за Аксакова, благодаря чему, не теряя придворных контактов, обрела некоторую свободу в высказывании взглядов, несогласных с правительственной политикой. Ее сестра Дарья, принятая во фрейлины несколько позже Анны, продолжала эту службу и оставалась столь же глубоко предана императрице, сколь посвящена в будни олимпа; свою роль в союзе сестер играла и книжница Екатерина, жившая, как и Анна, в Москве и связывавшая придворную компанию утонченным интеллектуальным ферментом патриотической религиозности. Блудова, непревзойденная наладчица сетей общения и влияния[126 - Как явствует из ее писем единомышленнику – настоятелю православной церкви при посольстве России в Вене протоиерею Михаилу Раевскому, у Блудовой уже в 1850?е годы была сеть знакомств среди пророссийски настроенных славянских деятелей на Балканах, прежде всего в Сербии, и уже тогда она старалась вовлечь в «славянское дело» разных членов дома Романовых: Зарубежные славяне и Россия: Документы архива М. Ф. Раевского. 40–80 годы XIX века / Сост. В. Матула, И. В. Чуркина. М.: Наука, 1975. С. 47–59.], с начала 1860?х годов прочно занимала позицию политической придворной дамы при императрице; Толстая с 1866 года подвизалась в должности наставницы и куратора обучения единственной дочери императорской четы – великой княжны Марии Александровны (сменив в этом качестве как раз А. Тютчеву). Все эти дамы состояли в оживленной, ведшейся почти исключительно на французском переписке между собой, а некоторые из них – с императрицей[127 - В особенности интересна – и как эпистолярный памятник, и как исторический источник – многолетняя трехсторонняя переписка сестер Тютчевых, почти целиком остающаяся неопубликованной. См., напр., письма Дарьи Тютчевой Анне и Екатерине, проливающие свет на то, как в высшем обществе инспирировалось панславистское движение в 1876 году: Мемориальный архив Музея «Усадьба Мураново». Ф. 1. Оп. 1. Д. 583. Л. 54–54 об., 56–57, 66–67 об. (письма Анне от 23 июня, 4 июля и 11 августа 1876 г.); Д. 621. Л. 41–44 об. (письма Екатерине от 28 и 31 мая 1876 г.). Некоторые из тогдашних писем А. Д. Блудовой и Тютчевых цитируются далее в гл. 4 наст. изд. См. также опыт публикации более раннего фрагмента переписки: Переписка дочерей Ф. И. Тютчева / Предисл., примеч. Л. В. Гладковой, И. А. Королевой. Пер. с франц. Л. В. Гладковой // Российская словесность. 1996. № 1. С. 87–95.].
С. Д. Шереметев, один из очень немногих мемуаристов, кто попытался целостно описать структуру высшего общества 1860–1870?х годов в плане межличностных отношений, характеризовал приближенных к императрице женщин как «небольшой интимный кружок» с устойчивыми политическими воззрениями:
Совершенно особый тип представляли из себя фрейлины имп. Марии Александровны <…> Отличительная черта этих новых фрейлин – прикосновенность к политическим течениям.
Первая «персона женская» <…> при новой императрице была фрейлина Анна Феодоровна Тютчева. <…> Она играла роль, изрекала, критиковала, направляла и всего больше надоедала всем и каждому. <…>
[Позднее графиня А. Д. Блудова] втянулась в роль и заняла до некоторой степени боевой пост и стала хозяйкою славянофильского подворья в Петербурге. Все свои стремления, всю деятельность <…> она перенесла с собою в Зимний дворец. <…> Она сделалась средоточием известного кружка, проводником и пособником для многих. <…> Она могла доходить до некоторой необузданности и до большого самообольщения, почитая себя орудием Провидения для указания истинного пути. <…> Ее сопровождал целый сонм прихвостней, всякого народу – пройдох, плутов, искателей приключений, честолюбцев и ханжей, которые все направлялись к ней, как в Мекку <…> ловко промышляя громкими словами о самодержавии, православии, о народности и о славянах <…>[128 - Шереметев С. Д. Мемуары графа С. Д. Шереметева. Т. 1. / Сост., подгот. текста и примеч. Л. И. Шохина. Изд. 2-е, испр. М.: Индрик, 2004. C. 66–67, 116, 118, 119.].
Касаясь вторжения личных привязанностей в сферу политики, мемуарист отмечает, что стилем поведения некоторых из наперсниц Марии Александровны был «оттен[ок] пренебрежительности к личности государя <…> с сильным подчеркиванием всепоглощающего значения императрицы». Александр II – утверждение Шереметева согласуется с данными других источников – не оставался в долгу: «Все, что окружало имп. Марию Александровну, за исключением <…> дам неполитических, было ему ненавистно»[129 - Там же. С. 235, 120.]. Выразительная деталь: вечера у императрицы, на которые во время нередких отъездов императора на охоту приглашалась, кроме фрейлин, горстка избранных мужчин – таких, например, как П. А. Вяземский и Ф. И. Тютчев – звались морганатическими[130 - Там же. С. 119; Тютчева А. Ф. Воспоминания: При дворе двух императоров. Дневник. С. 443.]. Хотя и шуточное, словцо, вероятно, могло звучать и серьезнее, намекая на взаимную чуждость большого двора и «интимного кружка».
Толстой имел опыт непосредственной коммуникации с этой придворной субкультурой с середины 1850?х годов – времени, когда состав кружка императрицы уже вполне определился, пусть даже некоторые из ключевых назначений на фрейлинскую службу еще не состоялись. В свои тогдашние приезды в Петербург через Александру Толстую (о ком мы вот-вот поговорим подробнее) он познакомился и с Анной Тютчевой, и с Блудовыми – Антониной и ее младшей сестрой, Лидией Шевич, как и с их отцом, сановником Д. Н. Блудовым. С сестрами Тютчевыми Толстой виделся также в Москве и временами, особенно в 1858 году, даже обдумывал перспективу женитьбы на Екатерине. Придя в конце концов к отрицательному заключению, он выразил его в резкой эпистолярной ремарке: «К. Тютчева была бы хорошая, ежели бы не скверная пыль и какая-то сухость и неаппетитность в уме и чувстве <…>»[131 - ЛНТ–ААТ. С. 141–142 (письмо Толстого от конца марта 1859 г.).]. Метафоры, включая гастрономическую, явно близки тем, при помощи которых автор АК, используя свой тогдашний идиолект («отсекнулась»), будет стараться передать черты ложной духовности и умствующей праведности в женском персонаже ранних редакций – еще не старой, но уже отцветшей сестре Каренина, «душе в кринолине», чьим первоначальным именем едва ли случайно были варианты Катерина, Кити. Это при том, что Толстой остался по-своему расположен к Екатерине Федоровне, ценил ее ум именно за – в его понимании – сухость, и в марте 1874 года, о чем пойдет речь в следующей главе, она была в числе немногих слушателей авторского чтения первой части АК в дожурнальной редакции (впрочем, родственной героини, вообще на той стадии генезиса еще фигурировавшей в романе, в представленном фрагменте не было).
Петербургский салон Блудовых Толстой посещал в 1856 году, причем после одного из визитов он оставил запись в дневнике о замужней младшей сестре Антонины, Лидии Шевич: «У Блудовых Л[идия] конфузила меня своим выражением привязанности»[132 - Юб. Т. 47. С. 68, 69–70, 72, 104 (записи в дневнике от 20, 23 апреля, 8 мая, 15 мая и 5 декабря 1856 г.), цитата – с. 72.]. Дальнейшие же встречи были редкими, и, насколько можно судить по сохранившейся корреспонденции, переписка не велась. Любопытно, однако, что много позднее, в 1878 году, то есть уже после выхода АК, где разделяемые ею политические убеждения были подвергнуты резкой критике, Антонина Блудова, планируя провести в Туле проездом один день, послала Толстому письмецо. Она спрашивала, не пожелает ли он повидаться с нею и Лидией, ибо «так давно Вас не видали», и сообщала – явно рассчитывая на сочувствие со стороны адресата, – что они вдвоем направляются в Севастополь, «собственно чтобы ему поклониться»[133 - ОР ГМТ. Ф. 1. № 137/52-1. Л. 1–1 об. (письмо от 13 мая 1878 г.).]. Толстой чтил память обороны Севастополя, но едва ли она значила для него то же, что для Блудовой, которая ехала на поклон патриотической святыне вскоре после долгожданного реванша – победы в войне с Турцией «за славян». Изрядная примесь комического в светской репутации Блудовой, чьи письма дают представление о ее экзальтированной говорливости, сближает ее с толстовской графиней Лидией Ивановной не меньше, чем благотворительные предприятия и поглощенность славянским вопросом.
Но из всех обсуждаемых здесь фигур наибольший интерес для понимания исторического контекста АК представляет, безусловно, А. А. Толстая – Alexandrine, как адресовался обычно к ней Толстой (для нее – Lеon). В «бомондных» главах романа есть немало того, чем автор был обязан своей родственнице в ее качестве и источника информации, и объекта его наблюдения и размышлений. К моменту начала работы над АК 44-летний Толстой и его 55-летняя тетушка – эта разница в возрасте делала ее скорее кузиной – были знакомы около восемнадцати лет. Романтическую фазу их дружба миновала в 1857 году, когда они оба оказались в Швейцарии – он сам по себе, в первом «настоящем» заграничном путешествии, она – сопровождая вместе с сестрой, также фрейлиной, их тогдашнюю патронессу великую княгиню Марию Николаевну (сестру незадолго до того воцарившегося Александра II) и ее дочерей от первого брака – княжон Марию и Евгению Романовских, титуловавшихся также герцогинями Лейхтенбергскими. (Их братья, Николай и Евгений Лейхтенбергские, еще промелькнут на этих страницах.) В завязавшихся отношениях было и взаимное влечение пытливых, ироничных, рефлексирующих умов, и восхищение благодарной читательницы крепнущим на ее глазах писательским талантом, и покровительство великосветской тетушки диковатому племяннику, и, пожалуй, – в особенности с ее стороны – проблески влюбленности, одновременно маскируемой и оттеняемой игривыми обращениями «бабушка» и «внук».
За этим последовали встречи в Петербурге в недолгие наезды Толстого в 1858, 1859 и 1861 годах. В Мариинском дворце – и в его парадных покоях, и на фрейлинском «верху», куда вела лестница почти в девяносто ступеней, – он виделся с разными колоритными образчиками придворной аристократии. Тогдашняя переписка Толстого и его руководительницы в приобщении к новой среде питалась, в числе прочего, и светскими новостями. Для всего относящегося ко двору в их условном шифре имелось произносимое так, как если бы это была французская фамилия, слово «Труба», а та же великая княгиня Мария Николаевна именовалась «la ober-ramoneuse» (обер-трубочисткой) или «нашей милой Великой Обер-Труб[ой]»[134 - ЛНТ–ААТ. С. 120, 165 (письма А. А. Толстой от 4 июня 1858 г. и 10–16 мая 1859 г.).] (что, разумеется, отнюдь не ставит под сомнение горячую преданность Александры Андреевны правящему дому вообще и «своей» великой княгине в частности). Производным словом Толстой называл и саму атмосферу двора, посетовав однажды в дневнике: «[Т]рубной запах, к стыду моему, мне нравится»[135 - Юб. Т. 47. С. 144 (запись в дневнике от 15 июля 1857 г.).].
После мимолетного – по пути домой из?за границы – проезда Толстого через Петербург весной 1861 года личное общение прервалось надолго – до 1878 года. В эту лакуну вместились его женитьба, рождение девяти детей и смерть трех из них, написание и издание двух романов; разные перипетии придворной жизни Александры Андреевны, безвременная смерть ее сестры. Переписка между ними все эти годы была содержательной, но не очень регулярной, замирая порой на многие месяцы, как было в 1875 году – именно тогда, когда началась сериализация АК (о работе над которой, впрочем, Толстая уже узнала ранее от самого автора).
В литературе у А. А. Толстой прочное реноме друга и родственной души Льва Николаевича. При всех трениях и диссонансах теплота, а иногда и взаимная нежность их переписки – по крайней мере до начала 1880?х – неподдельны, как несомненна и живейшая благодарность Толстого за содействие влиятельной родственницы в решении многих занимавших его проблем, житейских и общественных. В числе их были и хлопоты об узаконении (как полагалось, высочайшим повелением) внебрачных детей его брата Сергея, и жалоба на местную жандармерию за обыск в Ясной Поляне, и поиски гувернанток и гувернеров для детей, и организация сбора средств для спасения голодающих в Самарской губернии летом 1873 года. Тем не менее возьмусь утверждать, что Александра Андреевна непроизвольно обогатила собою тот резервуар характеристик, обстоятельств, положений, к которому автор АК прибегал для аллюзивного живописания неприятной ему элитистской религиозности. (То, что он ее же подчас развлекал насмешками над дамами, которых считал святошами, не опровергает этого тезиса – не он ли был виртуозом литературного двоения следа?) Вообще, сам образ А. А. Толстой, как он существовал в сознании писателя, мог долгое время несколько упрощаться толстоведами по той причине, что многие из тех ее писем, где явлено расхождение корреспондентов в области религии, не вошли в первое, давнее, издание переписки и были опубликованы только в 2011 году.
Еще задолго до религиозных исканий Толстого конца 1870?х (когда между ними при возобновившихся тогда личных встречах вспыхивали особенно страстные споры о вере) ему случалось иронизировать над тем, как Толстая «обращает» его[136 - ЛНТ–ААТ. С. 172 (письмо Толстого от 12 июня 1859 г.). См. также его позднейшие отзывы о Толстой в письмах В. Г. Черткову в 1897 году и брату С. Н. Толстому в 1904-м: Юб. Т. 88. С. 10; Т. 75. С. 80 (также: Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями. С. 498). Убедиться в подчас черствой нравоучительности Александры Андреевны имел случай и приятельствовавший с нею И. А. Гончаров, тем более что перед ним она представала большей частью в официальной ипостаси придворной дамы. См.: Гончаров И. А. [Письма] А. А. Толстой, 1865–1883 / Вступ. ст., публ., коммент. В. К. Лебедева и Л. Н. Морозенко // Литературное наследство. Т. 102: И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. М., 2000. С. 407, 423–425.]. Графиня Александра была глубоко верующей православной, приверженной официальной церкви. Однажды, в письме из Спа, она журила Толстого за похвалы англиканству, добавляя, что ей самой в местном англиканском храме «холодно», а в католическом – «минутами даже неприятно»[137 - ЛНТ–ААТ. С. 177 (письмо от 4/16 июля 1859 г.).]. Были у нее и миссионерские, проповеднические задатки, склонность к религиозному морализаторству; на кое-кого эта интеллектуально утонченная, наделенная острым чувством юмора женщина производила впечатление безнадежной ханжи. Так, в 1869 году юный великий князь Алексей (о ком чуть дальше будет уместно еще раз вспомнить в связи с его бурным романом, начавшимся именно в том году) одобрительно пересказывал в дневнике замечание одной из фрейлин: «…Александра Андреевна несносная и больше похожа на черта или на старого изуита [sic!], чем на женщину»[138 - ГАРФ. Ф. 681. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.]. Дидактизм Толстой, и в самом деле граничивший со святошеством, живо запечатлен в ее позднейших воспоминаниях – она трактует любовную связь Александра II с княжной Е. М. Долгоруковой столь ригористично, что не может скрыть почти физической антипатии, которую когда-то испытывала к малолетним детям императора и его любовницы[139 - Толстая А. А. Записки фрейлины: Печальный эпизод из моей жизни при дворе / Сост. Н. И. Азарова, Л. В. Гладкова, О. А. Голиненко, Б. М. Шумова. М.: Энциклопедия российских деревень, 1996. С. 169–170.].
При всем том, несмотря на упреки «внуку» за невоцерковленность, «бабушка» тяготела к мистико-пиетистскому модусу религиозности, для которого близость верующего к источнику веры – опыт скорее личный, чем церковный. Ее письма Толстому в годы, когда он был агностиком, полны артикуляций – на французском и русском – чувства Божественного присутствия в ее жизни, пронзительного сознания собственной греховности и истового упования на спасение; о каких-либо представителях клира нет и помину. В марте 1859 года она сообщала:
В 1874 году Толстой, конечно же, не был в полном неведении насчет заметной реформы, произведенной в дамском костюме. Он должен был знать, что для придания юбке, а с нею и женской фигуре чарующей округлости применяется – в высшем обществе – уже преимущественно не кринолин, а турнюр. (Воздерживаюсь от цитирования перифраза, которым будет заклеймен этот предмет женского наряда в «Крейцеровой сонате»[85 - Юб. Т. 27. С. 22–23 («Крейцерова соната», гл. VI).].) Однако, по всей видимости, Петербург начала 1860?х оставался для Толстого хронотопом большого света: воспоминания о не столь давнем прошлом были достаточно свежи, чтобы, толкнув автора под руку, произвести в ранней рукописи забавный анахронизм. Силуэт фигуры петербургской великосветской дамы явился внутреннему взору писателя, как и прежде, экстравагантно колоколообразным. Новый вариант «душа в турнюре» из редакции 1874 года не дойдет потом до ОТ[86 - Зато сам турнюр как примета 1870?х прямо-таки вопиет о себе в зарисовке светской дамы Сафо Штольц, чей эпатирующий наряд не позволяет понять, «где сзади, в этой подстроенной колеблющейся горе, действительно кончается ее настоящее, маленькое и стройное, столь обнаженное сверху и столь спрятанное сзади и внизу тело» (284–285/3:18).], но его стоило придумать уже для того, чтобы устранить анахронизм. Вообще, как в черновых редакциях, так и в окончательной есть сколько-то следов вторжения реальности конца 1850?х – начала 1860?х годов (Толстой в начале четвертого десятка лет, накануне женитьбы) в мир романа «из 1870?х», и это не только реальность аристократического салона[87 - Об анахронизмах из совсем другой области – помещичьего хозяйства и аграрных отношений – говорится ниже в гл. 5.].
Вернемся к содержанию вставки. В развернутом изображении Мари используется толстовский прием несколько назойливой кодировки духовного через физическое. Именно сестре Алексей Александрович «был обязан <…> большею частью своего успеха в свете»: «она имела высшие женские связи, самые могущественные». Последние два слова добавлены в автографе над строкой, словно нарочно иллюстрируя деликатность политических аллюзий, вводимых в портрет героини. Деля с братом кров, Мари придавала «характер высшей утонченности и как будто самостоятельности его дому». В самой сцене беседы, возвещая о себе доносящимся из?за двери «звуком тонкого
сморкания» (неслучайная замена одного телесного отправления другим)[88 - Р3: 4. Опубл. с неполным воспроизведением правки: ЧРВ. С. 206.], она возникает перед братом и перед читателем, чтобы тут же подвергнуться немилосердному анатомированию со стороны нарратора. Телесная, а тем самым и моральная ущербность передается здесь метафорой сыворотки, отсекшейся от простокваши; обозначающий это диалектный или окказиональный глагол «отсикнуться» уже был употреблен в редакции 1873 года применительно к обескровленному несчастьем, лишенному остатков жизненной энергии Каренину[89 - ПЗР. С. 791.], но ни оттуда, ни из разбираемой редакции сцены с сестрой Каренина грубоватое словечко не попадет в ОТ[90 - Автор АК определенно питал слабость к слову «отсикнуться» (в другом написании – «отсекнуться»). На протяжении трех лет он не раз пробовал применить его в черновиках разных фрагментов романа, как в нарративе, так и в речи персонажа, но, по всей видимости, и глагол, и сама метафора были сочтены слишком сниженными для печатного текста. Из известных мне случаев такого словоупотребления позднейшие имеют место в рукописи, датируемой 1876 годом, с двумя последовательными вариантами сцены с Карениным, высмеиваемым придворными на рауте во дворце (5:24): Р83: 9 об. (нижний слой), 15 об. (добавляющая и тут же удаляющая фразу правка: «[В]есь похудел и опустился,
»). При этом смысловая аура глагола, несомненно, донесена до окончательных редакций соответствующих описаний и характеристик. Не исключено, что Толстой, зная заранее, что не допустит такого уподобления в ОТ, нуждался в нем на стадии черновика как в возбудителе творческого процесса. Ср. анализ того, как включенные Г. Флобером в планы и «сценарии» к «Госпоже Бовари» скабрезные слова и откровенные наброски постельных эпизодов давали тогда и дают теперь косвенный, но явственный отзвук в стилистике и тональности изображения моментов физической близости в самом романе, где подобная «излучению» «действенная сила» исходного наименования или эскиза чувствуется «под чинной формой повествования» (Leclerc Y. «Madame Bovary» au scalpel: Gen?se, rеception, critique. Paris: Classiques Garnier, 2017. P. 38–39, 50–52; цитаты – p. 51, 52). Аналогия тем более уместна, что обсуждаемый глагол в приложении к Каренину, выглядящему плачевно немужественным, имеет сексуальную коннотацию. Ср. раннюю (также 1876 года) редакцию той же сцены разговора во дворце: «Не то что постарел, а с ним сделалось, что с простоквашей бывает, когда она перестоит, – говорил Стремов, позволявший себе вольность вульгарных сравнений. – Знаете, как будто крепкое, а там вода. Это называет моя экономка „отсикнулась“. Вот и он отсикнулся. / И Стремов, сжав свои крепкие губы, с таким выражением, которое ясно говорило, что он сам надеется еще не скоро отсикнуться, смеясь умными глазами, смотрел на собеседницу» (Р79: 1 об. – копия с авторской правкой; опубл. без различения нижнего и верхнего слоя: ЧРВ. С. 418).].
Итак,
Мари была недурна собой, но она уже пережила лучшую пору красоты женщины, и с ней сделалось то, что делается с немного перестоявшейся простоквашей. Она отсикнулась. Та же хорошая простокваша стала слаба, неплотна и подернулась безвкусной, нечисто цветной сывороткой. То же сделалось с ней и физически и нравственно.
Этот брезгливо звучащий глагол не только описывает внешность, но и проецируется на духовную сущность героини, на особое сочетание религиозной покорности судьбе с упоением своею избранностью:
[С] тех пор как она отсикнулась, что незаметно случилось с ней года два тому назад, религиозность не находила себе полного удовлетворения в том, чтобы молиться и исполнять Божественный закон, но в том, чтобы судить о справедливости религиозных взглядов других и бороться с ложными учениями, с протестантами, с католиками, с неверующими. Добродетельные наклонности ее точно так же с того времени обратились не на добрые дела, но на борьбу с теми, которые мешали добрым делам. <…> И всякое доброе дело, в особенности угнетенным братьям славянам, которые были особенно близки сердцу Мари, встречало врагов, ложных толкователей, с которыми надо было бороться. Мари изнемогала в этой борьбе, находя утешенье только в малом кружке людей, понимающих ее и ее стремления[91 - ЧРВ. С. 207.].
Кроме продвижения панславизма (первая в генезисе романа антиципация одной из его будущих и политических, и мировоззренческих тем), Мари вовлечена в противоборство вокруг затеянного ею филантропического «дела сестричек». Подробным рассказом об очередной каверзе конкурентов, открывающимся жеманно-праведнической фразой на французском: «О, как я подрублена нынче», – она гасит позыв брата поделиться с нею его собственным горем, несмотря на то что понимает его состояние. Ее заключительная нотация: «Каждый несет свой крест, исключая тех, которые накладывают его на других» – сопровождается взглядом на входящую Анну[92 - Там же. С. 207, 208.].
Сцена разговора Каренина с сестрой, как и сама героиня, вскоре будут удалены автором из создающегося текста[93 - Фрагмент беседы Каренина с сестрой перед попыткой объяснения с женой вычеркивается в копии автографа. Любопытный пример толстовской «экономии» на функциональных остатках удаляемых описаний и мизансцены: относящиеся к Мари слова «звук тонкого сморкания» (который Каренин слышит из?за двери) правятся на «звук легких шагов», чтобы ввести в комнату уже не Мари, а сразу Анну (Р26: 11 об.).]. Но генетически этюд об «отсикнувшейся» Мари оказался плодотворным: он решающе углубил и нюансировал самый характер женского персонажа, требуемого темой ложного благочестия, и стал материалом для «прививки» к черновикам других сцен и фрагментов нарратива.
Политическая составляющая портрета Мари, пройдя через еще один автограф, трансформировалась – вместе с персонажем – в характеристику целой группы единомышленников и тем самым заложила основу для одного из репортерско-комментаторских опытов автора АК – классификации «подразделений» столичного высшего света в будущей Части 2 (2:4). В автографе главы, озаглавленной до смешного назидательно «Дьявол», сочинением которой Толстой весной 1874 года начал замедлять и, одновременно углубляя психологизм и сгущая фон, уплотнять рассказ о развитии страсти Анны и Удашева/Вронского (в нескольких новых автографах тех недель используется прежний вариант фамилии героя[94 - См. об этом примеч. 2 на с. 249–250 и примеч. 3 на с. 269–270.]), тот самый вскользь упомянутый «малый кружок» предстает перед нами анфас, нарисованный резкими мазками:
[Э]то был тот круг, через который Алексей Александрович сделал свою карьеру, круг, близкий к двору, внешне скромный, но могущественный [эхо «высших женских», «самых могущественных» связей Мари. – М. Д.]. Центром этого кружка была графиня А. [в этой же рукописи встречается криптоним «графиня N.». – М. Д.]; через нее-то Алексей Александрович сделал свою карьеру. В кружке этом царствовал постоянно восторг и умиленье над своими собственными добродетелями. Православие, патриотизм и славянство играли большую роль в этом круге. Алексей Александрович очень дорожил этим кругом, и Анна одно время, найдя в среде этого кружка очень много милых женщин <…> сжилась с этим кружком и усвоила себе ту некоторую утонченную восторженность, царствующую в этом кружке. Она, правда, никогда не вводила этот тон, но поддерживала его и не оскорблялась им.
Как и в ОТ (с поправкой, опять-таки, на его тенденцию к меньшей, чем в черновиках, однозначности), Анна по возвращении из Москвы отдаляется от привычной ей с замужества светской компании, осознав «все притворство», там процветающее[95 - ЧРВ. С. 194–195 (Р25).]. Автограф главы «Дьявол» дает еще одну модификацию нарочито избыточного определения, призванного, думается, уподобить женскую религиозную выспренность неестественно пышному и показному наряду – как если бы главное достояние «души в турнюре» свелось к длинному шлейфу. На сей раз не Вронский, а великосветская богачка и распутница Бетси Курагина (княгиня Тверская в ОТ) высмеивает душеспасительный кружок, называя его не только «богадельней», но и «композицией из чего-то славянофильско-хомяковско-утонченно православно-женско-придворно подленького»[96 - ЧРВ. С. 195 (Р25). Ни один из вариантов этого определения не дошел до ОТ, но в нем имеется аналогичное словесное сооружение, которое использовано для описания иной, чем «душа в турнюре», разновидности женской несостоятельности – обделенных кавалерами дам на балу: «Не успела она [Кити] войти в залу и дойти до тюлево-ленто-кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать (Кити никогда не стаивала в этой толпе), как уж ее пригласили на вальс <…>» (80/1:22).].
Стоит особо подчеркнуть, что этот черновик с перечислением ценностей некоей придворно-чиновничьей группы в стиле знаменитой уваровской триады («Православие, самодержавие, народность»), но далеко не тождественно ей самой – «Православие, патриотизм и славянство», – был написан почти за два года до начала поведших к войне антитурецких восстаний на Балканах и бурного общественного увлечения славянским вопросом. Иными словами, в той мере, в какой цитированная зарисовка не была прямой реакцией Толстого на конкретные резонансные события (в отличие от отповеди «славянобесию» 1876 года в будущей Части 8), «близкий ко двору, внешне скромный, но могущественный» кружок – это апологеты религиозно вдохновляемого панславизма по своим устойчивым, давним убеждениям.
Добавочным штрихом к тому, как описаны отношения Анны с кружком и частичное приятие ею поведенческого кода «некоторой утонченной восторженности», выступает ремарка об Удашеве (в этой редакции образ персонажа уже вполне близок к Вронскому ОТ): тот «в маленький кружок графини А. <…> не был допущен, да и не желал этого»[97 - ЧРВ. С. 196 (Р25).]. Ясно, что даже если бы он этого пожелал, некий запрет было бы трудно обойти. Именно эта деталь, на мой взгляд, интригующа. В самом деле, почему отпрыск вполне знатного рода, к тому же официально состоящий – по званию флигель-адъютанта – в свите императора[98 - О Вронском как флигель-адъютанте подробнее говорится на с. 100–103.], не мог быть принят в кружке, «близком ко двору»? Только ли по причине его участия в холостяцких увеселениях гвардейцев – зачастую попиравших начатки пристойности, пагубных для здоровья, но вполне традиционных в ту пору (и позднее)? И не подразумевается ли обзором «подразделений» света, что не менее значимы различия внутри самой институции двора? Иными словами – к какому именно двору или сегменту большого двора был близок кружок, которому Каренин обязан своей карьерой, а Анна – умением поддержать тон элегантного святошества? Еще немного авантекста, и мы вплотную обратимся к этим вопросам.
Описанию внешности и личности, а также прямой речи Мари Карениной нашлось в генезисе романа несколько иное применение. Подвергшись – уже в виде копии, снятой с автографа, – правке, соответствующий блок текста был сочленен с созданной тогда же отправной редакцией более раннего места – глав о возвращении Анны домой[99 - Р18: 33 об.–35.], в которых читателю дается первая возможность бросить взгляд не только на семью, но и на всегдашнее светское окружение главной героини (1:31–33). Правка, не вторгаясь пока в ткань изображения второстепенного, но самобытного персонажа, заменила сестру Каренина знакомою нам по смежной рукописи графиней – наставницей кружка, здесь именуемой, в той же тургеневской манере, криптонимом N. Беседа происходит теперь не между Карениным и его сестрой, а между Анной и приехавшей к ней, выкроив часок посреди разных деловых визитов и заседаний, гостьей. Одно из дополнений, вызванных необходимостью по-новому задать в фабуле отношение этой «души в турнюре» (теперь не родственницы, а попечительной приятельницы) к Анне, подчеркнуло важность, которую пресловутый кружок приписывает делению на своих и чужих: «Алексей Александрович был один из верных ее сотрудников, и Анну графиня N. причисляла к своим, хотя и замечала в ней холодность и равнодушие к ее [то есть графини. – М. Д.] интересам. Но Анну она просто любила, и Анна ценила это и была благодарна»[100 - Р18: 34 об. (верхний слой; курсив – добавленная мною эмфаза).].
И вот, наконец, в созданной вскоре, тою же весной 1874 года, новой редакции первой в романе сцены на тему великосветской религиозности возникает финальная персонификация букета «утонченной восторженности», самозваной праведности и панславизма – «знаменитая» графиня Лидия Ивановна[101 - Р18: 33 об.–35 (верхний слой); Р28: 1–2 (верхний слой).]. Это прямое развитие образа графини N./A.[102 - В генезисе романа графиня N./A. оказалась скоропреходящим промежуточным вариантом: правка в рукописи, введшая первое упоминание Лидии Ивановны, отразилась уже в датируемой концом марта – апрелем 1874 года корректуре последней из набранных тогда глав Части 1 (соответствующей главе 31 ОТ). См.: К119: 33.] Замена единственного инициала на полные, к титулу в придачу, имя и отчество оставляет недосказанной ведомую, как подразумевается, всем и каждому (не исключая читателя) фамилию героини, привнося в образ грибоедовскую нотку: «княгиня Марья Алексевна». В созвучии с этим в портрет персонажа добавляется и водевильная холерическая хлопотливость. И в исходном автографе, и в ОТ (107/1:31) первое – в реплике Каренина жене – упоминание о графине Лидии Ивановне таково: «Наш милый самовар будет в восторге»[103 - Исходный автограф: Р18: 33 об. (верхний слой).]. В черновике комизм почти утрируется: «Пыхтя, вошла с мягкими глазами кубышка»[104 - Р28: 1 (верхний слой).]. Пыхтение, одышка как сугубо телесный коррелят экзальтированности пребудут до поры до времени в резерве авантекста и станут маркером персонажа ближе к концу романа. А при первом появлении Лидии Ивановны в ОТ (сериализация – февраль 1875 года) описание ее облика сбавляет акцент на корпулентности и обыгрывает конфликт тленных и возвышенных черт: «высокая полная женщина с нездорово-желтым цветом лица и прекрасными задумчивыми черными глазами» (108/1:32).
Ни в черновой, ни в окончательной редакции этого первого выхода нарратив ничего не сообщает о семейном положении графини; лишь на исходе 1876 года, готовя к публикации окончание Части 5[105 - См. подробнее параграф 1 гл. 4 наст. изд.], Толстой заполнит эту сюжетную лакуну: у Лидии Ивановны, оказывается, есть муж, но он по (якобы) никому не понятной причине бросил ее на второй месяц после свадьбы, так что супруги давным-давно живут врозь (5:23). И даже в этом месте рассказа мы не узнаем фамилии героини: такое впечатление, что она представляла собой такую же «графиню Лидию Ивановну» еще будучи юной девушкой, готовящейся выйти замуж за безымянного для нас графа[106 - «Графиня Лидия Ивановна очень молодою восторженною девушкой была выдана замуж за богатого, знатного, добродушнейшего и распутнейшего весельчака» (431/5:23). Исходный автограф: «[Лидия Ивановна] очень молодою и привлекательною девушкой была выдана замуж за богатого, знатного, добродушнейшего и распутнейшего весельчака мужа [sic!]. Она была влюблена в него» (Р80: 14).]. И там же мы увидим, что даже формальное письмо героиня подписывает на манер августейшей особы: «Графиня Лидия» (438/5:25).
Как ясно из сравнения описаний, Лидия Ивановна, с ее нажитым явно многолетними усилиями реноме («знаменитая»), видится автору дамою более пожилой[107 - В одном из позднейших черновиков она названа «45
летней старухой» (Р84: 14 об.).], чем ее предшественница в генезисе текста – Мари Каренина, которая не так давно вышла из «лучш[ей] пор[ы] красоты женщины» и еще «недурна собой». Однако напористый темперамент графини не вяжется с сакраментальным сывороточным «отсикнулась», поэтому неудивительно, что правка, вводящая Лидию Ивановну, сразу же удаляет и восходящую к Мари характеристику персонажа с этим словцом[108 - Р28: 1 (здесь написание «отсякнулась», как было прочитано С. А. Толстой при перебеливании исходного автографа и вскоре затем скопировано Д. И. Троицким уже с ее копии, где автор не восстановил оригинального написания [Р18: 34]).]. (Позднейшие случаи использования в черновиках аналогии, описываемой этим глаголом, относятся только к Каренину; Лидия же Ивановна окажется способной на изломанное, а все-таки любовное чувство – именно к Каренину; и не изломанным ли, в сущности, представлено в книге любовное чувство самой Анны?) В целом, как мы еще увидим, видоизменив психофизический габитус персонажа – «самовар» вместо «души в турнюре», – Толстой подновил и адресацию аллюзий, заключенных в образе.
В части общественно значимых воззрений и собственно деятельности графиня Лидия Ивановна наследует Мари Карениной. «А в самом деле, смешно: ее цель добродетель, она христианка, а она всё сердится, и всё у нее враги, и всё враги по христианству и добродетели», – думает о ней Анна, удачно резюмируя пространный пассаж нарратива из черновика, цитированный выше. Среди забот Лидии Ивановны примечательно уже упоминавшееся бегло «дело сестричек» – «филантропическое, религиозно-патриотическое учреждение» (108/1:32)[109 - Исходный автограф определяет это опекаемое Мари Карениной учреждение как «филантропически-религиозное» (Р3: 4 об.); прилагательное «патриотическое», которое отсылает к программе тогда же прорисовываемого в смежной рукописи придворного кружка («Православие, патриотизм и славянство»), было добавлено в составе правки, вводящей графиню N. (Р18: 35).]. В связи с ним упомянут «известный панславист за границей» Правдин, а чуть дальше – «Славянский комитет», на заседание которого в тот же день должна поспеть графиня. Славянские благотворительные комитеты в Москве и Петербурге в те самые годы находили все больше поддержки и в бюрократии, и среди придворной знати, и в самом правящем доме. Нам вполне можно удовольствоваться предположением, что под «делом сестричек» имеется в виду проект, к примеру, основания женского монастыря или мирского православного братства[110 - Женщины – члены православных мирских братств, которые начали учреждаться в Западном крае империи после подавления Январского восстания 1863 года, именовались сестрицами. Здесь может прочитываться и прямая аллюзия на А. Д. Блудову (см. подробнее ниже в наст. гл.), которая была учредительницей Кирилло-Мефодиевского братства на Волыни (хотя занималась не только сестрицами, но и братчиками). Слово «сестричка» в таком случае могло бы быть уменьшительным и от «сестра» (монахиня), и «сестрица» (братчица).] за границей, в продолжение русификаторской кампании в Западном крае империи, или сбора пожертвований на помещение в учебные заведения империи дочерей и сестер пророссийских деятелей из подвластных Австрии или Турции «славянских земель» (также и с миссионерской целью в отношении славян-католиков)[111 - Ср. с тем, как сфера интересов того же придворного кружка, в который метит Толстой, описана в финале тургеневского «Дыма»: «Беседа ведется <…> тихая; касается она предметов духовных и патриотических, „Таинственной капли“ Ф. Н. Глинки, миссий на Востоке, монастырей и братчиков в Белоруссии» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Т. 7. С. 405 [«Дым», гл. XXVIII]). См. примеч. 1 на с. 68.]. Можно допустить и инициативу основания некоего особого филиала общества Красного Креста (официально – Общество попечения о раненых и больных воинах), которое находилось под патронажем самой императрицы. Однако в другом ракурсе угадывается аллюзия иронического свойства, которую кивок на панславизм помогал сделать более изощренной, подманив тогдашнего «среднего» читателя к простой отгадке. Сказать больше о возможном здесь втором дне будет уместно вскоре, в параграфе об историко-биографическом прочтении темы придворного кружка.
Превращению Мари Карениной в графиню Лидию Ивановну сопутствовала корректировка описания этой среды большого света. Вместе с графиней делает мимолетный дебют еще один персонаж, заведомо эпизодический, в ОТ не перешедший, но помогающий нам «уличить» Толстого в его интересе к определенной культурной семантике, которая питала мотив наигранной – как он понимал это – религиозности: «После графини Лидии Ивановны приехала кузина Алексея Александровича, старая девушка, унылая и скучная, но торжественная, потому что она знала Жуковского и Мойера»[112 - Р28: 2 (верхний слой; опубл. без различения нижнего и верхнего слоя: ЧРВ. С. 193; написание Толстого: «Моieра»). В дальнейшем генезисе связка эпитетов, описывающих кузину Каренина, досталась Лидии Ивановне, но без артикуляции эмблематических имен. Ср. вариант из текста журнальной публикации, где княгиня Бетси, устраивая встречу Анны с Вронским у себя дома (127/2:4), отправляет Анне записку: «Приезжайте, пожалуйста, ко мне вечером после оперы <…> я привезу кое-кого из театра, и мы постараемся провести вечер не так торжественно, зато не совсем так скучно, как у графини Лидии Ивановны» (РВ. 1875. № 2. С. 792–793). При переработке журнальной публикации в книжную этот момент был удален.]. Иными словами, с удалением Мари Карениной из состава действующих лиц амплуа остающейся в девичестве родственницы мужа, которому предначертано стать рогоносцем (вензельное сочетание двух провалов в миссии продолжения рода), не исчезает сразу из творимого текста.
К Жуковскому – в одном ряду с Хомяковым – отсылает, вспомним, уже самая ранняя версия многочленной характеристики «высшего петербургского направления», олицетворяемого влиятельными дамами. Имя же дерптского врача, лютеранина Иоганна Христиана Мойера добавочно ограняет реминисценцию, ибо этот человек в глазах современников и почитателей Жуковского был принадлежностью эстетизированной биографии поэта. Не имея надежды жениться на своей возлюбленной Марии Протасовой, Жуковский в 1816 года благословил ее брак с Мойером. В исследовании И. Виницкого раскрыт символический смысл этого жеста самоотречения: он подтверждал идеалистическое устремление Жуковского и сестер Протасовых, Марии и Александры, к тому, чтобы составить союз «прекрасных душ» по образцу «Новой Элоизы» Руссо – союз, который должен был претворить любовную страсть в вечную нежную, братскую дружбу. Мойер и стал вторым духовным братом этой утопической семьи[113 - Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History of Russia. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2015. P. 148–152, 164.]. После безвременной смерти Марии в 1823 году он оставался вдовцом, продолжал начатую им с женой благотворительную деятельность, сохранил связи с родными Марии, купил принадлежавшее когда-то ее матери орловское имение и именно там, а не в Дерпте, окончил в 1858 году свою жизнь, перед смертью приняв православие. Отношения Мойера с Жуковским были пожизненной дружбой двух мужчин, посвященной памяти женщины, которую любили они оба.
Культ Марии Протасовой, как убедительно показано Виницким, нашел свою пару в другой сфере жизни Жуковского – придворно-служебной. Он был педагогом и юной великой княгини Александры Федоровны (урожденной Шарлотты, принцессы Прусской), жены будущего Николая I, и – спустя десятилетие – их сына, будущего Александра II. Религиозно – но не моноконфессионально – мотивированный романтизм Жуковского оставил заметный след в эмоциональной культуре династии Романовых и близких ей аристократических кланов. Его поэзия в части, воспевающей великую княгиню Александру, привила при петербургском дворе заимствованный из Пруссии культ августейшей фемининности, служитель которого – будь то поэт или царедворец, мужчина или женщина – мыслился одной из заведомо немногих избранных душ, способных на подлинно высокое обожание непорочной красоты, воплощения небесного идеала[114 - Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History of Russia. P. 179–236.]. При Николае I этот извод сентиментализма или, как сказал бы Толстой, «восторженный тон» начал сближаться с апологией православия как русской веры. К 1870?м годам фигура Жуковского, умершего за два десятилетия перед тем, превратилась для семьи Александра II и ее придворного окружения в символ верности и благочестия, а как раз на 1873–1874 годы, когда Толстой создавал ранние редакции АК, пришлась первая публикация – в историческом журнале «Русский архив» – писем, которые Жуковский в качестве воспитателя наследника престола писал в конце 1820?х – 1830?х годах императрице Александре Федоровне, своей бывшей ученице[115 - Русский архив. 1873. № 1. Стлб. I–XL; 1874. № 1. Стлб. 9–94.]. Принадлежавший Толстому экземпляр номера «Русского архива» за январь 1874 года сохранил след чтения им этих писем[116 - Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне: Библиографическое описание. Т. 2: Периодические издания на русском языке. М.: Книга, 1978. С. 135 (описание страницы 47?й тетради 1?й «Русского архива» за 1874 г.).]. В этом свете имя Жуковского в авантексте АК как метонимия «утонченной восторженности» (или выхолощенной торжественности) вовсе не кажется, в отличие от кринолина, анахронизмом.
Сам пресловутый кружок, после того как поиск нужного женского персонажа останавливается на графине Лидии Ивановне, характеризуется уже без использования определений «могущественный» и «близкий ко двору». В той же рукописной редакции, где вводится эта героиня, кружок обрисован так: «образованный, любящий и ценящий образование, нравственный, любящий и ценящий нравственность, религиозный, исключительно православно религиозный»[117 - Р28: 7 об. (верхний слой).]. Особо подчеркнутая конфессиональная монолитность как раз и указывала в этой версии на близость к правящему дому и, разумеется, к православной иерархии: в современном высшем обществе, особенно его женской половине, были и такие очажки спиритуальной религиозности, где – в духе далеких 1810?х – преобладал надконфессиональный евангелизм или мистицизм, а вера как таковая не увязывалась с имперским или национальным самосознанием[118 - Женские персонажи АК, экземплифицирующие такого рода религиозность, несколько позднее, в начале 1875 года, оформляются в другой сюжетной линии – Кити Щербацкой. Это мадам Шталь, «пиетистка» (как называет ее – религиоведчески точно – отец Кити), состоящая в «дружеских связях с самыми высшими лицами всех церквей и исповеданий» (219/2:34; 210/2:32), и ее воспитанница Варенька, тип самоотрешенной сестры милосердия. Предтечей обеих в генезисе текста была посвятившая себя благотворительности англичанка мисс Суливан (см.: ЧРВ. С. 226–231 (Р24); два позднейших персонажа появляются в правке копии этого автографа: Р27: 55, 56). Оговорка «исключительно православный» в цитированном черновике смежной серии глав могла быть введена специально для того, чтобы отметить различие между уже воплощавшимися в тексте или только задуманными образчиками, как подразумевается, ложного религиозного воодушевления – придворно-патриотическим и космополитическим.Что касается невымышленной реальности, то, помимо возникшего именно в середине 1870?х годов редстокизма, о референциях к которому в АК ведется речь в гл. 4 наст. изд., в петербургской аристократии еще до того имелись также последователи так называемой Вселенской апостольской церкви, зародившейся еще в 1830?х годах в Англии, или «ирвингисты» (от имени проповедника Э. Ирвинга). Среди них во второй половине 1870?х была особенно активна лично знакомая Толстому по его заграничным встречам начала 1860?х годов княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова (1828–1909), широко известная своей благотворительной деятельностью – и отчасти похожая на некую комбинацию из черт мадам Шталь и Вареньки (см. записи о беседах с Дондуковой-Корсаковой и об ирвингистских чтениях в дневнике А. А. Толстой: РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 2. Д. 43. Л. 99–100, 102, 103 (записи от 15, 22 января, 5 и 15 февраля 1875 г.); см. также: Мазур Т. Р. Дондукова-Корсакова Мария Михайловна // Лев Толстой и его современники: Энциклопедия / Под общ. ред. Н. И. Бурнашевой. Вып. 3. Тула, 2016. С. 178–181; Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями / Сост., подгот. текста, комм. Н. А. Калининой, В. В. Лозбяковой, Т. Г. Никифоровой. М.: Худож. лит., 1990. С. 231–232, 238–239, 241–247).Согласно семейному преданию (см.: Толстой С. Л. Об отражении жизни в «Анне Карениной». Из воспоминаний С. Л. Толстого // Литературное наследство. Т. 37/38. М., 1939. С. 576), прототипами мадам Шталь и Вареньки послужили, соответственно, старшая родственница М. М. Дондуковой-Корсаковой княгиня Елена Александровна Голицына, в 1860 году во Франции помогавшая Толстому и его сестре ухаживать за их смертельно больным братом Николаем, и ее племянница Екатерина Александровна Корсакова, которою Толстой был тогда же мимолетно увлечен. О личности Е. Корсаковой известно совсем немного; из сохранившегося же письма Е. Голицыной Толстому, где та деликатно убеждает адресата в необходимости откровенно объясниться с Корсаковой о своих намерениях, не проступает ни чопорности, ни святошества, свойственных мадам Шталь (ОР ГМТ. Ф. 1. № 144/19–2 (письмо б. д., датируется началом апреля н. ст. 1861 года на основании содержания и в сопоставлении с дневниковой записью Толстого от 6/18 апреля того же года [Юб. Т. 48. С. 34]); см. также: Дробат Л. С. Голицына Елена Александровна // Лев Толстой и его современники. Вып. 3. С. 141 [утверждение автора, что письма Голицыной Толстому не сохранились, ошибочно]).]. Как подобает члену «исключительно православно религиозного» кружка, Каренин этой редакции читает перед сном исследование о «значении папизма в Западной Европе как элемента разложения церкви»[119 - Р28: 4. Как и во многих других случаях, ОТ здесь менее прямолинеен: Каренин – религиозный, но считающий нужным следить за новинками вполне мирской поэзии – читает Duc de Lille, «Poеsie des enfers» (111/1:33).].
И вот как эта котерия описывается в ОТ:
Центром этого кружка была графиня Лидия Ивановна. Это был кружок старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых мужчин. Один из умных людей, принадлежащих к этому кружку, называл его «совестью петербургского общества» (125/2:4).
Из обрамляющих этот пассаж упоминаний о том, что Каренин «сделал свою карьеру» через этот кружок и «очень дорожил» им, и из переданного синтаксисом первенства женщин, не говоря уже о последующей эволюции образа Лидии Ивановны, можно легко догадаться, что «высшие женские связи, самые могущественные», по-прежнему, как и в ранних редакциях, пребывают здесь. Словом, из сравнения ОТ с авантекстом выявляется красноречивое умолчание: затушеванные атрибуты изображаемой среды и есть ее «вывеска». Констатация их в печатном тексте была бы не просто слишком прямолинейной, но и, возможно, политически неблагоразумной.
2. Графиня Толстая из Зимнего дворца
Мы, наконец, вплотную подступаем к оставившему след в истории «внешне скромному» кружку при дворе императрицы Марии Александровны – плеяде религиозных дам, с которой, по моему мнению, нити аллюзии и пародии связывают трактовку в АК благочестия и духовности как подмены призвания женщины. К слову, именно в упомянутом выше «Дыме» Тургенева отыскивается одна из первых литературных репрезентаций кружка. Это откровенно саркастическая зарисовка салона безымянной старой гранд-дамы – «храм[а], посвященн[ого] высшему приличию, любвеобильной добродетели, словом: неземному», где беседы касаются только «предметов духовных и патриотических» («миссий на Востоке, монастырей и братчиков в Белоруссии») и где даже обтянутые чулками «громадные <…> икры» лакеев «безмолвно вздрагивают при каждом шаге» не иначе как почтительно, усиливая «общее впечатление благолепия, благонамеренности, благоговения». (Как не вспомнить Каренина, косящегося – таков же был ракурс взгляда Толстого на тургеневскую повесть – на «икры камергера» не когда-нибудь, а за минуту до встречи во дворце с опекающей его графиней Лидией Ивановной [435/5:24].) В хозяйке угадывается гофмейстерина императрицы графиня Н. Д. Протасова, а августейшую причастность к собранию метонимически выдает та деталь, что все говорят «чуть слышно <…> так, как будто в комнате находится трудный, почти умирающий больной <…>»[120 - Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Т. 7. С. 405–406. См. также: Кийко Е. И. Комментарии. Там же. С. 556–557. Тот же кружок очерчен всего несколькими штрихами, но с ясно читающимся намеком на влияние императрицы в одной из повестей А. Н. Апухтина, действие которой происходит в начале 1870?х: Апухтин А. Н. Архив графини Д**. Повесть в письмах // Он же. Сочинения: Стихотворения; Проза. М.: Худож. лит., 1985. С. 401–441, см. в особ. 437.]. Неписаный этикет предполагал крайне сдержанную манеру речи в присутствии Марии Александровны, голос которой был вынужденно тихим из?за хронической респираторной болезни.
То была среда, отнюдь не тождественная официальному большому двору. И мотив «высших женских связей» в ранних редакциях АК являлся не вариацией на банальную тему всепроникающего женского влияния, а способом взять на прицел взаимоотношения, стили поведения, характеры в мирке, Толстому лично неплохо знакомом.
Чтобы сразу высветить точки схождения между художественным вымыслом, биографией писателя и событиями эпохи, позволю себе привести два свидетельства «из будущего» – принимая пору начала работы над АК за настоящее. В начале марта 1882 года, спустя год после убийства Александра II и почти два года – после смерти императрицы, Толстой пишет весьма сердитое послание своей двоюродной тетушке и давней корреспондентке графине Александре Андреевне Толстой, фрейлине с тридцатипятилетним стажем, в своем роде профессиональной придворной. И до, и после этого между ними случались размолвки на почве споров о религии вообще и православной церкви в частности, но именно тогда, в период напряженных духовных исканий Толстого, наружу вырвалось глубинное несогласие. Он призывал и доказывал в своей напористо-обличительной манере:
Вообще не говорите о Христе, чтобы избежать того ridicule, который так распространен между придворными дамами – богословствовать и умиляться Христом и проповедовать, и обращать. Разве не комично то, что придворная дама – вы, Блудова, Тютчевы чувствуют себя призванными проповедовать православие. Я понимаю, что всякая женщина может желать спасения; но тогда, если она православная, то первое, что она делает, удаляется от двора – света, ходит к заутреням, постится и спасается, как умеет[121 - ЛНТ–ААТ. С. 404.].
Письмо не было отправлено, Толстой смягчился и даже раскаивался в своей резкости, но не все сказанное в сердцах было гротеском. Хлесткое «вы, Блудова, [сестры] Тютчевы» звучит как устоявшаяся для него персонификация определенного феномена или тенденции.
Сместившись вспять на несколько лет, сопоставим эту филиппику с громами толстовского негодования против панславистского общественного энтузиазма, который пришелся на последнюю фазу работы над АК в конце 1876 – первой половине 1877 года и, как хорошо известно, вплелся в саму ткань романа. Один из стимулов к этому православно-патриотическому ажиотажу Толстой усматривал в моде на «сочувствие братьям славянам» в имперской элите, определяя саму природу названного умонастроения как в значительной мере женскую. В ноябре 1876 года, вскоре после речи Александра II в Кремле, где впервые было открыто заявлено сочувствие монарха славянским повстанцам, Толстой писал А. А. Фету: «[М]не страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тех условий, при кот[орых] совершается история, как дама, какая-нибудь Аксакова с своим мизерным тщеславием и фальшивым сочувствием к чему-то неопределенному, оказывается нужным винтиком во всей машине»[122 - Юб. Т. 62. С. 288–289.]. Аксакова – это одна из все тех же сестер Тютчевых, дочерей поэта, Анна Федоровна, жена и соратница славянофила и панслависта И. С. Аксакова, пылкого пропагандиста вмешательства России в балканские события. И еще через полгода с небольшим, дорабатывая в корректурах диалоги последней части романа, куда он постарался вместить всю полноту своего отторжения от войны, оправдываемой заветами христианской веры, Толстой был близок к тому, чтобы дать одну из ключевых полемических фраз в следующей версии: «Но кто же объявил войну туркам? Иван Иваныч Рагозов и три дамы[?]»[123 - К127: 5. Чуть позднее, в той же корректуре, фразе была дана редакция, которая читается в ОТ (674/8:15). Подробнее об отповеди панславизму в АК, включая и содержащуюся в процитированном варианте аллюзию, см. гл. 4 наст. изд.] Не витает ли здесь та же триада имен?[124 - Ср. замечание о панславистском подъеме 1876 года в известных мемуарах младшей современницы и также придворной дамы Е. А. Нарышкиной: «Славянофильские круги были неутомимы в своей деятельности и даже пытались повлиять на Императрицу с помощью придворных дам. Графиня Антонина Дмитриевна Блудова, графиня Александра Андреевна Толстая и Екатерина Федоровна Тютчева изо всех сил старались оказать влияние на престолонаследника [будущего Александра III. – М. Д.] и нашли у него сочувствие» (Нарышкина Е. А. Мои воспоминания. Под властью трех царей. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 268).]
Итак: сестры Анна, Дарья и Екатерина Тютчевы, графиня Антонина Дмитриевна Блудова, графиня А. А. Толстая (и не только они). Олицетворяемые этими женщинами политические и идейные убеждения, а равно и эмоциональная культура уходили корнями в эпоху Крымской войны, поражение в которой подтолкнуло не только проведение реформ, но и вызревание русского национализма в его религиозном изводе. Известный дневник Анны Тютчевой ясно свидетельствует о том, как при дворе молодой императрицы уже во второй половине 1850?х годов укреплялись панславистские настроения – предполагавшие особую неприязнь к «вероломной» Австрии – и пестовалась идея об антагонизме интересов России и европейских держав[125 - Тютчева А. Ф. Воспоминания: При дворе двух императоров. Дневник / Пер. с фр., вступл. Л. В. Гладковой. М.: Захаров, 2016. C. 310, 323. О заявлении самой императрицей панславистской позиции в ее письмах мужу, Александру II, в середине 1870?х годов см. мою статью: Dolbilov M. A Courtier’s Services near the Battlefield: Count Alexander Adlerberg as Empress Maria Aleksandrovna’s Epistolary Confidant amid the Russo-Turkish War of 1877–1878 // History – Higher School of Economics. 2022. № 1. P. 108–111.]. Когда Толстой приступил к работе над АК, старшая Тютчева семь лет как уволилась с фрейлинской службы, выйдя за Аксакова, благодаря чему, не теряя придворных контактов, обрела некоторую свободу в высказывании взглядов, несогласных с правительственной политикой. Ее сестра Дарья, принятая во фрейлины несколько позже Анны, продолжала эту службу и оставалась столь же глубоко предана императрице, сколь посвящена в будни олимпа; свою роль в союзе сестер играла и книжница Екатерина, жившая, как и Анна, в Москве и связывавшая придворную компанию утонченным интеллектуальным ферментом патриотической религиозности. Блудова, непревзойденная наладчица сетей общения и влияния[126 - Как явствует из ее писем единомышленнику – настоятелю православной церкви при посольстве России в Вене протоиерею Михаилу Раевскому, у Блудовой уже в 1850?е годы была сеть знакомств среди пророссийски настроенных славянских деятелей на Балканах, прежде всего в Сербии, и уже тогда она старалась вовлечь в «славянское дело» разных членов дома Романовых: Зарубежные славяне и Россия: Документы архива М. Ф. Раевского. 40–80 годы XIX века / Сост. В. Матула, И. В. Чуркина. М.: Наука, 1975. С. 47–59.], с начала 1860?х годов прочно занимала позицию политической придворной дамы при императрице; Толстая с 1866 года подвизалась в должности наставницы и куратора обучения единственной дочери императорской четы – великой княжны Марии Александровны (сменив в этом качестве как раз А. Тютчеву). Все эти дамы состояли в оживленной, ведшейся почти исключительно на французском переписке между собой, а некоторые из них – с императрицей[127 - В особенности интересна – и как эпистолярный памятник, и как исторический источник – многолетняя трехсторонняя переписка сестер Тютчевых, почти целиком остающаяся неопубликованной. См., напр., письма Дарьи Тютчевой Анне и Екатерине, проливающие свет на то, как в высшем обществе инспирировалось панславистское движение в 1876 году: Мемориальный архив Музея «Усадьба Мураново». Ф. 1. Оп. 1. Д. 583. Л. 54–54 об., 56–57, 66–67 об. (письма Анне от 23 июня, 4 июля и 11 августа 1876 г.); Д. 621. Л. 41–44 об. (письма Екатерине от 28 и 31 мая 1876 г.). Некоторые из тогдашних писем А. Д. Блудовой и Тютчевых цитируются далее в гл. 4 наст. изд. См. также опыт публикации более раннего фрагмента переписки: Переписка дочерей Ф. И. Тютчева / Предисл., примеч. Л. В. Гладковой, И. А. Королевой. Пер. с франц. Л. В. Гладковой // Российская словесность. 1996. № 1. С. 87–95.].
С. Д. Шереметев, один из очень немногих мемуаристов, кто попытался целостно описать структуру высшего общества 1860–1870?х годов в плане межличностных отношений, характеризовал приближенных к императрице женщин как «небольшой интимный кружок» с устойчивыми политическими воззрениями:
Совершенно особый тип представляли из себя фрейлины имп. Марии Александровны <…> Отличительная черта этих новых фрейлин – прикосновенность к политическим течениям.
Первая «персона женская» <…> при новой императрице была фрейлина Анна Феодоровна Тютчева. <…> Она играла роль, изрекала, критиковала, направляла и всего больше надоедала всем и каждому. <…>
[Позднее графиня А. Д. Блудова] втянулась в роль и заняла до некоторой степени боевой пост и стала хозяйкою славянофильского подворья в Петербурге. Все свои стремления, всю деятельность <…> она перенесла с собою в Зимний дворец. <…> Она сделалась средоточием известного кружка, проводником и пособником для многих. <…> Она могла доходить до некоторой необузданности и до большого самообольщения, почитая себя орудием Провидения для указания истинного пути. <…> Ее сопровождал целый сонм прихвостней, всякого народу – пройдох, плутов, искателей приключений, честолюбцев и ханжей, которые все направлялись к ней, как в Мекку <…> ловко промышляя громкими словами о самодержавии, православии, о народности и о славянах <…>[128 - Шереметев С. Д. Мемуары графа С. Д. Шереметева. Т. 1. / Сост., подгот. текста и примеч. Л. И. Шохина. Изд. 2-е, испр. М.: Индрик, 2004. C. 66–67, 116, 118, 119.].
Касаясь вторжения личных привязанностей в сферу политики, мемуарист отмечает, что стилем поведения некоторых из наперсниц Марии Александровны был «оттен[ок] пренебрежительности к личности государя <…> с сильным подчеркиванием всепоглощающего значения императрицы». Александр II – утверждение Шереметева согласуется с данными других источников – не оставался в долгу: «Все, что окружало имп. Марию Александровну, за исключением <…> дам неполитических, было ему ненавистно»[129 - Там же. С. 235, 120.]. Выразительная деталь: вечера у императрицы, на которые во время нередких отъездов императора на охоту приглашалась, кроме фрейлин, горстка избранных мужчин – таких, например, как П. А. Вяземский и Ф. И. Тютчев – звались морганатическими[130 - Там же. С. 119; Тютчева А. Ф. Воспоминания: При дворе двух императоров. Дневник. С. 443.]. Хотя и шуточное, словцо, вероятно, могло звучать и серьезнее, намекая на взаимную чуждость большого двора и «интимного кружка».
Толстой имел опыт непосредственной коммуникации с этой придворной субкультурой с середины 1850?х годов – времени, когда состав кружка императрицы уже вполне определился, пусть даже некоторые из ключевых назначений на фрейлинскую службу еще не состоялись. В свои тогдашние приезды в Петербург через Александру Толстую (о ком мы вот-вот поговорим подробнее) он познакомился и с Анной Тютчевой, и с Блудовыми – Антониной и ее младшей сестрой, Лидией Шевич, как и с их отцом, сановником Д. Н. Блудовым. С сестрами Тютчевыми Толстой виделся также в Москве и временами, особенно в 1858 году, даже обдумывал перспективу женитьбы на Екатерине. Придя в конце концов к отрицательному заключению, он выразил его в резкой эпистолярной ремарке: «К. Тютчева была бы хорошая, ежели бы не скверная пыль и какая-то сухость и неаппетитность в уме и чувстве <…>»[131 - ЛНТ–ААТ. С. 141–142 (письмо Толстого от конца марта 1859 г.).]. Метафоры, включая гастрономическую, явно близки тем, при помощи которых автор АК, используя свой тогдашний идиолект («отсекнулась»), будет стараться передать черты ложной духовности и умствующей праведности в женском персонаже ранних редакций – еще не старой, но уже отцветшей сестре Каренина, «душе в кринолине», чьим первоначальным именем едва ли случайно были варианты Катерина, Кити. Это при том, что Толстой остался по-своему расположен к Екатерине Федоровне, ценил ее ум именно за – в его понимании – сухость, и в марте 1874 года, о чем пойдет речь в следующей главе, она была в числе немногих слушателей авторского чтения первой части АК в дожурнальной редакции (впрочем, родственной героини, вообще на той стадии генезиса еще фигурировавшей в романе, в представленном фрагменте не было).
Петербургский салон Блудовых Толстой посещал в 1856 году, причем после одного из визитов он оставил запись в дневнике о замужней младшей сестре Антонины, Лидии Шевич: «У Блудовых Л[идия] конфузила меня своим выражением привязанности»[132 - Юб. Т. 47. С. 68, 69–70, 72, 104 (записи в дневнике от 20, 23 апреля, 8 мая, 15 мая и 5 декабря 1856 г.), цитата – с. 72.]. Дальнейшие же встречи были редкими, и, насколько можно судить по сохранившейся корреспонденции, переписка не велась. Любопытно, однако, что много позднее, в 1878 году, то есть уже после выхода АК, где разделяемые ею политические убеждения были подвергнуты резкой критике, Антонина Блудова, планируя провести в Туле проездом один день, послала Толстому письмецо. Она спрашивала, не пожелает ли он повидаться с нею и Лидией, ибо «так давно Вас не видали», и сообщала – явно рассчитывая на сочувствие со стороны адресата, – что они вдвоем направляются в Севастополь, «собственно чтобы ему поклониться»[133 - ОР ГМТ. Ф. 1. № 137/52-1. Л. 1–1 об. (письмо от 13 мая 1878 г.).]. Толстой чтил память обороны Севастополя, но едва ли она значила для него то же, что для Блудовой, которая ехала на поклон патриотической святыне вскоре после долгожданного реванша – победы в войне с Турцией «за славян». Изрядная примесь комического в светской репутации Блудовой, чьи письма дают представление о ее экзальтированной говорливости, сближает ее с толстовской графиней Лидией Ивановной не меньше, чем благотворительные предприятия и поглощенность славянским вопросом.
Но из всех обсуждаемых здесь фигур наибольший интерес для понимания исторического контекста АК представляет, безусловно, А. А. Толстая – Alexandrine, как адресовался обычно к ней Толстой (для нее – Lеon). В «бомондных» главах романа есть немало того, чем автор был обязан своей родственнице в ее качестве и источника информации, и объекта его наблюдения и размышлений. К моменту начала работы над АК 44-летний Толстой и его 55-летняя тетушка – эта разница в возрасте делала ее скорее кузиной – были знакомы около восемнадцати лет. Романтическую фазу их дружба миновала в 1857 году, когда они оба оказались в Швейцарии – он сам по себе, в первом «настоящем» заграничном путешествии, она – сопровождая вместе с сестрой, также фрейлиной, их тогдашнюю патронессу великую княгиню Марию Николаевну (сестру незадолго до того воцарившегося Александра II) и ее дочерей от первого брака – княжон Марию и Евгению Романовских, титуловавшихся также герцогинями Лейхтенбергскими. (Их братья, Николай и Евгений Лейхтенбергские, еще промелькнут на этих страницах.) В завязавшихся отношениях было и взаимное влечение пытливых, ироничных, рефлексирующих умов, и восхищение благодарной читательницы крепнущим на ее глазах писательским талантом, и покровительство великосветской тетушки диковатому племяннику, и, пожалуй, – в особенности с ее стороны – проблески влюбленности, одновременно маскируемой и оттеняемой игривыми обращениями «бабушка» и «внук».
За этим последовали встречи в Петербурге в недолгие наезды Толстого в 1858, 1859 и 1861 годах. В Мариинском дворце – и в его парадных покоях, и на фрейлинском «верху», куда вела лестница почти в девяносто ступеней, – он виделся с разными колоритными образчиками придворной аристократии. Тогдашняя переписка Толстого и его руководительницы в приобщении к новой среде питалась, в числе прочего, и светскими новостями. Для всего относящегося ко двору в их условном шифре имелось произносимое так, как если бы это была французская фамилия, слово «Труба», а та же великая княгиня Мария Николаевна именовалась «la ober-ramoneuse» (обер-трубочисткой) или «нашей милой Великой Обер-Труб[ой]»[134 - ЛНТ–ААТ. С. 120, 165 (письма А. А. Толстой от 4 июня 1858 г. и 10–16 мая 1859 г.).] (что, разумеется, отнюдь не ставит под сомнение горячую преданность Александры Андреевны правящему дому вообще и «своей» великой княгине в частности). Производным словом Толстой называл и саму атмосферу двора, посетовав однажды в дневнике: «[Т]рубной запах, к стыду моему, мне нравится»[135 - Юб. Т. 47. С. 144 (запись в дневнике от 15 июля 1857 г.).].
После мимолетного – по пути домой из?за границы – проезда Толстого через Петербург весной 1861 года личное общение прервалось надолго – до 1878 года. В эту лакуну вместились его женитьба, рождение девяти детей и смерть трех из них, написание и издание двух романов; разные перипетии придворной жизни Александры Андреевны, безвременная смерть ее сестры. Переписка между ними все эти годы была содержательной, но не очень регулярной, замирая порой на многие месяцы, как было в 1875 году – именно тогда, когда началась сериализация АК (о работе над которой, впрочем, Толстая уже узнала ранее от самого автора).
В литературе у А. А. Толстой прочное реноме друга и родственной души Льва Николаевича. При всех трениях и диссонансах теплота, а иногда и взаимная нежность их переписки – по крайней мере до начала 1880?х – неподдельны, как несомненна и живейшая благодарность Толстого за содействие влиятельной родственницы в решении многих занимавших его проблем, житейских и общественных. В числе их были и хлопоты об узаконении (как полагалось, высочайшим повелением) внебрачных детей его брата Сергея, и жалоба на местную жандармерию за обыск в Ясной Поляне, и поиски гувернанток и гувернеров для детей, и организация сбора средств для спасения голодающих в Самарской губернии летом 1873 года. Тем не менее возьмусь утверждать, что Александра Андреевна непроизвольно обогатила собою тот резервуар характеристик, обстоятельств, положений, к которому автор АК прибегал для аллюзивного живописания неприятной ему элитистской религиозности. (То, что он ее же подчас развлекал насмешками над дамами, которых считал святошами, не опровергает этого тезиса – не он ли был виртуозом литературного двоения следа?) Вообще, сам образ А. А. Толстой, как он существовал в сознании писателя, мог долгое время несколько упрощаться толстоведами по той причине, что многие из тех ее писем, где явлено расхождение корреспондентов в области религии, не вошли в первое, давнее, издание переписки и были опубликованы только в 2011 году.
Еще задолго до религиозных исканий Толстого конца 1870?х (когда между ними при возобновившихся тогда личных встречах вспыхивали особенно страстные споры о вере) ему случалось иронизировать над тем, как Толстая «обращает» его[136 - ЛНТ–ААТ. С. 172 (письмо Толстого от 12 июня 1859 г.). См. также его позднейшие отзывы о Толстой в письмах В. Г. Черткову в 1897 году и брату С. Н. Толстому в 1904-м: Юб. Т. 88. С. 10; Т. 75. С. 80 (также: Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями. С. 498). Убедиться в подчас черствой нравоучительности Александры Андреевны имел случай и приятельствовавший с нею И. А. Гончаров, тем более что перед ним она представала большей частью в официальной ипостаси придворной дамы. См.: Гончаров И. А. [Письма] А. А. Толстой, 1865–1883 / Вступ. ст., публ., коммент. В. К. Лебедева и Л. Н. Морозенко // Литературное наследство. Т. 102: И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. М., 2000. С. 407, 423–425.]. Графиня Александра была глубоко верующей православной, приверженной официальной церкви. Однажды, в письме из Спа, она журила Толстого за похвалы англиканству, добавляя, что ей самой в местном англиканском храме «холодно», а в католическом – «минутами даже неприятно»[137 - ЛНТ–ААТ. С. 177 (письмо от 4/16 июля 1859 г.).]. Были у нее и миссионерские, проповеднические задатки, склонность к религиозному морализаторству; на кое-кого эта интеллектуально утонченная, наделенная острым чувством юмора женщина производила впечатление безнадежной ханжи. Так, в 1869 году юный великий князь Алексей (о ком чуть дальше будет уместно еще раз вспомнить в связи с его бурным романом, начавшимся именно в том году) одобрительно пересказывал в дневнике замечание одной из фрейлин: «…Александра Андреевна несносная и больше похожа на черта или на старого изуита [sic!], чем на женщину»[138 - ГАРФ. Ф. 681. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.]. Дидактизм Толстой, и в самом деле граничивший со святошеством, живо запечатлен в ее позднейших воспоминаниях – она трактует любовную связь Александра II с княжной Е. М. Долгоруковой столь ригористично, что не может скрыть почти физической антипатии, которую когда-то испытывала к малолетним детям императора и его любовницы[139 - Толстая А. А. Записки фрейлины: Печальный эпизод из моей жизни при дворе / Сост. Н. И. Азарова, Л. В. Гладкова, О. А. Голиненко, Б. М. Шумова. М.: Энциклопедия российских деревень, 1996. С. 169–170.].
При всем том, несмотря на упреки «внуку» за невоцерковленность, «бабушка» тяготела к мистико-пиетистскому модусу религиозности, для которого близость верующего к источнику веры – опыт скорее личный, чем церковный. Ее письма Толстому в годы, когда он был агностиком, полны артикуляций – на французском и русском – чувства Божественного присутствия в ее жизни, пронзительного сознания собственной греховности и истового упования на спасение; о каких-либо представителях клира нет и помину. В марте 1859 года она сообщала: