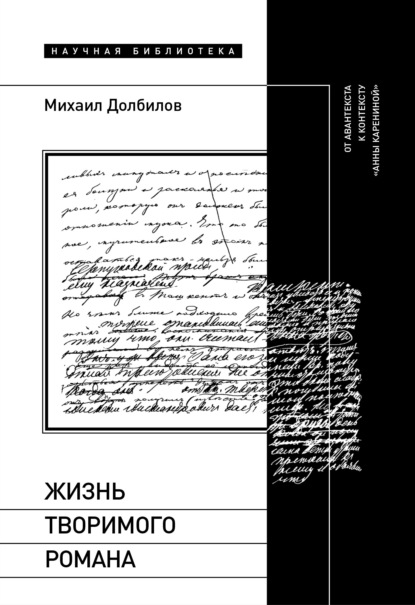По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…Я собираюсь скоро говеть, и мне предстоит слишком много внутренней работы, чтобы отвлекаться жизнью внешней <…> Я недостаточно крепка, чтобы прикасаться к этому безнаказанно. Послушайте – это прекрасно, что вы работаете <…> но было бы очень жаль <…> если бы вы из?за этого пренебрегли говением. Сделайте это из любви к своей мятущейся душе – потом вы будете делать это из любви к Тому, Кто весь – Любовь. Вы постигнете это в день, Им предназначенный для вашего пробуждения.
Через пару недель она возвращается к этой теме, отвечая на письмо Толстого, в котором она усмотрела признаки религиозного «настроения души»:
Дай Бог, чтобы оно сохранилось до конца, и тогда вас не минуют новые прозрения. Как только перестанешь противиться Господу, Он приходит, чтобы утешить и ободрить. Эта душевная процедура (toute cette procеdure de l’?me[140 - «Вся эта работа души» представляется мне переводом более конгениальным русскому языку той эпохи, чем предложенный публикаторами вариант «эта душевная процедура».]) мне хорошо знакома, но как тонко и деликатно надобно обращаться с внутренними голосами. Малейшее невнимание – и вот они замолкли <…>[141 - ЛНТ–ААТ. С. 146 (письмо от 31 марта 1859 г.; ориг. на фр.), 150–151 (письмо от 17 апреля 1859 г., ориг. большей частью на фр.).].
Еще через несколько дней, узнав, что ее корреспондент так и не стал говеть из?за отвращения к обрядности, она с болью упрекает его в гордыне и заключает:
[Т]о, что мы ищем, так различно, уверяю вас, я ничего большего не желаю, как сознания своего ничтожества и своей виновности – и, когда Бог мне его посылает, хотя на одну минуту, и я чувствую себя сокрушенной раскаянием, – я благодарю Его, как за самую великую милость, которую Он может мне даровать. <…> У меня ничего нет, я ничего не могу сделать, но Ты все можешь мне дать! Какая сладость и в то же время свобода в этой зависимости!
Риторика резиньяции (характерно прошитая частым наименованием Бога местоимениями) поднимается до особенно высокой ноты, когда речь заходит об уходе близких людей. В октябре 1860 года, откликаясь на известие Толстого о его страшном горе – недавней смерти любимого брата Николая и сообщая о почти одновременной смерти вдовствующей императрицы Александры Федоровны, Александрин восклицала:
[В]аша потеря ничто иное как вестник Господний, протянутая рука Спасителя, призыв Его милосердия. Неужели и этот случай будет потерян для души вашей? <…> И я Его не знаю и не умею любить, как следует, – но всею душой желаю любить Его, и в этом одном желании есть уж целый светлый мир утешения[142 - ЛНТ–ААТ. С. 153, 156 (письмо от 21 апреля 1859 г., ориг. большей частью на фр.), 185 (письмо от 31 октября 1860 г.).].
Отклики Толстого на эти внушения предвосхищали – с поправкой на эпистолярный этикет – те операции с лексемами «восторг» и «умиление», которые он начиная с первых редакций будет проделывать в АК для того, чтобы определить суть «утонченной» салонной набожности. А отдельные высказывания Александры Андреевны находят, как кажется, различимый отзвук в дискурсе и фразеологии графини Лидии Ивановны в полном развитии этого образа:
Опора наша есть любовь, та любовь, которую Он завещал нам. Бремя Его легко <…> Не вы совершили тот высокий поступок прощения, которым я восхищаюсь и все, но Он, обитая в вашем сердце <…> В Нем одном мы найдем спокойствие, утешение, спасение и любовь (429, 430/5:22).
(Ранним эхом соприкосновения Толстого с рассматриваемой субкультурой двора могло быть создание такого персонажа «Войны и мира», как Анна Павловна Шерер – напоказ сентиментальная, элегантно печальная и при этом политизированная в духе 1860?х годов фрейлина вдовствующей императрицы Марии Федоровны[143 - См. в особенности изображение героини в одной из сцен с ее участием в рукописной редакции романа, где она, «подняв глаза к небу», произносит: «Подумайте, как страдают и переносят свои страдания лица, особенно женщины, и очень высокопоставленные <…> Ежели бы вы, так же как я, могли видеть целую жизнь некоторых женщин или скорее ангелов неба, страдающих, но не ропщущих от несчастия брака <…>» (Литературное наследство. Т. 94: Первая завершенная редакция романа «Война и мир» / Изд. подгот. Э. Е. Зайденшнур. М.: Наука, 1983. С. 390; см. также: Зайденшнур Э. Е. Как создавалась первая редакция романа «Война и мир» // Там же. С. 21–30, 37–38, 62). Рукопись «от Аустерлица до Тильзита», уже нижний слой которой включает в себя этот фрагмент (ОР ГМТ. Ф. 1. «Война и мир». Рукопись 103. Л. 284 об.–285), была предметом оживленной исследовательской полемики. Зайденшнур убедительно датировала первый этап работы над нею концом 1864 года. Это, добавлю от себя, самый канун того периода, когда смерть цесаревича Николая (в 1865 году) и последующий разлад между августейшими супругами наложили глубокий траурный отпечаток на образ императрицы Марии Александровны и принятый в ее окружении стиль общения и поведения. Благодарю Татьяну Георгиевну Никифорову за текстологическую консультацию по названной рукописи.].)
Некоторые обстоятельства общественной (она же служебная, по статусу придворной дамы) деятельности А. А. Толстой звучно перекликаются с сюжетными деталями в АК. В течение многих лет она, наряду с исполнением прямых обязанностей фрейлины, являлась попечительницей исправительных приютов для проституток; заведение именовалось общиной Марии Магдалины, так что Толстая привычно и сочувственно называла своих подопечных «магдалинами». То было чрезвычайно хлопотное занятие, стоившее ей многих душевных мук: так, только после того как первый приют был открыт, попечительница впервые в жизни узнала о существовании малолетних девочек – жертв изнасилования и растления[144 - ЛНТ–ААТ. С. 259 (письмо от 29 января 1865 г.).]. Для этих «маленьких магдалин» в конце концов потребовалось учредить отдельный приют. Она регулярно сообщала Толстому о сопутствовавших ее деятельности неприятностях, в частности столкновениях с ведомством женских учебных заведений, возглавляемым принцем П. Г. Ольденбургским:
[Н]адобно было усильно бороться с глубокомысленными убеждениями принца Ольденбургского или ожидать полного разрушения всех моих планов и отказаться от любимого дела. – Vaincre ou mourir [Победить или умереть. – фр.]. Бог помог – j’ai vaincu [я победила], но потом началась огромная работа, и из?за нее у меня не было и минуты отдыха. Между светом и монастырем, которые разрывали меня пополам, нужно было еще найти время для святого долга сердца <…>[145 - Там же. C. 212, 215 (письмо от 13 февраля 1862 г.). Дядя Александра II принц Петр Георгиевич Ольденбургский вообще был в неприязненных отношениях с «интимным кружком» императрицы Марии. См. об этом: Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 1. С. 115.].
Однако Толстой – о чем можно было бы догадаться и без прямых свидетельств в письмах, зная его отношение к аристократической филантропии, – не расщедривался на моральную поддержку. «Что ваше дело Магдалин?» – небрежно осведомлялся он в 1865 году. «Ваши магдалины очень жалки, я знаю; но жалость к ним, как и ко всем страданиям души, более умственная, сердечная, если хотите; но людей простых, хороших <…> когда они страдают от лишений, жалко всем существом <…>», – писал он летом 1873?го (АК уже была начата), призывая Толстую привлечь внимание знакомых ей высших чиновников к самарскому голоду[146 - ЛНТ–ААТ. С. 257, 307 (письма Толстого от января (между 18?м и 23-м) 1865 г. и от 30 июля 1873 г.).]. Сопоставление процитированных фраз рождает мысль о том, что затронутое нами выше «дело сестричек» Мари Карениной в редакции 1874 года и графини Лидии Ивановны в ОТ намекает, кроме панславизма, на нечто подобное «делу Магдалин» («община», «монастырь»), а батальная риторика рассказов Александры Андреевны об интригах бюрократии против нее прямо отзывается в выспренних ламентациях: «О, как я подрублена нынче» (Мари Каренина)[147 - ЧРВ. С. 207 (Р3). На благотворительность А. А. Толстой как «прототип» (понятие, которое, на мой взгляд, упрощает толстовскую систему разнонаправленных аллюзий) «дела сестричек» указано еще в первой монографии о генезисе романа: Жданов В. А. Творческая история «Анны Карениной»: Материалы и наблюдения. М.: Сов. писатель, 1957. С. 237. Однако ремарка автора, что «[к]ак раз в конце 1874 года Александра Андреевна возобновила свою деятельность» в приюте, едва ли может служить дополнительным аргументом: первый черновик, где упомянуто «дело сестричек», был написан в конце 1873 – начале 1874 года (о той стадии работы над романом см. подробнее гл. 2 наст. изд.).]; «Я начинаю уставать от напрасного ломания копий за правду <…> [С] этими господами ничего невозможно сделать <…> Они ухватились за мысль, изуродовали ее и потом обсуждают так мелко и ничтожно» (Лидия Ивановна [108/1:32]).
Тень Александрин витает и над таким нюансом авантекста АК, как размещение персонажей по разным дачным местам под Петербургом. До середины 1860?х годов, то есть своего назначения ко двору императрицы, корреспондентка Толстого в летние сезоны нередко присылала письма из Сергиевского (Сергиевки) – уединенной усадьбы великой княгини Марии Николаевны и ее покойного мужа герцога Лейхтенбергского в западной части Петергофа[148 - ЛНТ–ААТ. С. 161, 169, 171, 199, 203, 207, 221, 243, 248, 262.]. И случайно ли, что в одной из ранних редакций именно туда, в Сергиевское, «под предлогом приглашения от друзей», переезжает с дачи Каренина в Парголове его щепетильная сестра, чтобы не проводить лето вместе с принимающей Вронского Анной?[149 - ЧРВ. С. 224 (Р21). «Парголово» – чтение публикаторами аббревиатуры «П.» в данном автографе, согласное с автографическим текстом позднейшей редакции (Р30: 1 об.) и журнальной публикации, где фигурирует полное написание топонима. См. примеч. 2 на с. 83–84.] Сергиевское, похоже, имело в памяти Толстого ауру тихой обители для избранных. Именно там Александра Андреевна «в поэтическом домике на берегу моря, утопающем в зелени деревьев», наслаждалась беседами с жившей там благочестивой дамой преклонных лет, в которой видела «восхитительное воплощение практического христианства»[150 - ЛНТ–ААТ. С. 133–134, 171 (письма от 10 сентября 1858 г. и 16–21 мая 1859 г.; ориг. на фр., за исключением слова «старушка»). В ответных письмах Толстой шутливо подхватывает мотив «доброй старушки» в домике у моря.]. К слову, при небольшом дворе Марии Николаевны, старшей дочери Николая I, разительно похожей на него внешне, культ покойного императора – более или менее общий для всей царской семьи – принимал в 1860?х оттенок фрондирования реформам и вольностям нового царствования. Туда-то и пристало бежать сестре Каренина от погрязшей во грехе невестки. Но, припомнив это нечасто звучавшее на публике – в отличие от самого Петергофа – название, Толстой затем не включает его в текст, вероятно как раз из?за слишком приватного характера Сергиевского, его отождествления с одной из ветвей императорской династии[151 - Автор АК, как он признавал сам, неважно помнил географию петербургских загородных дворцов и дачных мест. Уже после отказа от Сергиевского как места «спасения» Мари Карениной от Анны он в опубликованном в 1875 году журнальном тексте Части 2 по-прежнему помещает дачу Каренина в Парголово, видимо предполагая, что оно находится где-то между Петербургом и Красным Селом (на самом деле – к северу от Петербурга, и Мари в процитированной версии действительно удалена от Анны на значительное расстояние, наверное, даже большее, чем нужно было автору). При переработке журнального текста для первого книжного издания Парголово было заменено на Петергоф (Печатные варианты // Юб. Т. 18. С. 499, 500, 503), что сделало частые встречи Анны и Вронского, находящегося в Красном на маневрах, как и его перемещения накануне скачек, географически правдоподобными. А в настоящее Парголово – в высшем обществе совсем не популярное дачное место – Анну должен был бы сослать на лето более ревнивый и властный муж. О петербургских дачных местах и культуре дачного досуга: Малинова-Тзиафета О. Из города на дачу: Социокультурные факторы освоения дачного пространства вокруг Петербурга (1860–1914). СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2013.В письме от марта 1875 года (Юб. Т. 62. С. 159–160) Толстой просил издателя «Русского вестника» М. Н. Каткова проверить в посылаемой рукописи названия петербургских пригородных мест, но Катков или не внял просьбе, или не заметил несуразности, возникающей из сочетания Парголово – Красное. Письмо опубликовано в 1953 году по копии, снятой еще до революции при систематизации архива Каткова. Переписчик утерянного с тех пор подлинника, не разобрав толстовский почерк, оставил пробел вместо названия как раз того места, насчет которого Толстой сомневался особенно. Этот топоним, судя по приведенным выше текстологическим данным, должен прочитываться именно как «Парголово», так что предположительная конъектура во фразе «В присылаемых теперь главах речь идет о [Петергофе?] и местностях под Петербургом <…>», сделанная публикаторами тома 62 с оглядкой на ОТ романа, ошибочна.].
Еще один мотив, что в авантексте романа фигурирует, как описано выше, эксплицитно, а в ОТ – в пласте аллюзий, находит в биографии А. А. Толстой особенно выразительное соответствие. Это преклонение перед В. А. Жуковским как создателем, выражаясь сегодняшним языком, культурного канона. Подобно не попавшей в ОТ кузине Каренина («старая девушка, унылая и скучная, но торжественная»), Александра Андреевна «знала Жуковского и Мойера». Ее мать Прасковья Толстая, в девичестве Барыкова, дружила с племянницей Жуковского, одной из «прекрасных душ» его руссоистской духовной семьи Александрой Воейковой; Жуковский благоволил и самой Прасковье, и ее дочерям[152 - Соловьев Н. В. История одной жизни. А. А. Воейкова – «Светлана». Т. 2. Пг., 1916. С. 84.]. Приятельствовал с Жуковским и тот, кто был платонической любовью Александры Андреевны, – граф В. А. Перовский, видный военный, в молодости близкий будущим декабристам, на вершине своей карьеры служивший оренбургским и самарским генерал-губернатором и умерший в том же году, когда Александрин сдружилась с Толстым в швейцарском путешествии. В переписке Толстой задал ей прямой вопрос о Жуковском («…которого кажется Вы хорошо знали») уже после публикации АК, в конце 1870?х[153 - ЛНТ–ААТ. С. 353 (письмо Толстого от 27 (?) января 1878 г.), 812 (коммент. публ.); 602 (письмо А. А. Толстой – С. А. Толстой от 16 января 1900 г.).], когда, увлеченный замыслом нового исторического романа, остановился было в поисках героя и сюжета на В. А. Перовском и хотел узнать больше и о его личности, и о круге общения[154 - Высказанное в свое время П. С. Поповым предположение, что Перовский послужил прототипом главного героя в набросках незавершенного произведения «Князь Федор Щетинин», недавно оспорено в толстоведении, однако интерес Толстого к фигуре Перовского не подлежит сомнению. Ср.: Юб. Т. 17. С. 689–692 (коммент.); Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т.: Художественные произведения. Т. 9: 1863–1884. М.: Наука, 2014. С. 421–424 (комм. А. В. Гулина).]. Но имеется также письмо, относящееся к ранней поре их корреспонденции, где Жуковский, как видится мне, преподнесен Толстому непоименованным, но в расчете на узнавание. Отвечая весной 1858 года на тронувшее ее поздравление Толстого с Пасхой, сопровождавшееся изъявлением благодарности за ее расположение к нему, Александрин сделала признание:
Положим, что и есть во мне теплота сердца, но что тут удивительного? Я сама была столько балована, любима и согрета в свою жизнь! А если запас калорифера не истощился, это потому, что я не тратила его (как следовало бы) на всех, а берегла f?r Wenige[155 - ЛНТ–ААТ. С. 100 (письмо от 30 марта 1858 г.).].
Фразы на немецком языке в письмах Толстой весьма редки, и это вкрапление едва ли случайно. «F?r Wenige» («Для немногих») – именно так назывался сборник образцов немецкой романтической поэзии и их переводов на русский язык, который в 1818 году Жуковский издавал малым тиражом, адресуя его в первую очередь своей платонически обожаемой августейшей ученице – молодой жене великого князя Николая Павловича Александре Федоровне, урожденной принцессе Прусской Шарлотте, будущей императрице[156 - Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism. P. 179–236.]. Это издание стало компонентом атмосферы куртуазного сентиментализма, подразумевая образ чистой душою, возвышенно одинокой особы монаршей крови, чье счастье и утешение среди толпы льстецов и завистников – истинная дружба со стороны немногих подданных. Привитый позднее к православной религиозности националистического толка, сентиментализм в стиле «f?r Wenige» культивировался и в «интимном кружке» невестки императрицы Александры – Марии, урожденной принцессы Великого герцогства Гессенского и на Рейне, вышедшей замуж за наследника престола цесаревича Александра Николаевича. Жена будущего Александра II близко к сердцу приняла свою новую веру, много лучше предшественниц выучила язык новой родины и стремилась быть, как это понималось ею и ее приверженцами, одной из немногих истинно русских[157 - Уортман Р. Сценарии власти. Т. 2. С. 165–167, 170–171, 249–250.].
Наследие Жуковского играло здесь известную роль. Для Марии Александровны в ее бытность и цесаревной, и императрицей, как и для приближенных к ней религиозных дам, Жуковский (который в 1830?х был педагогом цесаревича, а в 1840-м, уже завершая придворную карьеру, успел преподать начатки русского языка будущей цесаревне) символизировал некое особенно притягательное сочетание добродетелей. Эти поклонницы содействовали и популяризации памяти о поэте. В 1869 году Мария с «большим интересом», как она сама писала об этом, прочитала свежеизданный очерк К. К. Зейдлица о Жуковском и его творчестве – первый опыт биографии поэта[158 - РГИА. Ф. 1614. Оп. 1. Д. 812. Л. 111 (письмо императрицы Марии министру двора А. В. Адлербергу от 30 июня 1869 г.; ориг. на фр.).]. Публикация в «Русском архиве» писем Жуковского императрице Александре Федоровне – привлекшая, как отмечено выше, внимание автора АК – началась в 1873 году по инициативе всё той же Анны Аксаковой, а о цензурном разрешении на печатание первой подборки позаботилась сама Мария[159 - Там же. Д. 197. Л. 1–2 (письмо издателя «Русского архива» П. И. Бартенева А. В. Адлербергу от 6 ноября 1872 г.).]. Как очевидно из присутствия имени поэта-царедворца в варьирующейся саркастической дефиниции светского женского влияния в самых ранних редакциях АК (вспомним дам «высшего петербургского православно-хомяковско-добродетельно-придворно-жуковско-христианского направления»), Толстой, оставаясь чужаком, разбирался в символике, которую фигура Жуковского обрела в придворной субкультуре.
Пожалуй, наибольшее значение для понимания динамики работы над АК, как и подтекста романа, имеют в переписке Толстого и Александры Андреевны те ее письма 1873–1874 годов, где настойчиво сквозит мотив несчастья в правящем доме. Вообще, Толстая была одной из тех придворных дам, чей глубоко личный, эмоциональный монархизм замешивался на своего рода самоотождествлении с горестями и лишениями женщин царской семьи, в особенности императрицы. И в самом деле, Мария Александровна заслуживала сочувствия. В 1865 году 41-летняя болезненная, часто выглядевшая изможденной женщина пережила сокрушительный удар судьбы – смерть любимого сына, наследника престола цесаревича Николая. Через несколько лет ее собственный мучительный недуг бронхов вошел в фазу обострения, и с того времени вплоть до своей смерти в 1880 году венценосная пациентка оставалась заложницей и самой болезни, и длительных курсов лечения, которые плохо совмещались с ее фаталистическим моральным настроем. Наконец, муж, котогого она не переставала любить, с конца 1860?х завел фактически вторую семью с княжной Е. М. Долгоруковой[160 - См. недавнее исследование, помещающее царский роман в широкий политический контекст: Сафронова Ю. Екатерина Юрьевская: Роман в письмах. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2017.], слухи о чем не просто циркулировали широко, но и отразились на восприятии частью подданных самого института монархии, тогда как Мария всегда была не только верной женой, но и, как мы еще увидим, принципиальной охранительницей устоев династии.
Толстая имела богатый опыт наблюдения супружеских неверностей и внебрачных связей в высшем свете, начиная с романа, а затем и морганатического брака своей первой патронессы великой княгини Марии Николаевны. Много лет спустя, в конце 1890?х, она в воспоминаниях изложила собственную версию истории отношений Александра II и Долгоруковой, постаравшись реконструировать в деталях хронологию разрастания династического скандала. Этот назидательный, в викторианском вкусе, не без ханжества, рассказ, местами точно подхватывающий и доводящий до крайности вольный или невольный дидактизм Толстого в АК (как если бы мемуаристка завидовала лаврам племянника, но подражала ему односторонне), возлагает главную ответственность за разврат в доме Романовых на ближайших родственников императора, первыми подавших дурной пример[161 - Толстая А. А. Записки фрейлины. С. 92–94.]. Один из ключевых пассажей напрашивается быть прочитанным как аллегория или иллюстрация к сакраментальному эпиграфу «Мне отмщение, и Аз воздам»:
За свою долгую жизнь при дворе я имела неоднократно возможность наблюдать от начала и до конца незаконные связи <…> Я могу и должна засвидетельствовать, что всякий раз, когда я попадала в подобные обстоятельства и была свидетельницей финала таких связей, я всегда поражалась безжалостной и справедливой воле Провидения. Вдруг на безоблачном небе возникала тяжелая туча и обрушивала странные события, которых никто не мог ни ожидать, ни предвидеть, на головы тех, кто помышлял безнаказанно нарушать Божий Промысел[162 - Толстая А. А. Записки фрейлины. С. 225–226.].
Во фрейлинском кружке императрицы осведомленность об адюльтере императора, подчас порождая ни много ни мало конфликт лояльностей, оборачивалась драматизацией образа Марии Александровны как мученицы. Тема внебрачной связи Александра пребывала табуированной, и упоминать об этом можно было только в келейных разговорах; сама же Мария хранила, по выражению Толстой, «героическое молчание»[163 - Там же. С. 82.] и старалась не выдавать своих чувств оскорбленной жены (свидетельством чему и не прерывавшаяся до последних месяцев ее жизни, ровная по тону переписка между нею и мужем в те – весьма частые в 1870?х – периоды, когда они находились вдали друг от друга[164 - Dolbilov M. A Courtier’s Services near the Battlefield. P. 104–105, 110. Некоторые из писем императрицы мужу от середины 1870?х годов цитируются или упоминаются далее на этих страницах.]). Потому-то изъявление сострадания к императрице держалось столько же на невербальных формах коммуникации, и без того крайне значимых при дворе, сколько на искусстве иносказания и недомолвки.
В 1873 году, когда Толстой приступил к созданию нового романа, тревоги Александры Андреевны были сосредоточены на судьбе дорогой ее сердцу воспитанницы – 20-летней дочери царской четы, великой княжны Марии. Весной того года Толстая в составе небольшой свиты сопровождала обеих августейших Марий, мать и дочь, в путешествии по Италии, где великая княжна должна была ближе познакомиться с искателем ее руки – вторым сыном королевы Виктории принцем Альфредом, герцогом Эдинбургским. В мае Александра Андреевна написала из Сорренто Толстому, который – стоит заметить – к тому времени уже имел пробный эскиз АК с очерченными завязкой, кульминацией и развязкой, но еще далеко не окончил разработку характерологии, фабулы, архитектоники сюжетных линий. Взывающее о сочувствии письмо Толстой являет собою образчик той выспренно-уклончивой манеры, в какой при дворе, а особенно во фрейлинском кружке говорили о разладе в царском семействе; на конкретную причину душевного смятения, переживаемого лично ею, делается в конце концов прозрачный намек:
Мое письмо, дурацки загадочное, вам покажется немного яснее, если я скажу, что речь идет о судьбе моего ребенка (il s’agit du sort de mon enfant). <…> Все это еще усугубляется бесчисленными тревогами, о которых я вам, может быть, расскажу, когда мы встретимся <…> Вы поймете меня гораздо лучше, когда перед вами однажды встанет вопрос о замужестве вашей дочери и вам это покажется не счастьем, а ужасным заговором (cela vous fera l’effet d’une conjuration affreuse au lieu d’un bonheur)[165 - ЛНТ–ААТ. С. 304–305, 306 (письмо от 11/23 мая 1873 г.; ориг. на фр.; перевод заключительных слов пассажа дан в моей редакции). Ответное письмо Толстого, посвященное в основном самарскому голоду, содержит реплику сочувствия корреспондентке в ее волнениях: Там же. С. 307 (письмо от 30 июля 1873 г.).].
О результате «ужасного заговора» – помолвке Марии и Альфреда – вскоре было объявлено во всеуслышание, а еще через полгода, в январе 1874 года, состоялось торжество бракосочетания, скрепившее первый в истории Романовых семейный союз с представителем британского правящего дома[166 - Подробности см.: Hall C. Queen Victoria and the Romanovs: Sixty Years of Mutual Distrust. Stroud: Amberley Publishing, 2020. P. 95–125.]. Александр II не был энтузиастом этого выбора для дочери[167 - Накануне помолвки, 28 июня 1873 года, Толстая записала в дневнике: «Говорила с Государем о том, что нас ожидает. Он покорился, как и я, без всякой симпатии к этому союзу, но мне кажется, у него сила покорности сильнее моей» (РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 2. Д. 43. Л. 92; документ представляет собою машинописную копию перевода подлинного дневника с французского на русский, выполненного Е. А. Масальской-Суриной; подлинник утрачен). О сомнениях родителей насчет брака Марии с Альфредом дают представления письма императрицы императору в апреле – июле 1873 года: ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 789. Л. 39–88 об.]; шатким был и расчет на возможность улучшить таким способом межгосударственные отношения между Россией и Англией[168 - Отголоском циркулировавших слухов о цели этого брачного союза является замечание мемуариста, что Марию «просватали за пьяного англичанина в надежде тем облегчить исполнение своих замыслов в Турции»: Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 1. С. 244.]. Тем не менее празднества по случаю бракосочетания были пышными и проходили как в Петербурге, так и в Москве. Толстая не только присутствовала на всех них, но и настойчиво просила императрицу, чтобы ей дозволили «считаться замужней дамой (?tre considеrеe femme mariеe)» и сопровождать бывшую воспитанницу, уже герцогиню Эдинбургскую, в Англию, – предложение, которое императрица в записке министру двора расценила как «нескромное (indiscret)»[169 - Об этом сама императрица сообщала в декабре 1873 года министру двора А. В. Адлербергу запиской, которая и цитируется мною: РГИА. Ф. 1614. Оп. 1. Д. 813. Л. 33 об. Вероятно, официальный статус Толстой – незамужней придворной дамы, всего лишь фрейлины – не был достаточным для того, чтобы представлять русский двор на торжествах в Англии по случаю прибытия нововенчанной четы. (Возможно, императрица имела в виду и почти откровенное притязание недавней наставницы на материнскую роль.) В конце концов (о чем еще будет сказано ниже) главной дамой свиты, сопровождавшей юную герцогиню Эдинбургскую при въезде в ее новую страну, стала приятельница Толстой княгиня М. А. Вяземская.]. Накануне венчания Марии Толстая поверяла дневнику:
Старый год кончился и новый год начался для меня в слезах. Он похитит у меня мое дорогое дитя, мою милую великую княжну, не говоря о том, что еще тяготит мою душу! Нездоровье Императрицы и обедня без нее омрачают уже без того мрачную картину[170 - РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 2. Д. 43. Л. 97 (запись от 1 января 1874 г.).].
А спустя два месяца Александра Андреевна вновь обратилась с эпистолярным криком души к Толстому:
[У] меня такое чувство, будто я попала в гибнущую Помпею. <…> Я чувствую, что погребена под развалинами. Как и когда я оттуда выберусь, пока не знаю. Бог позаботится, а сама я больше не хлопочу. Весь этот год <…> был как долгая болезнь, закончившаяся агонией разлуки.
Констатация, что Мария вышла замуж «по любви» и что «королевская семья и вся Англия встречают ее с ликованием», сменялась в письме горьким сетованием: августейшие отец и мать «пожертвова[ли] единственной дочерью», выдав ее замуж за иностранного принца, пусть и родовитого, но «которого я нахожу <…> ничтожеством» – «Ни широты, ни пыла (Rien de large, rien de chaud)». Толстая боялась, что Англия, которая «так мелочна, так неискренна», низведет русскую царевну «до своего уровня» (по-русски Толстая могла бы сказать: «опошлит»)[171 - ЛНТ–ААТ. С. 313–314 (письмо от 16 марта 1874 г.; ориг. на фр.). Кроме понятных личных эмоций, в этих оценках проявился и националистический сантимент, высказываемый как бы даже в пику адресату («[М]не кажется, что вы немного англоман»). В дневнике Толстая через несколько лет призналась: «[В] сущности я никогда не могла помириться с тем, что она вышла за англичанина <…>» (РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 2. Д. 43. Л. 97 – недатированный автокомментарий к записям от января 1874 г.). А еще в начале 1860?х годов она писала Толстому о своей тогдашней воспитаннице, еще одной из многочисленных Марий правящего дома – старшей Романовской-Лейхтенбергской, «Марусе» (дочери великой княгини Марии Николаевны), вышедшей замуж за принца Баденского: «Мне хочется своими глазами увидеть, может ли немецкий принц сделать счастливой русскую женщину» (ЛНТ–ААТ. С. 249 [письмо от 25 июля 1863 г.; ориг. на фр.]). В этом свете поворот А. А. Толстой к панславизму в 1870?х годов видится закономерным.].
Метафора «гибнущей Помпеи» передавала не только сокрушение стареющей бездетной женщины при расставании с объектом ее материнских чувств, но и печальное положение дел в большом семействе, которому она преданно служила. В атмосфере оживившихся тогда слухов и пересудов о правящем доме адресат легко мог прочитать между строк письма то, что для нас дополнительно высвечивается сопоставлением с цитированной дневниковой записью, – намек на глубокий разлад между самими венценосными супругами, разлад, без которого столь неудачная, по мнению Толстой, выдача единственной дочери замуж была бы невозможна. Торжества января 1874 года, совместные появления моложавого Александра II и его чахнущей жены на различных церемониях в Петербурге в присутствии необычайного множества гостей еще прочнее связали личность Марии Александровны с ее образом страдалицы и жертвы. Вероятно, и отчуждение между нею и мужем, которому она старалась не дать проявиться в супружеской переписке или на вечерах в своей гостиной, труднее было скрыть, представ перед взорами толпы. П. А. Валуев, высокопоставленный чиновник, но не свой человек в узком придворном мирке, был среди тех, кто обратил особое внимание на императрицу, и не оттого, что та, как гласят другие свидетельства, была украшена необычным даже для роскоши романовского двора каскадом бриллиантов: «Выражение лица императрицы во время этого обряда [англиканской части церемонии бракосочетания. – М. Д.] было до того страдательное нравственно и физически, что при каждом взгляде на нее мои глаза тускнели от приступа слез <…>»[172 - Валуев П. А. Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел / Ред., комм. П. А. Зайончковского. Т. II: 1865–1876 гг. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 292–293. Количеством драгоценностей в наряде императрицы был впечатлен молодой великий князь Николай Константинович, даже назвавший своей американской любовнице Х. Блэкфорд их общую стоимость (см.: [Blackford-Phoenix H. E.] Fanny Lear. Le roman d’une amеricaine en Russie, accompagnе de lettres originales. Bruxelles: A. Lacroix et C
, 1875. P. 273). Оба они появятся ниже на этих страницах в связи с чуть более поздним резонансным происшествием, где тоже не обошлось без бриллиантов.].
Наконец, вернемся к собственно АК. Толстой в тот период не оставался безучастным к придворной злобе дня, какой бы суетной она ни казалась ретроспективно в сравнении с экзистенциальной проблематикой романа, над первой частью которого он именно тогда усиленно работал, или с одновременно увлекавшими его педагогическими спорами об обучении грамоте. На сами торжества в Москве в конце января 1874 года он, разумеется, не выбрался из Ясной Поляны, упустив случай повидаться впервые за почти тринадцать лет с Александрой Андреевной. Но и накануне, и вскоре после этого, когда эхо праздника еще не стихло, он приезжал в Москву – по делам как литературным, так и школьным. На упомянутом выше чтении из АК в начале марта присутствовала Е. Ф. Тютчева, и с нею-то до или после чтения он говорил о Толстой, с которой его собеседница виделась ранее на торжествах. Разговор мог коснуться и тех деликатных материй, которые Толстая не раскрывала в корреспонденции, лишь намекая на них.
Вскоре по возвращении в Ясную Поляну он пишет ей, выражая сочувствие в ее невзгодах, упоминая о своей работе над новым романом («который мне нравится; но едва ли понравится другим, потому что слишком прост») и тут же – как пристало бы любителю великосветской хроники – комментируя прикомандирование двух общих знакомых к особе молодой герцогини Эдинбургской: «Какую прелестную представительницу русских женщин вы выбрали – Кн[ягиню] Вяземскую, и какой жалкий экземпляр русских мужчин – Калошин»[173 - ЛНТ–ААТ. С. 308, 309 (письмо от 6 марта 1874 г.; сокращенное написание титула раскрывается в публикации как «княжна»; чтение «княгиня» дается мною соответственно исправлению ошибки в идентификации носительницы титула). Ответом на это письмо и было то, в котором Толстая живописала «агонию разлуки».]. Княгиня Мария Аркадьевна Вяземская, урожденная Столыпина, невестка поэта и сановника князя П. А. Вяземского и одна из очень немногих придворных дам, в благоволении к которым император и его супруга сходились[174 - См. напр.: Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 1. С. 120, 235, 478 примеч.; Он же. Мемуары графа С. Д. Шереметева. Т. 2 / Сост. К. А. Вах, Л. И. Шохин. М.: Индрик, 2005. С. 262–263. Автор мемуаров приходился Вяземской зятем.], как раз и заменила свою хлопотливую подругу Александру Толстую в почетной миссии сопровождения царской дочери в Англию. Свидетельством своего трепетного отношения к царскому семейству княгиня Мария Аркадьевна оставила ведшийся в путешествии дневник и отчеты, которые она с дороги и из Англии слала императрице[175 - РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 4727 (дневник М. А. Вяземской), 4777 (письма императрице). В комментариях к разновременным публикациям цитированного письма Толстого спутница Марии ошибочно идентифицируется как дочь княгини М. А. Вяземской – фрейлина императрицы княжна А. П. Вяземская (Юб. Т. 62. С. 74; ЛНТ–ААТ. С. 791). Толстой еще с начала 1860?х годов знал о дружбе Александры Толстой с М. А. Вяземской (которая, кроме того, могла быть ему знакома как двоюродная сестра его севастопольского сослуживца А. Д. Столыпина и/или как теща кузена Д. С. Горчакова): ЛНТ–ААТ. С. 205 (письмо Толстого от начала августа 1861 г.), 218 (письмо от А. Толстой от 31 марта 1862 г.). Под углом зрения моего исследования важно отметить, что с приватным кружком императрицы имя матери должно было ассоциироваться гораздо больше, чем дочери.]. За несколько дней до того, как Толстой отправил цитированное письмо, русские газеты перепечатывали официальное сообщение из Виндзорского замка об аудиенции, которую по исполнении миссии, накануне возвращения в Россию, Вяземская вместе с другими членами свиты герцогини Марии получила у королевы Виктории[176 - Новое время. 1874. № 61, 5 марта. С. 1. Ср.: Court Circular // The Times. № 27952. March 16, 1874. P. 9.].
Второй придворный в названной Толстым паре, когда-то его друг Дмитрий Павлович Колошин, чья нелестная характеристика в письме разрастается до целого пассажа: «Он именно тот несуществующий русский человек, вертлявый (умом), без цели, от слабости подделывающийся под европейскую внешность, без правил, убеждений, без характера <…>», – ехал в Англию в качестве личного секретаря герцогини Марии, своего рода связного между нею и Министерством двора в Петербурге[177 - ЛНТ–ААТ. С. 309. В ответном письме Толстая, не снимая с себя ответственности за назначение Колошина, в целом согласилась с данной ему характеристикой (Там же. С. 312, 315). За сто с лишним лет, прошедших с первой публикации письма Толстого, на упоминание антипатичного ему «Калошина» нанизалась вереница разногласий между комментаторами относительно как личности носителя этой фамилии, так и меры информированности Толстого о составе группы, отбывавшей с Марией в Англию: Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857–1903. СПб., 1911. С. 249; Юб. Т. 62. С. 74; ЛНТ–ААТ. С. 791; Белоусова Е. П. Колошин Дмитрий Павлович // Лев Толстой и его современники. Вып. 3. С. 255–256. Хотя последняя из указанных работ верно разрешает сомнения в пользу Д. П. Колошина, его назначение секретарем Марии, что и имеет в виду Толстой (в отличие от непосредственного членства в собственно свите), остается автору неизвестным, отсюда напрасное допущение, что Толстой, называя Колошина в связи с бракосочетанием дочери императора, «действительно ошибся». См. дело Министерства двора о службе Д. П. Колошина при герцогине Эдинбургской: РГИА. Ф. 472. Оп. 23. В/о 258/1274. Д. 27.]. Осведомленность Толстого в тонкостях статуса и обязанностей спутников Марии примечательна. Противопоставлением «прелестной представительницы» и «жалкого экземпляра» автор АК словно продлевал за пределы творимого романа формирующуюся там галерею пар – воплощений многоразличных комбинаций фемининности и маскулинности.
Более того, с учетом динамики создания АК можно предположить, что хрестоматийной фразой из зачина романа, «Все смешалось в доме Облонских», мы отчасти обязаны всплеску интереса Толстого к семейным событиям в правящем доме. В литературе давно отмечен ее прообраз в написанном несколько раньше, в 1872 году или начале 1873-го, варианте начала романа об эпохе Петра I: «Все смешалось в царской семье»[178 - Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Т. 9. С. 171; см. также статью о создании текста: <Роман из времени Петра I>: Комментарии // Там же. С. 460 (автор раздела – И. П. Видуэцкая). С зачином АК и процитированное предложение, и следующее за ним созвучны как построением фразы, так и ритмикой речи и даже сколько-то лексикой («смешалось», «связалась» – «в связи»): «Царевна связалась с братом двоюродным [Б. А. Голицына] Васильем Васильевичем, настроила Ивана царя и Петра царя забросила, и народ весь был в смущенье». Ср.: «Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами» (7/1:1). См. также: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы // Он же. Лев Толстой: Исследования. Статьи. СПб., 2009. С. 630.]. Однако тот факт, что будущее присловье перекочевало в АК не сразу в этой форме, а проделав петлю метаморфоз, не оценен по достоинству.
Первая попытка открыть повествование емкой, энергичной фразой, из которой дальше проросло бы описание обстановки семейного разлада, была предпринята в январе или феврале 1874 года. Это была та стадия работы, когда Толстой рассчитывал вскоре завершить роман и издать его отдельной книгой, а потому спешил подготовить к типографскому набору первую часть. Уже избрав эпиграфом ко всей книге библейское изречение, а эпиграфом к данной части – собственный афоризм «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», автор пробует заменить размеренный зачин предыдущей редакции новым, более броским и захватывающим. Это новое предложение обрывается в момент его подъема к сложноподчиненной конструкции, как если бы оно превысило отведенный лимит: «В Москве, в доме Облонских, произошло нравственное землетрясение, все смешалось и сделался хаос, оттого что жена»[179 - Р18: 1 (фраза вычеркнута). См. также: ОпР. С. 196. В этой же рукописи автор возвращает роману заглавие «Анна Каренина», вместо которого на предыдущем, коротком, отрезке генезиса наличествовал вариант «Два брака».]. (От соблазна допустить генетическую связь «нравственного землетрясения» и «хаоса» с «гибнущей Помпеей» из цитированного выше письма А. А. Толстой уберегает бесспорная датировка последнего более поздним периодом, но стилистическое созвучие примечательно.) За этим следует правка, которая превращает эпиграф о счастливых и несчастливых семьях в первую фразу романа и ставит задачу резвого запуска самого рассказа теперь уже перед вторым предложением, вписываемым взамен пробы с сейсмической метафорой: «Все спуталось и смешалось в доме Облонских»[180 - Р18: 1.]. Правка продолжилась в следующей рукописи, той самой, которую в марте 1874 году Толстой отвезет в Москву для сдачи в набор: слова «спуталось» и «смешалось» меняются местами[181 - Р19: 1.]. И уже по ходу вычитки одной из корректур Части 1[182 - Гранок 1874 года с этой поправкой, как и вообще правленых гранок первых десяти глав Части 1, не сохранилось (см.: ОпР. С. 227–229), но в датируемой августом – сентябрем 1874 года верстке Части 1, которая предназначалась пока не для журнальной, а для книжной публикации (и чей текст еще подвергнется существенной доработке перед началом сериализации в «Русском вестнике» в начале 1875 г.), веская фраза читается уже без лишнего «и спуталось» (К139: 517; описание т. наз. дожурнальной верстки см.: Гудзий Н. К. Описание рукописей и корректур, относящихся к «Анне Карениной» // Юб. Т. 20. C. 675).] Толстой, отбросив второй глагол, наконец вычеканивает «Все смешалось в доме Облонских».
Не обстояло ли дело так, что мысль автора постепенно пробивалась к уже найденной и использованной в другом проекте, но с тех пор полузабытой (ведь провал замысла петровского романа был немалым разочарованием) словесной формуле? Иными словами, обрабатываемое выражение заострялось, сближаясь с аналогом-предтечей «Все смешалось в царской семье», по мере того как Толстой все больше узнавал о происшествиях и неладах не в старомосковской, а современной царской семье, и письма придворной родственницы все драматичнее намекали на ожидание еще худшего кризиса. Продолжая трудиться над фабулой превратностей счастья и несчастья в жизни вымышленных героев, он помещает мотив «царской семьи» в план подтекста и аллюзии, чем усиливает эффект светотени, переливов были и фантазии в изображении определенной социальной среды[183 - Датируемая февралем 1874 года наборная рукопись Части 1, где автор продолжил шлифовку зачинной фразы «Все смешалось <…>», содержит частную, но интересную для нашего анализа поправку в следующей за вступлением сцене, а именно в мысленной речи Степана Аркадьича, старающегося припомнить свой сумбурно-фривольный сон. Как минимум в двух предшествующих редакциях некто Алабин (такова, к слову, была фамилия Стивы в ранних редакциях – не снится ли ему собственный двойник из глуби авантекста?) «давал обед в Нью-Иорке [в ориг.: Ньюioрк. – М. Д.] на стеклянных столах <…>» (ЧРВ. С. 93 (Р17); Р18: 1 об.–2). То, что имеется в виду город, а не ресторан, ясно из реплики: «Как там все в Америке бестолково, но хорошо было» (ЧРВ. С. 94). Правка же, сделанная в наборной рукописи, лишает локализацию определенности: «Да, Алабин давал обед в Дармшта[д]те, нет, не в Дармшт[адте], а что-то американское. Да, но там Дармшта[д]т был в Америке» (Р19: 1 об.; вариант перешел в ОТ [7/1:1]). Выскажу осторожное предположение, что это раздвоение (добавляющее онейрологического правдоподобия Стивиному припоминанию сна) могло быть связано с ассимиляцией авантекстом придворной злобы дня: Дармштадт был столицей Великого герцогства Гессенского на Рейне (в обиходе часто звавшегося Гессен-Дармштадтским или просто Дармштадтским), родины императрицы Марии Александровны; и она, и император гащивали там вместе и порознь, так что ассоциация царской семьи с Дармштадтом была устойчивой. Если моя догадка верна, то «Дармштадт в Америке» с такими чудесами, как поющие столы и «какие-то маленькие графинчики, и они же женщины» (8/1:1), предстает иронической аллегорией – особенно уместной в тот период – столкновения чинных дам правящего дома со свободными нравами иной светской среды. Известная интерпретация сочетания «Алабин, Дармштадт, Америка», предложенная Набоковым (Набоков В. В. Лекции по русской литературе / Пер. с англ. Ив. Толстого. М.: Независимая газета, 2001. С. 284), представляется мне натянутой, в особенности касательно идеи Дармштадта, не говоря уже об игнорировании ею черновых редакций романа.]. Спустя год эта суггестивность романа отозвалась косвенным эхом в дневнике Александры Андреевны. В одной из записей февраля 1875 года похвала напечатанному накануне первому выпуску АК в «Русском вестнике» символически соседствует с возгласом тревоги, даже и тут приглушенным недомолвкой, за благополучие правящей семьи:
Приезд Государыни [из Сан-Ремо, где она проходила долгий курс лечения. – М. Д.] объявлен 23-го. Слишком жду его, чтобы верить этой радости. Только живущие в этом доме знают, что значит ее присутствие здесь. Утро провела <…> за чтением последнего романа Льва Толстого. Прелесть[184 - РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 2. Д. 43. Л. 102 (запись от 7 февраля 1875 г.).].
Реминисценции действительности двора и бомонда начали еще теснее вплетаться в сюжетную ткань АК, когда авантекст обогатился экскурсами в ту аристократическую субкультуру, где фрейлина императрицы служить чичероне никак не могла.
3. Антропология гвардейского либертинства[185 - Для уяснения того, как обсуждаемые в этом параграфе редакции соотносятся между собой, см. Извлечение 1 на с. 122–127.]
Толстовский поиск того, как лучше изобразить и вобрать в вымышленный мир АК неоднородность и внутреннюю конфликтность петербургского высшего света и действующих в нем неписаных норм взаимоотношений и социализации, как и этикета дозволенного нарушения этих норм, особенно интересно отразился в авантексте Частей 2 и 3 АК. На рубеже зимы и весны 1874 года текст большинства глав Части 1 уже начал набираться в московской типографии (этому набору, напомню, не было суждено выйти из печати). Больше того, многие серии глав последующих частей – например, об Анне, Вронском и Каренине в день красносельских скачек (2:18–29) – находились на стадии аккуратно изготовленных С. А. Толстой беловиков (как вскоре после того станет ясно, отнюдь не финальных)[186 - Детали см. на с. 236 наст. изд.]. Именно тогда Толстой, отступив несколько назад в хронологии действия, расширяет в новых рукописях серию глав, в ОТ распределенных между финалом Части 1 и первой третью Части 2, о сближении Анны и Вронского зимой в Петербурге. В этих-то черновиках, помимо «интимного кружка» императрицы, выпукло и узнаваемо проступает тот сегмент большого света, который в невымышленной реальности был антиподом и благочестия, и «восторженного тона». Это – либертинская среда светских львиц и львов, смыкающаяся с гвардейской золотой молодежью и смежная с несколькими дворами или неформальными котериями великих князей, а отчасти – и с официальным двором самого Александра II[187 - Термин «либертинство (либертинаж)» употребляется мной в широком значении демонстративного поведения, так или иначе предполагающего вызов моральным авторитетам и социальным условностям. Эстетизированное распутство аристократии, процветавшее в 1860–1870?х годах, имело, конечно же, лишь отдаленное отношение к оригинальному, бытовавшему еще в дореволюционной Франции понятию libertinage, в котором свобода нравов и агрессивный гедонизм смыкались с политическим и религиозным свободомыслием, вольтерьянством. Если либертены большого света эпохи АК и вносили лепту в подрыв устоев монархии, то только косвенно и непреднамеренно. Об избирательной рецепции французского либертинажа в России см.: Дмитриева Е. Французский либертинаж и его русские отголоски // Делон М. Искусство жить либертена: Французская либертинская проза XVIII века. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 833–860, особ. 837–838, 852.]. Проводником читателя по веселящемуся Петербургу, в черновых зарисовках которого дразнящий мотив трансгрессии и непристойности звучит явственнее, чем в ОТ, служит, разумеется, Вронский.
На этом – недолгом – отрезке генезиса АК персонаж, прежде чем бесповоротно стать графом Вронским, вновь фигурирует под титулом и фамилией из редакций 1873 года: князь Удашев. Высший родовой титул дворянина сочетается с фамилией, в семантике которой слышатся и удаль, и удача, и, возможно, мужественность в ее сугубо физиологическом аспекте. Более того, на одну из написанных с чистого листа вставок, притом четко датируемую мартом – началом апреля 1874 года, приходится момент, когда в генезисе текста к знатности и богатству героя добавляется блеск престижного флигель-адъютантского звания. И в черновом автографе[188 - Р28: 10–14 об. Датируется указанным периодом на основании письма, в котором анализируемый фрагмент романа упоминался, как это очевидно, накануне, в момент или сразу после написания первого черновика. А именно, между 15 и 25 марта 1874 года Толстой обратился к свояченице Т. А. Кузминской с просьбой узнать у ее брата А. А. Берса, можно ли включить в роман слышанную от него «историю <…> об офицерах, разлетевшихся к мужней жене вместо мамзели» (Юб. Т. 62. С. 74). Также о датировке написания гвардейских сцен см. примеч. 2 на с. 130, а также параграф 2 гл. 2 наст. изд.], и в ОТ (2:5) Удашев/Вронский начинает рассказывать, а нарратив продолжает и заканчивает полную забавных деталей историю – о двух молодых подгулявших офицерах, нарвавшихся на энергичный отпор со стороны чиновника, чью юную законную, а вдобавок к тому беременную жену они приняли за лоретку. Оскорбленный муж – титулярный советник с «бакенбардами колбасиками» и, в масть к ним, немецкой фамилией Венден – намеревается подать официальную жалобу на повес, тогда как с их точки зрения обидчиком является он сам, причем таким обидчиком, который в силу разницы в статусе между гвардейцем и невысокого происхождения штатским не может быть вызван на дуэль за урон, нанесенный чести офицера. Задача примирения достается Вронскому. В самом этом эпизоде его флигель-адъютантство, особенно вместе с княжеским (выше графского) титулом исходной редакции, – прежде всего подробность, оттеняющая социальным колоритом психологическую достоверность успеха затеянного «миротворства»:
П[олковой] к[омандир] и У[дашев] оба понимали, что имя Удашева и флигель-адъютантский вензель должны много содействовать смягчению тит[улярного] сов[етника]. <…> Все казалось прекрасно кончено; но т[итулярный] с[оветник] хотел поделиться за папиросой с своим новым знакомым, князем и ф[лигель-] а[дъютантом], своими чувствами, тем более что Удашев нравился ему[189 - Р28: 12, 13–13 об. Большой фрагмент из правленой копии этого автографа опубликован: ЧРВ. С. 196–201 (Р31).].
В самом деле, звание флигель-адъютанта – младшее среди особых военно-придворных званий[190 - Это звание не подменяло собою регулярный военный чин по Табели о рангах: Вронский на данный момент пока лишь ротмистр, но позднее в романе, в согласии с правилами гвардейского чинопроизводства, получит чин полковника. Со времени Крымской войны, когда новый император Александр II начал щедрыми пожалованиями быстро расширять состав военной свиты, звание флигель-адъютанта становится для Толстого одной из эмблем светского тщеславия (замечавшегося им в то время и в себе самом). «Насчет Флигельадъютантов – их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки <…>», – писал он в 1856 году В. В. Арсеньевой (Юб. Т. 60. С. 82 – письмо от 23 августа 1856 г.). Это в последующие годы отразилось и в его произведениях. В Первой завершенной редакции «Войны и мира» Жюли Карагина жаждет выйти за Бориса Друбецкого в особенности потому, что тот – флигель-адъютант (Литературное наследство. Т. 94. С. 543). Исторически Толстой точен: звание уже существовало в начале XIX века, – но аллюзия к 1860?м здесь, пожалуй, значимее. См. также: Красносельская Ю. И. Кто оставил Льва Толстого в Петербурге? («Флигель-адъютантская» протекция в жизни и творчестве писателя) // Slavica Revalensia. 2018. Vol. 5. C. 9–37.] – давало постоянное членство в императорской свите, было сопряжено с почетными и ответственными поручениями императора (каким, например, позднее в романе будет для Вронского сопровождение жуирующего иностранного принца [4:1]) и часто открывало быстрый путь к вершинам карьеры. Быть флигель-адъютантом почти всегда означало быть лично знакомым монарху, а главное – на виду и на слуху у него. При Александре II, несмотря на некоторую девальвацию свитских званий как таковых вследствие частых пожалований (к началу 1880?х годов военная свита разрослась до 400 человек, и флигель-адъютанты составляли ее огромное большинство)[191 - Шепелёв Л. Е. Чиновный мир России. XVIII – начало XIX в. СПб.: Искусство–СПб, 1999. С. 412–413.], многих носителей этого звания, особенно гвардейских ротмистров или полковников, добавочно возвышала известная публике неформальная, отеческая приязнь императора к уже отмеченным его милостью молодым офицерам.
В исходной редакции интермедии с Удашевым-миротворцем имеется нюанс, который, вторя акценту на флигель-адъютантском вензеле, помогает уловить незримое присутствие монаршей фигуры: злополучный Венден (недаром знающий толк в подаче жалоб) служит не где-нибудь, а в «комиссии прошений»[192 - «Чиновник комиссии прошений титулярный советник Венден»: Р28: 11 об.]. Именно так и в бюрократической номенклатуре, и в обиходе называлось специальное учреждение при персоне императора, куда надлежало обращаться всевозможным искателям благодеяния с высоты трона – пособия, пенсии, защиты от несправедливости, помилования и т. п.[193 - См.: Ремнев А. В. Канцелярия прошений в самодержавной системе правления конца XIX столетия // Исторический ежегодник. 1997. Омск, 1998. С. 17–35; Engel B. A. Breaking the Ties That Bound: The Politics of Marital Strife in Late Imperial Russia. Ithaca: Cornell University Press, 2011. P. 18–29.] По долгу службы повседневно причастный к какой-никакой коммуникации подданных с самодержавным правителем, но сам находящийся не намного ближе к олимпу, чем те же просители[194 - В интертекстуальном сообществе толстовских героев Вендену, вероятно, подошла бы заостренно сословная аттестация, которую – с точки зрения великорусского столбового дворянина – получает Берг, хрестоматийный служака-немец в «Войне и мире»: «сын темного, лифляндского дворянина» (Юб. Т. 10. С. 187 [Т. 2, ч. 3, гл. XI]). Одноименный с фамилией персонажа старинный город Венден, который еще будет упомянут на этих страницах, находился именно в Лифляндской губернии.], титулярный советник из комиссии прошений должен по достоинству оценить притягивающую взгляд серебряную вязь «А II» – монограмму императора на эполетах собеседника.
В дальнейшей правке князь Удашев вновь становится графом Вронским, но его флигель-адъютантство – возникшее как функциональный штрих в конкретных сценах[195 - В генезисе АК Вронский (точнее, Удашев) впервые наделяется флигель-адъютантским статусом в начале 1874 года, то есть не в самых ранних редакциях, а на той стадии писания, когда Толстой рассчитывал вскоре завершить проект и издать роман отдельной книгой, без журнальной сериализации. В усиленно перерабатывавшейся тогда Части 1 и наново творившихся главах Части 2 рельефнее прежнего выступает петербургская тематика романа. Именно в этой связи, примерно в то же время, когда в роман включается анекдот о неудачном флирте, где вензель помогает в миссии примирения сторон, в сюжетно смежном месте автор правит само представление персонажа в сцене беседы двух других, добавляя, в частности, реплику Стивы Левину: «…Удашев, флигель-адъютант, богач, влюблен в Кити и ездит к ним каждый день» (Р18: 4 об.; правка в дожурнальной наборной рукописи Части 1, вероятно по недосмотру автора, полностью удалила эту реплику (Р19: 43), и она уже в новой версии, близкой к ОТ (46/1:11), была восстановлена при вычитке дожурнальных корректур летом 1874 года, с одновременной заменой «Удашев» на «Вронский» [К118: 1]). Ср. интродукцию персонажа в более ранних редакциях, где его флигель-адъютантство не упоминается: ЧРВ. С. 110 (Р12), 125 (Р17). О двух стадиях в генезисе романа, когда персонаж именовался «Удашев», см. примеч. 3 на с. 269–270.] – остается. Более того, оно становится чертой в основной характеристике Вронского, который, в отличие от предыдущих редакций, где персонажу присущи безразличие к светскому успеху и даже нарочитая несветскость, обладает придворным честолюбием. ОТ представляет Вронского в этом качестве при первом же упоминании о нем в романе. «Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант <…>», – говорит о нем Облонский Левину (46/1:11)[196 - Как в уже цитированном исходном автографе этого фрагмента (Р18: 4 об.), так и в ОТ Стива тут же сообщает: «Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор» (46/1:11). Это не случайно: надзор за производством рекрутских наборов был одним из наиболее частых поручений императора флигель-адъютантам. Интересно, что в ОТ флигель-адъютантство упоминается в интродукции также и Левина, хотя и от противного: «[Е]го товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже – который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который директор банка и железных дорог или председатель присутствия <…>» (30/1:6).].
Почти одновременно с историей об эскападе незадачливых ловцов камелий в авантекст романа вошел другой нравоописательный «либертинский» эпизод, и тоже в форме рассказа, почти пантомимы персонажа. Реквизит поклонникам романа должен быть памятен: кавалерийская каска, груша, большущие конфеты от дворцового кондитера. Пока Удашев/Вронский находится в Москве, в его петербургской квартире живет его младший сослуживец Пукилов – ему?то вскоре в генезисе текста, уже под фамилией Петрицкий (так и в ОТ), предстоит поучаствовать в погоне за госпожой Венден. Но и до этого у него есть чем зарекомендовать себя. Удашев, вернувшись домой, застает товарища навлекшим на себя череду крупных неприятностей, чем лишь подогревается охота того к дебошу. И исходная редакция[197 - Р28: 4 об.–6. О генетической связи между автографами двух гвардейских анекдотов – о каске и о неудачном флирте – см. также примеч. 2 на с. 130.], и ОТ (1:34) не скупятся на подробности в описании стиля жизни гвардейского гуляки, чьей – уже опостылевшей – любовнице, баронессе Шильтон, муж угрожает бракоразводным процессом. Одним словом, скандал громоздится на скандал. И все-таки, несмотря на терпкую – особенно по меркам того времени – откровенность подобных картинок в АК, они обретают настоящую рельефность при сопоставлении со свидетельствами, исходящими от невымышленных Вронских и Петрицких. Отвлечемся ненадолго от увековеченного Толстым анекдота, чтобы вернуться к нему с дополнительной аналитической линзой.
Одним из ближайших аналогов компании, где кутят, делают долги, совокупляются с проститутками (и не только) гвардейские персонажи АК, был в ту пору кружок великого князя Владимира Александровича, второго по старшинству из живущих сыновей императора, бонвивана с артистической жилкой и без мешающих сибаритству политических и военных амбиций. В свите великого князя – в особенности до его женитьбы, которая состоялась в том же 1874 году (ему было 26 лет), – затейливое ухарство не только широко практиковалось, но и получало значение некоей эстетической программы, что выражалось в подчас изощренных живописаниях разнообразных действий и положений. Наперсником Владимира и главным певцом увеселений кружка, а в каком-то смысле и творцом эстетизирующего дискурса был бойко владевший пером адъютант его высочества, начавший службу в блестящем лейб-гвардии Гусарском Его Величества полку, граф Павел Петрович Шувалов, в петербургском свете известный под прозвищем Боби, – любопытный тип либертена-интеллектуала. (Историкам он известен преимущественно как один из организаторов «Святой дружины» 1881–1882 годов, – заявка на роль охранителя устоев, которую не так легко было бы предсказать за десять лет до того[198 - Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850?х – середина 1870?х гг. М.: Русское слово, 2002. С. 315–317.].) Неплохо образованный аристократ, почтительный сын, помощник отца в управлении имениями, заводами и копями (состояние было огромным), чуткая, способная к интроспекции натура, он же был и циничный прожигатель жизни, который, как явствует из его собственных писем, лечился в те самые годы и от морфинизма, и от сифилиса. Именно в ответ на некую эпиграмму по своему адресу от сотоварищей по кутежам, напоминавшую о расплате за сексуальные излишества, Шувалов сочинил непристойный стишок, где запечатлена принятая в той среде манера взаимного бравирования маскулинным молодечеством:
Друзья, вы правы: но пока
В душе горит огонь желанья
И не дрожит моя рука
В часы разврата и лобзанья;
Через пару недель она возвращается к этой теме, отвечая на письмо Толстого, в котором она усмотрела признаки религиозного «настроения души»:
Дай Бог, чтобы оно сохранилось до конца, и тогда вас не минуют новые прозрения. Как только перестанешь противиться Господу, Он приходит, чтобы утешить и ободрить. Эта душевная процедура (toute cette procеdure de l’?me[140 - «Вся эта работа души» представляется мне переводом более конгениальным русскому языку той эпохи, чем предложенный публикаторами вариант «эта душевная процедура».]) мне хорошо знакома, но как тонко и деликатно надобно обращаться с внутренними голосами. Малейшее невнимание – и вот они замолкли <…>[141 - ЛНТ–ААТ. С. 146 (письмо от 31 марта 1859 г.; ориг. на фр.), 150–151 (письмо от 17 апреля 1859 г., ориг. большей частью на фр.).].
Еще через несколько дней, узнав, что ее корреспондент так и не стал говеть из?за отвращения к обрядности, она с болью упрекает его в гордыне и заключает:
[Т]о, что мы ищем, так различно, уверяю вас, я ничего большего не желаю, как сознания своего ничтожества и своей виновности – и, когда Бог мне его посылает, хотя на одну минуту, и я чувствую себя сокрушенной раскаянием, – я благодарю Его, как за самую великую милость, которую Он может мне даровать. <…> У меня ничего нет, я ничего не могу сделать, но Ты все можешь мне дать! Какая сладость и в то же время свобода в этой зависимости!
Риторика резиньяции (характерно прошитая частым наименованием Бога местоимениями) поднимается до особенно высокой ноты, когда речь заходит об уходе близких людей. В октябре 1860 года, откликаясь на известие Толстого о его страшном горе – недавней смерти любимого брата Николая и сообщая о почти одновременной смерти вдовствующей императрицы Александры Федоровны, Александрин восклицала:
[В]аша потеря ничто иное как вестник Господний, протянутая рука Спасителя, призыв Его милосердия. Неужели и этот случай будет потерян для души вашей? <…> И я Его не знаю и не умею любить, как следует, – но всею душой желаю любить Его, и в этом одном желании есть уж целый светлый мир утешения[142 - ЛНТ–ААТ. С. 153, 156 (письмо от 21 апреля 1859 г., ориг. большей частью на фр.), 185 (письмо от 31 октября 1860 г.).].
Отклики Толстого на эти внушения предвосхищали – с поправкой на эпистолярный этикет – те операции с лексемами «восторг» и «умиление», которые он начиная с первых редакций будет проделывать в АК для того, чтобы определить суть «утонченной» салонной набожности. А отдельные высказывания Александры Андреевны находят, как кажется, различимый отзвук в дискурсе и фразеологии графини Лидии Ивановны в полном развитии этого образа:
Опора наша есть любовь, та любовь, которую Он завещал нам. Бремя Его легко <…> Не вы совершили тот высокий поступок прощения, которым я восхищаюсь и все, но Он, обитая в вашем сердце <…> В Нем одном мы найдем спокойствие, утешение, спасение и любовь (429, 430/5:22).
(Ранним эхом соприкосновения Толстого с рассматриваемой субкультурой двора могло быть создание такого персонажа «Войны и мира», как Анна Павловна Шерер – напоказ сентиментальная, элегантно печальная и при этом политизированная в духе 1860?х годов фрейлина вдовствующей императрицы Марии Федоровны[143 - См. в особенности изображение героини в одной из сцен с ее участием в рукописной редакции романа, где она, «подняв глаза к небу», произносит: «Подумайте, как страдают и переносят свои страдания лица, особенно женщины, и очень высокопоставленные <…> Ежели бы вы, так же как я, могли видеть целую жизнь некоторых женщин или скорее ангелов неба, страдающих, но не ропщущих от несчастия брака <…>» (Литературное наследство. Т. 94: Первая завершенная редакция романа «Война и мир» / Изд. подгот. Э. Е. Зайденшнур. М.: Наука, 1983. С. 390; см. также: Зайденшнур Э. Е. Как создавалась первая редакция романа «Война и мир» // Там же. С. 21–30, 37–38, 62). Рукопись «от Аустерлица до Тильзита», уже нижний слой которой включает в себя этот фрагмент (ОР ГМТ. Ф. 1. «Война и мир». Рукопись 103. Л. 284 об.–285), была предметом оживленной исследовательской полемики. Зайденшнур убедительно датировала первый этап работы над нею концом 1864 года. Это, добавлю от себя, самый канун того периода, когда смерть цесаревича Николая (в 1865 году) и последующий разлад между августейшими супругами наложили глубокий траурный отпечаток на образ императрицы Марии Александровны и принятый в ее окружении стиль общения и поведения. Благодарю Татьяну Георгиевну Никифорову за текстологическую консультацию по названной рукописи.].)
Некоторые обстоятельства общественной (она же служебная, по статусу придворной дамы) деятельности А. А. Толстой звучно перекликаются с сюжетными деталями в АК. В течение многих лет она, наряду с исполнением прямых обязанностей фрейлины, являлась попечительницей исправительных приютов для проституток; заведение именовалось общиной Марии Магдалины, так что Толстая привычно и сочувственно называла своих подопечных «магдалинами». То было чрезвычайно хлопотное занятие, стоившее ей многих душевных мук: так, только после того как первый приют был открыт, попечительница впервые в жизни узнала о существовании малолетних девочек – жертв изнасилования и растления[144 - ЛНТ–ААТ. С. 259 (письмо от 29 января 1865 г.).]. Для этих «маленьких магдалин» в конце концов потребовалось учредить отдельный приют. Она регулярно сообщала Толстому о сопутствовавших ее деятельности неприятностях, в частности столкновениях с ведомством женских учебных заведений, возглавляемым принцем П. Г. Ольденбургским:
[Н]адобно было усильно бороться с глубокомысленными убеждениями принца Ольденбургского или ожидать полного разрушения всех моих планов и отказаться от любимого дела. – Vaincre ou mourir [Победить или умереть. – фр.]. Бог помог – j’ai vaincu [я победила], но потом началась огромная работа, и из?за нее у меня не было и минуты отдыха. Между светом и монастырем, которые разрывали меня пополам, нужно было еще найти время для святого долга сердца <…>[145 - Там же. C. 212, 215 (письмо от 13 февраля 1862 г.). Дядя Александра II принц Петр Георгиевич Ольденбургский вообще был в неприязненных отношениях с «интимным кружком» императрицы Марии. См. об этом: Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 1. С. 115.].
Однако Толстой – о чем можно было бы догадаться и без прямых свидетельств в письмах, зная его отношение к аристократической филантропии, – не расщедривался на моральную поддержку. «Что ваше дело Магдалин?» – небрежно осведомлялся он в 1865 году. «Ваши магдалины очень жалки, я знаю; но жалость к ним, как и ко всем страданиям души, более умственная, сердечная, если хотите; но людей простых, хороших <…> когда они страдают от лишений, жалко всем существом <…>», – писал он летом 1873?го (АК уже была начата), призывая Толстую привлечь внимание знакомых ей высших чиновников к самарскому голоду[146 - ЛНТ–ААТ. С. 257, 307 (письма Толстого от января (между 18?м и 23-м) 1865 г. и от 30 июля 1873 г.).]. Сопоставление процитированных фраз рождает мысль о том, что затронутое нами выше «дело сестричек» Мари Карениной в редакции 1874 года и графини Лидии Ивановны в ОТ намекает, кроме панславизма, на нечто подобное «делу Магдалин» («община», «монастырь»), а батальная риторика рассказов Александры Андреевны об интригах бюрократии против нее прямо отзывается в выспренних ламентациях: «О, как я подрублена нынче» (Мари Каренина)[147 - ЧРВ. С. 207 (Р3). На благотворительность А. А. Толстой как «прототип» (понятие, которое, на мой взгляд, упрощает толстовскую систему разнонаправленных аллюзий) «дела сестричек» указано еще в первой монографии о генезисе романа: Жданов В. А. Творческая история «Анны Карениной»: Материалы и наблюдения. М.: Сов. писатель, 1957. С. 237. Однако ремарка автора, что «[к]ак раз в конце 1874 года Александра Андреевна возобновила свою деятельность» в приюте, едва ли может служить дополнительным аргументом: первый черновик, где упомянуто «дело сестричек», был написан в конце 1873 – начале 1874 года (о той стадии работы над романом см. подробнее гл. 2 наст. изд.).]; «Я начинаю уставать от напрасного ломания копий за правду <…> [С] этими господами ничего невозможно сделать <…> Они ухватились за мысль, изуродовали ее и потом обсуждают так мелко и ничтожно» (Лидия Ивановна [108/1:32]).
Тень Александрин витает и над таким нюансом авантекста АК, как размещение персонажей по разным дачным местам под Петербургом. До середины 1860?х годов, то есть своего назначения ко двору императрицы, корреспондентка Толстого в летние сезоны нередко присылала письма из Сергиевского (Сергиевки) – уединенной усадьбы великой княгини Марии Николаевны и ее покойного мужа герцога Лейхтенбергского в западной части Петергофа[148 - ЛНТ–ААТ. С. 161, 169, 171, 199, 203, 207, 221, 243, 248, 262.]. И случайно ли, что в одной из ранних редакций именно туда, в Сергиевское, «под предлогом приглашения от друзей», переезжает с дачи Каренина в Парголове его щепетильная сестра, чтобы не проводить лето вместе с принимающей Вронского Анной?[149 - ЧРВ. С. 224 (Р21). «Парголово» – чтение публикаторами аббревиатуры «П.» в данном автографе, согласное с автографическим текстом позднейшей редакции (Р30: 1 об.) и журнальной публикации, где фигурирует полное написание топонима. См. примеч. 2 на с. 83–84.] Сергиевское, похоже, имело в памяти Толстого ауру тихой обители для избранных. Именно там Александра Андреевна «в поэтическом домике на берегу моря, утопающем в зелени деревьев», наслаждалась беседами с жившей там благочестивой дамой преклонных лет, в которой видела «восхитительное воплощение практического христианства»[150 - ЛНТ–ААТ. С. 133–134, 171 (письма от 10 сентября 1858 г. и 16–21 мая 1859 г.; ориг. на фр., за исключением слова «старушка»). В ответных письмах Толстой шутливо подхватывает мотив «доброй старушки» в домике у моря.]. К слову, при небольшом дворе Марии Николаевны, старшей дочери Николая I, разительно похожей на него внешне, культ покойного императора – более или менее общий для всей царской семьи – принимал в 1860?х оттенок фрондирования реформам и вольностям нового царствования. Туда-то и пристало бежать сестре Каренина от погрязшей во грехе невестки. Но, припомнив это нечасто звучавшее на публике – в отличие от самого Петергофа – название, Толстой затем не включает его в текст, вероятно как раз из?за слишком приватного характера Сергиевского, его отождествления с одной из ветвей императорской династии[151 - Автор АК, как он признавал сам, неважно помнил географию петербургских загородных дворцов и дачных мест. Уже после отказа от Сергиевского как места «спасения» Мари Карениной от Анны он в опубликованном в 1875 году журнальном тексте Части 2 по-прежнему помещает дачу Каренина в Парголово, видимо предполагая, что оно находится где-то между Петербургом и Красным Селом (на самом деле – к северу от Петербурга, и Мари в процитированной версии действительно удалена от Анны на значительное расстояние, наверное, даже большее, чем нужно было автору). При переработке журнального текста для первого книжного издания Парголово было заменено на Петергоф (Печатные варианты // Юб. Т. 18. С. 499, 500, 503), что сделало частые встречи Анны и Вронского, находящегося в Красном на маневрах, как и его перемещения накануне скачек, географически правдоподобными. А в настоящее Парголово – в высшем обществе совсем не популярное дачное место – Анну должен был бы сослать на лето более ревнивый и властный муж. О петербургских дачных местах и культуре дачного досуга: Малинова-Тзиафета О. Из города на дачу: Социокультурные факторы освоения дачного пространства вокруг Петербурга (1860–1914). СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2013.В письме от марта 1875 года (Юб. Т. 62. С. 159–160) Толстой просил издателя «Русского вестника» М. Н. Каткова проверить в посылаемой рукописи названия петербургских пригородных мест, но Катков или не внял просьбе, или не заметил несуразности, возникающей из сочетания Парголово – Красное. Письмо опубликовано в 1953 году по копии, снятой еще до революции при систематизации архива Каткова. Переписчик утерянного с тех пор подлинника, не разобрав толстовский почерк, оставил пробел вместо названия как раз того места, насчет которого Толстой сомневался особенно. Этот топоним, судя по приведенным выше текстологическим данным, должен прочитываться именно как «Парголово», так что предположительная конъектура во фразе «В присылаемых теперь главах речь идет о [Петергофе?] и местностях под Петербургом <…>», сделанная публикаторами тома 62 с оглядкой на ОТ романа, ошибочна.].
Еще один мотив, что в авантексте романа фигурирует, как описано выше, эксплицитно, а в ОТ – в пласте аллюзий, находит в биографии А. А. Толстой особенно выразительное соответствие. Это преклонение перед В. А. Жуковским как создателем, выражаясь сегодняшним языком, культурного канона. Подобно не попавшей в ОТ кузине Каренина («старая девушка, унылая и скучная, но торжественная»), Александра Андреевна «знала Жуковского и Мойера». Ее мать Прасковья Толстая, в девичестве Барыкова, дружила с племянницей Жуковского, одной из «прекрасных душ» его руссоистской духовной семьи Александрой Воейковой; Жуковский благоволил и самой Прасковье, и ее дочерям[152 - Соловьев Н. В. История одной жизни. А. А. Воейкова – «Светлана». Т. 2. Пг., 1916. С. 84.]. Приятельствовал с Жуковским и тот, кто был платонической любовью Александры Андреевны, – граф В. А. Перовский, видный военный, в молодости близкий будущим декабристам, на вершине своей карьеры служивший оренбургским и самарским генерал-губернатором и умерший в том же году, когда Александрин сдружилась с Толстым в швейцарском путешествии. В переписке Толстой задал ей прямой вопрос о Жуковском («…которого кажется Вы хорошо знали») уже после публикации АК, в конце 1870?х[153 - ЛНТ–ААТ. С. 353 (письмо Толстого от 27 (?) января 1878 г.), 812 (коммент. публ.); 602 (письмо А. А. Толстой – С. А. Толстой от 16 января 1900 г.).], когда, увлеченный замыслом нового исторического романа, остановился было в поисках героя и сюжета на В. А. Перовском и хотел узнать больше и о его личности, и о круге общения[154 - Высказанное в свое время П. С. Поповым предположение, что Перовский послужил прототипом главного героя в набросках незавершенного произведения «Князь Федор Щетинин», недавно оспорено в толстоведении, однако интерес Толстого к фигуре Перовского не подлежит сомнению. Ср.: Юб. Т. 17. С. 689–692 (коммент.); Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т.: Художественные произведения. Т. 9: 1863–1884. М.: Наука, 2014. С. 421–424 (комм. А. В. Гулина).]. Но имеется также письмо, относящееся к ранней поре их корреспонденции, где Жуковский, как видится мне, преподнесен Толстому непоименованным, но в расчете на узнавание. Отвечая весной 1858 года на тронувшее ее поздравление Толстого с Пасхой, сопровождавшееся изъявлением благодарности за ее расположение к нему, Александрин сделала признание:
Положим, что и есть во мне теплота сердца, но что тут удивительного? Я сама была столько балована, любима и согрета в свою жизнь! А если запас калорифера не истощился, это потому, что я не тратила его (как следовало бы) на всех, а берегла f?r Wenige[155 - ЛНТ–ААТ. С. 100 (письмо от 30 марта 1858 г.).].
Фразы на немецком языке в письмах Толстой весьма редки, и это вкрапление едва ли случайно. «F?r Wenige» («Для немногих») – именно так назывался сборник образцов немецкой романтической поэзии и их переводов на русский язык, который в 1818 году Жуковский издавал малым тиражом, адресуя его в первую очередь своей платонически обожаемой августейшей ученице – молодой жене великого князя Николая Павловича Александре Федоровне, урожденной принцессе Прусской Шарлотте, будущей императрице[156 - Vinitsky I. Vasily Zhukovsky’s Romanticism. P. 179–236.]. Это издание стало компонентом атмосферы куртуазного сентиментализма, подразумевая образ чистой душою, возвышенно одинокой особы монаршей крови, чье счастье и утешение среди толпы льстецов и завистников – истинная дружба со стороны немногих подданных. Привитый позднее к православной религиозности националистического толка, сентиментализм в стиле «f?r Wenige» культивировался и в «интимном кружке» невестки императрицы Александры – Марии, урожденной принцессы Великого герцогства Гессенского и на Рейне, вышедшей замуж за наследника престола цесаревича Александра Николаевича. Жена будущего Александра II близко к сердцу приняла свою новую веру, много лучше предшественниц выучила язык новой родины и стремилась быть, как это понималось ею и ее приверженцами, одной из немногих истинно русских[157 - Уортман Р. Сценарии власти. Т. 2. С. 165–167, 170–171, 249–250.].
Наследие Жуковского играло здесь известную роль. Для Марии Александровны в ее бытность и цесаревной, и императрицей, как и для приближенных к ней религиозных дам, Жуковский (который в 1830?х был педагогом цесаревича, а в 1840-м, уже завершая придворную карьеру, успел преподать начатки русского языка будущей цесаревне) символизировал некое особенно притягательное сочетание добродетелей. Эти поклонницы содействовали и популяризации памяти о поэте. В 1869 году Мария с «большим интересом», как она сама писала об этом, прочитала свежеизданный очерк К. К. Зейдлица о Жуковском и его творчестве – первый опыт биографии поэта[158 - РГИА. Ф. 1614. Оп. 1. Д. 812. Л. 111 (письмо императрицы Марии министру двора А. В. Адлербергу от 30 июня 1869 г.; ориг. на фр.).]. Публикация в «Русском архиве» писем Жуковского императрице Александре Федоровне – привлекшая, как отмечено выше, внимание автора АК – началась в 1873 году по инициативе всё той же Анны Аксаковой, а о цензурном разрешении на печатание первой подборки позаботилась сама Мария[159 - Там же. Д. 197. Л. 1–2 (письмо издателя «Русского архива» П. И. Бартенева А. В. Адлербергу от 6 ноября 1872 г.).]. Как очевидно из присутствия имени поэта-царедворца в варьирующейся саркастической дефиниции светского женского влияния в самых ранних редакциях АК (вспомним дам «высшего петербургского православно-хомяковско-добродетельно-придворно-жуковско-христианского направления»), Толстой, оставаясь чужаком, разбирался в символике, которую фигура Жуковского обрела в придворной субкультуре.
Пожалуй, наибольшее значение для понимания динамики работы над АК, как и подтекста романа, имеют в переписке Толстого и Александры Андреевны те ее письма 1873–1874 годов, где настойчиво сквозит мотив несчастья в правящем доме. Вообще, Толстая была одной из тех придворных дам, чей глубоко личный, эмоциональный монархизм замешивался на своего рода самоотождествлении с горестями и лишениями женщин царской семьи, в особенности императрицы. И в самом деле, Мария Александровна заслуживала сочувствия. В 1865 году 41-летняя болезненная, часто выглядевшая изможденной женщина пережила сокрушительный удар судьбы – смерть любимого сына, наследника престола цесаревича Николая. Через несколько лет ее собственный мучительный недуг бронхов вошел в фазу обострения, и с того времени вплоть до своей смерти в 1880 году венценосная пациентка оставалась заложницей и самой болезни, и длительных курсов лечения, которые плохо совмещались с ее фаталистическим моральным настроем. Наконец, муж, котогого она не переставала любить, с конца 1860?х завел фактически вторую семью с княжной Е. М. Долгоруковой[160 - См. недавнее исследование, помещающее царский роман в широкий политический контекст: Сафронова Ю. Екатерина Юрьевская: Роман в письмах. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2017.], слухи о чем не просто циркулировали широко, но и отразились на восприятии частью подданных самого института монархии, тогда как Мария всегда была не только верной женой, но и, как мы еще увидим, принципиальной охранительницей устоев династии.
Толстая имела богатый опыт наблюдения супружеских неверностей и внебрачных связей в высшем свете, начиная с романа, а затем и морганатического брака своей первой патронессы великой княгини Марии Николаевны. Много лет спустя, в конце 1890?х, она в воспоминаниях изложила собственную версию истории отношений Александра II и Долгоруковой, постаравшись реконструировать в деталях хронологию разрастания династического скандала. Этот назидательный, в викторианском вкусе, не без ханжества, рассказ, местами точно подхватывающий и доводящий до крайности вольный или невольный дидактизм Толстого в АК (как если бы мемуаристка завидовала лаврам племянника, но подражала ему односторонне), возлагает главную ответственность за разврат в доме Романовых на ближайших родственников императора, первыми подавших дурной пример[161 - Толстая А. А. Записки фрейлины. С. 92–94.]. Один из ключевых пассажей напрашивается быть прочитанным как аллегория или иллюстрация к сакраментальному эпиграфу «Мне отмщение, и Аз воздам»:
За свою долгую жизнь при дворе я имела неоднократно возможность наблюдать от начала и до конца незаконные связи <…> Я могу и должна засвидетельствовать, что всякий раз, когда я попадала в подобные обстоятельства и была свидетельницей финала таких связей, я всегда поражалась безжалостной и справедливой воле Провидения. Вдруг на безоблачном небе возникала тяжелая туча и обрушивала странные события, которых никто не мог ни ожидать, ни предвидеть, на головы тех, кто помышлял безнаказанно нарушать Божий Промысел[162 - Толстая А. А. Записки фрейлины. С. 225–226.].
Во фрейлинском кружке императрицы осведомленность об адюльтере императора, подчас порождая ни много ни мало конфликт лояльностей, оборачивалась драматизацией образа Марии Александровны как мученицы. Тема внебрачной связи Александра пребывала табуированной, и упоминать об этом можно было только в келейных разговорах; сама же Мария хранила, по выражению Толстой, «героическое молчание»[163 - Там же. С. 82.] и старалась не выдавать своих чувств оскорбленной жены (свидетельством чему и не прерывавшаяся до последних месяцев ее жизни, ровная по тону переписка между нею и мужем в те – весьма частые в 1870?х – периоды, когда они находились вдали друг от друга[164 - Dolbilov M. A Courtier’s Services near the Battlefield. P. 104–105, 110. Некоторые из писем императрицы мужу от середины 1870?х годов цитируются или упоминаются далее на этих страницах.]). Потому-то изъявление сострадания к императрице держалось столько же на невербальных формах коммуникации, и без того крайне значимых при дворе, сколько на искусстве иносказания и недомолвки.
В 1873 году, когда Толстой приступил к созданию нового романа, тревоги Александры Андреевны были сосредоточены на судьбе дорогой ее сердцу воспитанницы – 20-летней дочери царской четы, великой княжны Марии. Весной того года Толстая в составе небольшой свиты сопровождала обеих августейших Марий, мать и дочь, в путешествии по Италии, где великая княжна должна была ближе познакомиться с искателем ее руки – вторым сыном королевы Виктории принцем Альфредом, герцогом Эдинбургским. В мае Александра Андреевна написала из Сорренто Толстому, который – стоит заметить – к тому времени уже имел пробный эскиз АК с очерченными завязкой, кульминацией и развязкой, но еще далеко не окончил разработку характерологии, фабулы, архитектоники сюжетных линий. Взывающее о сочувствии письмо Толстой являет собою образчик той выспренно-уклончивой манеры, в какой при дворе, а особенно во фрейлинском кружке говорили о разладе в царском семействе; на конкретную причину душевного смятения, переживаемого лично ею, делается в конце концов прозрачный намек:
Мое письмо, дурацки загадочное, вам покажется немного яснее, если я скажу, что речь идет о судьбе моего ребенка (il s’agit du sort de mon enfant). <…> Все это еще усугубляется бесчисленными тревогами, о которых я вам, может быть, расскажу, когда мы встретимся <…> Вы поймете меня гораздо лучше, когда перед вами однажды встанет вопрос о замужестве вашей дочери и вам это покажется не счастьем, а ужасным заговором (cela vous fera l’effet d’une conjuration affreuse au lieu d’un bonheur)[165 - ЛНТ–ААТ. С. 304–305, 306 (письмо от 11/23 мая 1873 г.; ориг. на фр.; перевод заключительных слов пассажа дан в моей редакции). Ответное письмо Толстого, посвященное в основном самарскому голоду, содержит реплику сочувствия корреспондентке в ее волнениях: Там же. С. 307 (письмо от 30 июля 1873 г.).].
О результате «ужасного заговора» – помолвке Марии и Альфреда – вскоре было объявлено во всеуслышание, а еще через полгода, в январе 1874 года, состоялось торжество бракосочетания, скрепившее первый в истории Романовых семейный союз с представителем британского правящего дома[166 - Подробности см.: Hall C. Queen Victoria and the Romanovs: Sixty Years of Mutual Distrust. Stroud: Amberley Publishing, 2020. P. 95–125.]. Александр II не был энтузиастом этого выбора для дочери[167 - Накануне помолвки, 28 июня 1873 года, Толстая записала в дневнике: «Говорила с Государем о том, что нас ожидает. Он покорился, как и я, без всякой симпатии к этому союзу, но мне кажется, у него сила покорности сильнее моей» (РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 2. Д. 43. Л. 92; документ представляет собою машинописную копию перевода подлинного дневника с французского на русский, выполненного Е. А. Масальской-Суриной; подлинник утрачен). О сомнениях родителей насчет брака Марии с Альфредом дают представления письма императрицы императору в апреле – июле 1873 года: ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 789. Л. 39–88 об.]; шатким был и расчет на возможность улучшить таким способом межгосударственные отношения между Россией и Англией[168 - Отголоском циркулировавших слухов о цели этого брачного союза является замечание мемуариста, что Марию «просватали за пьяного англичанина в надежде тем облегчить исполнение своих замыслов в Турции»: Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 1. С. 244.]. Тем не менее празднества по случаю бракосочетания были пышными и проходили как в Петербурге, так и в Москве. Толстая не только присутствовала на всех них, но и настойчиво просила императрицу, чтобы ей дозволили «считаться замужней дамой (?tre considеrеe femme mariеe)» и сопровождать бывшую воспитанницу, уже герцогиню Эдинбургскую, в Англию, – предложение, которое императрица в записке министру двора расценила как «нескромное (indiscret)»[169 - Об этом сама императрица сообщала в декабре 1873 года министру двора А. В. Адлербергу запиской, которая и цитируется мною: РГИА. Ф. 1614. Оп. 1. Д. 813. Л. 33 об. Вероятно, официальный статус Толстой – незамужней придворной дамы, всего лишь фрейлины – не был достаточным для того, чтобы представлять русский двор на торжествах в Англии по случаю прибытия нововенчанной четы. (Возможно, императрица имела в виду и почти откровенное притязание недавней наставницы на материнскую роль.) В конце концов (о чем еще будет сказано ниже) главной дамой свиты, сопровождавшей юную герцогиню Эдинбургскую при въезде в ее новую страну, стала приятельница Толстой княгиня М. А. Вяземская.]. Накануне венчания Марии Толстая поверяла дневнику:
Старый год кончился и новый год начался для меня в слезах. Он похитит у меня мое дорогое дитя, мою милую великую княжну, не говоря о том, что еще тяготит мою душу! Нездоровье Императрицы и обедня без нее омрачают уже без того мрачную картину[170 - РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 2. Д. 43. Л. 97 (запись от 1 января 1874 г.).].
А спустя два месяца Александра Андреевна вновь обратилась с эпистолярным криком души к Толстому:
[У] меня такое чувство, будто я попала в гибнущую Помпею. <…> Я чувствую, что погребена под развалинами. Как и когда я оттуда выберусь, пока не знаю. Бог позаботится, а сама я больше не хлопочу. Весь этот год <…> был как долгая болезнь, закончившаяся агонией разлуки.
Констатация, что Мария вышла замуж «по любви» и что «королевская семья и вся Англия встречают ее с ликованием», сменялась в письме горьким сетованием: августейшие отец и мать «пожертвова[ли] единственной дочерью», выдав ее замуж за иностранного принца, пусть и родовитого, но «которого я нахожу <…> ничтожеством» – «Ни широты, ни пыла (Rien de large, rien de chaud)». Толстая боялась, что Англия, которая «так мелочна, так неискренна», низведет русскую царевну «до своего уровня» (по-русски Толстая могла бы сказать: «опошлит»)[171 - ЛНТ–ААТ. С. 313–314 (письмо от 16 марта 1874 г.; ориг. на фр.). Кроме понятных личных эмоций, в этих оценках проявился и националистический сантимент, высказываемый как бы даже в пику адресату («[М]не кажется, что вы немного англоман»). В дневнике Толстая через несколько лет призналась: «[В] сущности я никогда не могла помириться с тем, что она вышла за англичанина <…>» (РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 2. Д. 43. Л. 97 – недатированный автокомментарий к записям от января 1874 г.). А еще в начале 1860?х годов она писала Толстому о своей тогдашней воспитаннице, еще одной из многочисленных Марий правящего дома – старшей Романовской-Лейхтенбергской, «Марусе» (дочери великой княгини Марии Николаевны), вышедшей замуж за принца Баденского: «Мне хочется своими глазами увидеть, может ли немецкий принц сделать счастливой русскую женщину» (ЛНТ–ААТ. С. 249 [письмо от 25 июля 1863 г.; ориг. на фр.]). В этом свете поворот А. А. Толстой к панславизму в 1870?х годов видится закономерным.].
Метафора «гибнущей Помпеи» передавала не только сокрушение стареющей бездетной женщины при расставании с объектом ее материнских чувств, но и печальное положение дел в большом семействе, которому она преданно служила. В атмосфере оживившихся тогда слухов и пересудов о правящем доме адресат легко мог прочитать между строк письма то, что для нас дополнительно высвечивается сопоставлением с цитированной дневниковой записью, – намек на глубокий разлад между самими венценосными супругами, разлад, без которого столь неудачная, по мнению Толстой, выдача единственной дочери замуж была бы невозможна. Торжества января 1874 года, совместные появления моложавого Александра II и его чахнущей жены на различных церемониях в Петербурге в присутствии необычайного множества гостей еще прочнее связали личность Марии Александровны с ее образом страдалицы и жертвы. Вероятно, и отчуждение между нею и мужем, которому она старалась не дать проявиться в супружеской переписке или на вечерах в своей гостиной, труднее было скрыть, представ перед взорами толпы. П. А. Валуев, высокопоставленный чиновник, но не свой человек в узком придворном мирке, был среди тех, кто обратил особое внимание на императрицу, и не оттого, что та, как гласят другие свидетельства, была украшена необычным даже для роскоши романовского двора каскадом бриллиантов: «Выражение лица императрицы во время этого обряда [англиканской части церемонии бракосочетания. – М. Д.] было до того страдательное нравственно и физически, что при каждом взгляде на нее мои глаза тускнели от приступа слез <…>»[172 - Валуев П. А. Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел / Ред., комм. П. А. Зайончковского. Т. II: 1865–1876 гг. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 292–293. Количеством драгоценностей в наряде императрицы был впечатлен молодой великий князь Николай Константинович, даже назвавший своей американской любовнице Х. Блэкфорд их общую стоимость (см.: [Blackford-Phoenix H. E.] Fanny Lear. Le roman d’une amеricaine en Russie, accompagnе de lettres originales. Bruxelles: A. Lacroix et C
, 1875. P. 273). Оба они появятся ниже на этих страницах в связи с чуть более поздним резонансным происшествием, где тоже не обошлось без бриллиантов.].
Наконец, вернемся к собственно АК. Толстой в тот период не оставался безучастным к придворной злобе дня, какой бы суетной она ни казалась ретроспективно в сравнении с экзистенциальной проблематикой романа, над первой частью которого он именно тогда усиленно работал, или с одновременно увлекавшими его педагогическими спорами об обучении грамоте. На сами торжества в Москве в конце января 1874 года он, разумеется, не выбрался из Ясной Поляны, упустив случай повидаться впервые за почти тринадцать лет с Александрой Андреевной. Но и накануне, и вскоре после этого, когда эхо праздника еще не стихло, он приезжал в Москву – по делам как литературным, так и школьным. На упомянутом выше чтении из АК в начале марта присутствовала Е. Ф. Тютчева, и с нею-то до или после чтения он говорил о Толстой, с которой его собеседница виделась ранее на торжествах. Разговор мог коснуться и тех деликатных материй, которые Толстая не раскрывала в корреспонденции, лишь намекая на них.
Вскоре по возвращении в Ясную Поляну он пишет ей, выражая сочувствие в ее невзгодах, упоминая о своей работе над новым романом («который мне нравится; но едва ли понравится другим, потому что слишком прост») и тут же – как пристало бы любителю великосветской хроники – комментируя прикомандирование двух общих знакомых к особе молодой герцогини Эдинбургской: «Какую прелестную представительницу русских женщин вы выбрали – Кн[ягиню] Вяземскую, и какой жалкий экземпляр русских мужчин – Калошин»[173 - ЛНТ–ААТ. С. 308, 309 (письмо от 6 марта 1874 г.; сокращенное написание титула раскрывается в публикации как «княжна»; чтение «княгиня» дается мною соответственно исправлению ошибки в идентификации носительницы титула). Ответом на это письмо и было то, в котором Толстая живописала «агонию разлуки».]. Княгиня Мария Аркадьевна Вяземская, урожденная Столыпина, невестка поэта и сановника князя П. А. Вяземского и одна из очень немногих придворных дам, в благоволении к которым император и его супруга сходились[174 - См. напр.: Шереметев С. Д. Мемуары. Т. 1. С. 120, 235, 478 примеч.; Он же. Мемуары графа С. Д. Шереметева. Т. 2 / Сост. К. А. Вах, Л. И. Шохин. М.: Индрик, 2005. С. 262–263. Автор мемуаров приходился Вяземской зятем.], как раз и заменила свою хлопотливую подругу Александру Толстую в почетной миссии сопровождения царской дочери в Англию. Свидетельством своего трепетного отношения к царскому семейству княгиня Мария Аркадьевна оставила ведшийся в путешествии дневник и отчеты, которые она с дороги и из Англии слала императрице[175 - РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 4727 (дневник М. А. Вяземской), 4777 (письма императрице). В комментариях к разновременным публикациям цитированного письма Толстого спутница Марии ошибочно идентифицируется как дочь княгини М. А. Вяземской – фрейлина императрицы княжна А. П. Вяземская (Юб. Т. 62. С. 74; ЛНТ–ААТ. С. 791). Толстой еще с начала 1860?х годов знал о дружбе Александры Толстой с М. А. Вяземской (которая, кроме того, могла быть ему знакома как двоюродная сестра его севастопольского сослуживца А. Д. Столыпина и/или как теща кузена Д. С. Горчакова): ЛНТ–ААТ. С. 205 (письмо Толстого от начала августа 1861 г.), 218 (письмо от А. Толстой от 31 марта 1862 г.). Под углом зрения моего исследования важно отметить, что с приватным кружком императрицы имя матери должно было ассоциироваться гораздо больше, чем дочери.]. За несколько дней до того, как Толстой отправил цитированное письмо, русские газеты перепечатывали официальное сообщение из Виндзорского замка об аудиенции, которую по исполнении миссии, накануне возвращения в Россию, Вяземская вместе с другими членами свиты герцогини Марии получила у королевы Виктории[176 - Новое время. 1874. № 61, 5 марта. С. 1. Ср.: Court Circular // The Times. № 27952. March 16, 1874. P. 9.].
Второй придворный в названной Толстым паре, когда-то его друг Дмитрий Павлович Колошин, чья нелестная характеристика в письме разрастается до целого пассажа: «Он именно тот несуществующий русский человек, вертлявый (умом), без цели, от слабости подделывающийся под европейскую внешность, без правил, убеждений, без характера <…>», – ехал в Англию в качестве личного секретаря герцогини Марии, своего рода связного между нею и Министерством двора в Петербурге[177 - ЛНТ–ААТ. С. 309. В ответном письме Толстая, не снимая с себя ответственности за назначение Колошина, в целом согласилась с данной ему характеристикой (Там же. С. 312, 315). За сто с лишним лет, прошедших с первой публикации письма Толстого, на упоминание антипатичного ему «Калошина» нанизалась вереница разногласий между комментаторами относительно как личности носителя этой фамилии, так и меры информированности Толстого о составе группы, отбывавшей с Марией в Англию: Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857–1903. СПб., 1911. С. 249; Юб. Т. 62. С. 74; ЛНТ–ААТ. С. 791; Белоусова Е. П. Колошин Дмитрий Павлович // Лев Толстой и его современники. Вып. 3. С. 255–256. Хотя последняя из указанных работ верно разрешает сомнения в пользу Д. П. Колошина, его назначение секретарем Марии, что и имеет в виду Толстой (в отличие от непосредственного членства в собственно свите), остается автору неизвестным, отсюда напрасное допущение, что Толстой, называя Колошина в связи с бракосочетанием дочери императора, «действительно ошибся». См. дело Министерства двора о службе Д. П. Колошина при герцогине Эдинбургской: РГИА. Ф. 472. Оп. 23. В/о 258/1274. Д. 27.]. Осведомленность Толстого в тонкостях статуса и обязанностей спутников Марии примечательна. Противопоставлением «прелестной представительницы» и «жалкого экземпляра» автор АК словно продлевал за пределы творимого романа формирующуюся там галерею пар – воплощений многоразличных комбинаций фемининности и маскулинности.
Более того, с учетом динамики создания АК можно предположить, что хрестоматийной фразой из зачина романа, «Все смешалось в доме Облонских», мы отчасти обязаны всплеску интереса Толстого к семейным событиям в правящем доме. В литературе давно отмечен ее прообраз в написанном несколько раньше, в 1872 году или начале 1873-го, варианте начала романа об эпохе Петра I: «Все смешалось в царской семье»[178 - Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Т. 9. С. 171; см. также статью о создании текста: <Роман из времени Петра I>: Комментарии // Там же. С. 460 (автор раздела – И. П. Видуэцкая). С зачином АК и процитированное предложение, и следующее за ним созвучны как построением фразы, так и ритмикой речи и даже сколько-то лексикой («смешалось», «связалась» – «в связи»): «Царевна связалась с братом двоюродным [Б. А. Голицына] Васильем Васильевичем, настроила Ивана царя и Петра царя забросила, и народ весь был в смущенье». Ср.: «Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами» (7/1:1). См. также: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы // Он же. Лев Толстой: Исследования. Статьи. СПб., 2009. С. 630.]. Однако тот факт, что будущее присловье перекочевало в АК не сразу в этой форме, а проделав петлю метаморфоз, не оценен по достоинству.
Первая попытка открыть повествование емкой, энергичной фразой, из которой дальше проросло бы описание обстановки семейного разлада, была предпринята в январе или феврале 1874 года. Это была та стадия работы, когда Толстой рассчитывал вскоре завершить роман и издать его отдельной книгой, а потому спешил подготовить к типографскому набору первую часть. Уже избрав эпиграфом ко всей книге библейское изречение, а эпиграфом к данной части – собственный афоризм «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», автор пробует заменить размеренный зачин предыдущей редакции новым, более броским и захватывающим. Это новое предложение обрывается в момент его подъема к сложноподчиненной конструкции, как если бы оно превысило отведенный лимит: «В Москве, в доме Облонских, произошло нравственное землетрясение, все смешалось и сделался хаос, оттого что жена»[179 - Р18: 1 (фраза вычеркнута). См. также: ОпР. С. 196. В этой же рукописи автор возвращает роману заглавие «Анна Каренина», вместо которого на предыдущем, коротком, отрезке генезиса наличествовал вариант «Два брака».]. (От соблазна допустить генетическую связь «нравственного землетрясения» и «хаоса» с «гибнущей Помпеей» из цитированного выше письма А. А. Толстой уберегает бесспорная датировка последнего более поздним периодом, но стилистическое созвучие примечательно.) За этим следует правка, которая превращает эпиграф о счастливых и несчастливых семьях в первую фразу романа и ставит задачу резвого запуска самого рассказа теперь уже перед вторым предложением, вписываемым взамен пробы с сейсмической метафорой: «Все спуталось и смешалось в доме Облонских»[180 - Р18: 1.]. Правка продолжилась в следующей рукописи, той самой, которую в марте 1874 году Толстой отвезет в Москву для сдачи в набор: слова «спуталось» и «смешалось» меняются местами[181 - Р19: 1.]. И уже по ходу вычитки одной из корректур Части 1[182 - Гранок 1874 года с этой поправкой, как и вообще правленых гранок первых десяти глав Части 1, не сохранилось (см.: ОпР. С. 227–229), но в датируемой августом – сентябрем 1874 года верстке Части 1, которая предназначалась пока не для журнальной, а для книжной публикации (и чей текст еще подвергнется существенной доработке перед началом сериализации в «Русском вестнике» в начале 1875 г.), веская фраза читается уже без лишнего «и спуталось» (К139: 517; описание т. наз. дожурнальной верстки см.: Гудзий Н. К. Описание рукописей и корректур, относящихся к «Анне Карениной» // Юб. Т. 20. C. 675).] Толстой, отбросив второй глагол, наконец вычеканивает «Все смешалось в доме Облонских».
Не обстояло ли дело так, что мысль автора постепенно пробивалась к уже найденной и использованной в другом проекте, но с тех пор полузабытой (ведь провал замысла петровского романа был немалым разочарованием) словесной формуле? Иными словами, обрабатываемое выражение заострялось, сближаясь с аналогом-предтечей «Все смешалось в царской семье», по мере того как Толстой все больше узнавал о происшествиях и неладах не в старомосковской, а современной царской семье, и письма придворной родственницы все драматичнее намекали на ожидание еще худшего кризиса. Продолжая трудиться над фабулой превратностей счастья и несчастья в жизни вымышленных героев, он помещает мотив «царской семьи» в план подтекста и аллюзии, чем усиливает эффект светотени, переливов были и фантазии в изображении определенной социальной среды[183 - Датируемая февралем 1874 года наборная рукопись Части 1, где автор продолжил шлифовку зачинной фразы «Все смешалось <…>», содержит частную, но интересную для нашего анализа поправку в следующей за вступлением сцене, а именно в мысленной речи Степана Аркадьича, старающегося припомнить свой сумбурно-фривольный сон. Как минимум в двух предшествующих редакциях некто Алабин (такова, к слову, была фамилия Стивы в ранних редакциях – не снится ли ему собственный двойник из глуби авантекста?) «давал обед в Нью-Иорке [в ориг.: Ньюioрк. – М. Д.] на стеклянных столах <…>» (ЧРВ. С. 93 (Р17); Р18: 1 об.–2). То, что имеется в виду город, а не ресторан, ясно из реплики: «Как там все в Америке бестолково, но хорошо было» (ЧРВ. С. 94). Правка же, сделанная в наборной рукописи, лишает локализацию определенности: «Да, Алабин давал обед в Дармшта[д]те, нет, не в Дармшт[адте], а что-то американское. Да, но там Дармшта[д]т был в Америке» (Р19: 1 об.; вариант перешел в ОТ [7/1:1]). Выскажу осторожное предположение, что это раздвоение (добавляющее онейрологического правдоподобия Стивиному припоминанию сна) могло быть связано с ассимиляцией авантекстом придворной злобы дня: Дармштадт был столицей Великого герцогства Гессенского на Рейне (в обиходе часто звавшегося Гессен-Дармштадтским или просто Дармштадтским), родины императрицы Марии Александровны; и она, и император гащивали там вместе и порознь, так что ассоциация царской семьи с Дармштадтом была устойчивой. Если моя догадка верна, то «Дармштадт в Америке» с такими чудесами, как поющие столы и «какие-то маленькие графинчики, и они же женщины» (8/1:1), предстает иронической аллегорией – особенно уместной в тот период – столкновения чинных дам правящего дома со свободными нравами иной светской среды. Известная интерпретация сочетания «Алабин, Дармштадт, Америка», предложенная Набоковым (Набоков В. В. Лекции по русской литературе / Пер. с англ. Ив. Толстого. М.: Независимая газета, 2001. С. 284), представляется мне натянутой, в особенности касательно идеи Дармштадта, не говоря уже об игнорировании ею черновых редакций романа.]. Спустя год эта суггестивность романа отозвалась косвенным эхом в дневнике Александры Андреевны. В одной из записей февраля 1875 года похвала напечатанному накануне первому выпуску АК в «Русском вестнике» символически соседствует с возгласом тревоги, даже и тут приглушенным недомолвкой, за благополучие правящей семьи:
Приезд Государыни [из Сан-Ремо, где она проходила долгий курс лечения. – М. Д.] объявлен 23-го. Слишком жду его, чтобы верить этой радости. Только живущие в этом доме знают, что значит ее присутствие здесь. Утро провела <…> за чтением последнего романа Льва Толстого. Прелесть[184 - РГАЛИ. Ф. 318. Оп. 2. Д. 43. Л. 102 (запись от 7 февраля 1875 г.).].
Реминисценции действительности двора и бомонда начали еще теснее вплетаться в сюжетную ткань АК, когда авантекст обогатился экскурсами в ту аристократическую субкультуру, где фрейлина императрицы служить чичероне никак не могла.
3. Антропология гвардейского либертинства[185 - Для уяснения того, как обсуждаемые в этом параграфе редакции соотносятся между собой, см. Извлечение 1 на с. 122–127.]
Толстовский поиск того, как лучше изобразить и вобрать в вымышленный мир АК неоднородность и внутреннюю конфликтность петербургского высшего света и действующих в нем неписаных норм взаимоотношений и социализации, как и этикета дозволенного нарушения этих норм, особенно интересно отразился в авантексте Частей 2 и 3 АК. На рубеже зимы и весны 1874 года текст большинства глав Части 1 уже начал набираться в московской типографии (этому набору, напомню, не было суждено выйти из печати). Больше того, многие серии глав последующих частей – например, об Анне, Вронском и Каренине в день красносельских скачек (2:18–29) – находились на стадии аккуратно изготовленных С. А. Толстой беловиков (как вскоре после того станет ясно, отнюдь не финальных)[186 - Детали см. на с. 236 наст. изд.]. Именно тогда Толстой, отступив несколько назад в хронологии действия, расширяет в новых рукописях серию глав, в ОТ распределенных между финалом Части 1 и первой третью Части 2, о сближении Анны и Вронского зимой в Петербурге. В этих-то черновиках, помимо «интимного кружка» императрицы, выпукло и узнаваемо проступает тот сегмент большого света, который в невымышленной реальности был антиподом и благочестия, и «восторженного тона». Это – либертинская среда светских львиц и львов, смыкающаяся с гвардейской золотой молодежью и смежная с несколькими дворами или неформальными котериями великих князей, а отчасти – и с официальным двором самого Александра II[187 - Термин «либертинство (либертинаж)» употребляется мной в широком значении демонстративного поведения, так или иначе предполагающего вызов моральным авторитетам и социальным условностям. Эстетизированное распутство аристократии, процветавшее в 1860–1870?х годах, имело, конечно же, лишь отдаленное отношение к оригинальному, бытовавшему еще в дореволюционной Франции понятию libertinage, в котором свобода нравов и агрессивный гедонизм смыкались с политическим и религиозным свободомыслием, вольтерьянством. Если либертены большого света эпохи АК и вносили лепту в подрыв устоев монархии, то только косвенно и непреднамеренно. Об избирательной рецепции французского либертинажа в России см.: Дмитриева Е. Французский либертинаж и его русские отголоски // Делон М. Искусство жить либертена: Французская либертинская проза XVIII века. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 833–860, особ. 837–838, 852.]. Проводником читателя по веселящемуся Петербургу, в черновых зарисовках которого дразнящий мотив трансгрессии и непристойности звучит явственнее, чем в ОТ, служит, разумеется, Вронский.
На этом – недолгом – отрезке генезиса АК персонаж, прежде чем бесповоротно стать графом Вронским, вновь фигурирует под титулом и фамилией из редакций 1873 года: князь Удашев. Высший родовой титул дворянина сочетается с фамилией, в семантике которой слышатся и удаль, и удача, и, возможно, мужественность в ее сугубо физиологическом аспекте. Более того, на одну из написанных с чистого листа вставок, притом четко датируемую мартом – началом апреля 1874 года, приходится момент, когда в генезисе текста к знатности и богатству героя добавляется блеск престижного флигель-адъютантского звания. И в черновом автографе[188 - Р28: 10–14 об. Датируется указанным периодом на основании письма, в котором анализируемый фрагмент романа упоминался, как это очевидно, накануне, в момент или сразу после написания первого черновика. А именно, между 15 и 25 марта 1874 года Толстой обратился к свояченице Т. А. Кузминской с просьбой узнать у ее брата А. А. Берса, можно ли включить в роман слышанную от него «историю <…> об офицерах, разлетевшихся к мужней жене вместо мамзели» (Юб. Т. 62. С. 74). Также о датировке написания гвардейских сцен см. примеч. 2 на с. 130, а также параграф 2 гл. 2 наст. изд.], и в ОТ (2:5) Удашев/Вронский начинает рассказывать, а нарратив продолжает и заканчивает полную забавных деталей историю – о двух молодых подгулявших офицерах, нарвавшихся на энергичный отпор со стороны чиновника, чью юную законную, а вдобавок к тому беременную жену они приняли за лоретку. Оскорбленный муж – титулярный советник с «бакенбардами колбасиками» и, в масть к ним, немецкой фамилией Венден – намеревается подать официальную жалобу на повес, тогда как с их точки зрения обидчиком является он сам, причем таким обидчиком, который в силу разницы в статусе между гвардейцем и невысокого происхождения штатским не может быть вызван на дуэль за урон, нанесенный чести офицера. Задача примирения достается Вронскому. В самом этом эпизоде его флигель-адъютантство, особенно вместе с княжеским (выше графского) титулом исходной редакции, – прежде всего подробность, оттеняющая социальным колоритом психологическую достоверность успеха затеянного «миротворства»:
П[олковой] к[омандир] и У[дашев] оба понимали, что имя Удашева и флигель-адъютантский вензель должны много содействовать смягчению тит[улярного] сов[етника]. <…> Все казалось прекрасно кончено; но т[итулярный] с[оветник] хотел поделиться за папиросой с своим новым знакомым, князем и ф[лигель-] а[дъютантом], своими чувствами, тем более что Удашев нравился ему[189 - Р28: 12, 13–13 об. Большой фрагмент из правленой копии этого автографа опубликован: ЧРВ. С. 196–201 (Р31).].
В самом деле, звание флигель-адъютанта – младшее среди особых военно-придворных званий[190 - Это звание не подменяло собою регулярный военный чин по Табели о рангах: Вронский на данный момент пока лишь ротмистр, но позднее в романе, в согласии с правилами гвардейского чинопроизводства, получит чин полковника. Со времени Крымской войны, когда новый император Александр II начал щедрыми пожалованиями быстро расширять состав военной свиты, звание флигель-адъютанта становится для Толстого одной из эмблем светского тщеславия (замечавшегося им в то время и в себе самом). «Насчет Флигельадъютантов – их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки <…>», – писал он в 1856 году В. В. Арсеньевой (Юб. Т. 60. С. 82 – письмо от 23 августа 1856 г.). Это в последующие годы отразилось и в его произведениях. В Первой завершенной редакции «Войны и мира» Жюли Карагина жаждет выйти за Бориса Друбецкого в особенности потому, что тот – флигель-адъютант (Литературное наследство. Т. 94. С. 543). Исторически Толстой точен: звание уже существовало в начале XIX века, – но аллюзия к 1860?м здесь, пожалуй, значимее. См. также: Красносельская Ю. И. Кто оставил Льва Толстого в Петербурге? («Флигель-адъютантская» протекция в жизни и творчестве писателя) // Slavica Revalensia. 2018. Vol. 5. C. 9–37.] – давало постоянное членство в императорской свите, было сопряжено с почетными и ответственными поручениями императора (каким, например, позднее в романе будет для Вронского сопровождение жуирующего иностранного принца [4:1]) и часто открывало быстрый путь к вершинам карьеры. Быть флигель-адъютантом почти всегда означало быть лично знакомым монарху, а главное – на виду и на слуху у него. При Александре II, несмотря на некоторую девальвацию свитских званий как таковых вследствие частых пожалований (к началу 1880?х годов военная свита разрослась до 400 человек, и флигель-адъютанты составляли ее огромное большинство)[191 - Шепелёв Л. Е. Чиновный мир России. XVIII – начало XIX в. СПб.: Искусство–СПб, 1999. С. 412–413.], многих носителей этого звания, особенно гвардейских ротмистров или полковников, добавочно возвышала известная публике неформальная, отеческая приязнь императора к уже отмеченным его милостью молодым офицерам.
В исходной редакции интермедии с Удашевым-миротворцем имеется нюанс, который, вторя акценту на флигель-адъютантском вензеле, помогает уловить незримое присутствие монаршей фигуры: злополучный Венден (недаром знающий толк в подаче жалоб) служит не где-нибудь, а в «комиссии прошений»[192 - «Чиновник комиссии прошений титулярный советник Венден»: Р28: 11 об.]. Именно так и в бюрократической номенклатуре, и в обиходе называлось специальное учреждение при персоне императора, куда надлежало обращаться всевозможным искателям благодеяния с высоты трона – пособия, пенсии, защиты от несправедливости, помилования и т. п.[193 - См.: Ремнев А. В. Канцелярия прошений в самодержавной системе правления конца XIX столетия // Исторический ежегодник. 1997. Омск, 1998. С. 17–35; Engel B. A. Breaking the Ties That Bound: The Politics of Marital Strife in Late Imperial Russia. Ithaca: Cornell University Press, 2011. P. 18–29.] По долгу службы повседневно причастный к какой-никакой коммуникации подданных с самодержавным правителем, но сам находящийся не намного ближе к олимпу, чем те же просители[194 - В интертекстуальном сообществе толстовских героев Вендену, вероятно, подошла бы заостренно сословная аттестация, которую – с точки зрения великорусского столбового дворянина – получает Берг, хрестоматийный служака-немец в «Войне и мире»: «сын темного, лифляндского дворянина» (Юб. Т. 10. С. 187 [Т. 2, ч. 3, гл. XI]). Одноименный с фамилией персонажа старинный город Венден, который еще будет упомянут на этих страницах, находился именно в Лифляндской губернии.], титулярный советник из комиссии прошений должен по достоинству оценить притягивающую взгляд серебряную вязь «А II» – монограмму императора на эполетах собеседника.
В дальнейшей правке князь Удашев вновь становится графом Вронским, но его флигель-адъютантство – возникшее как функциональный штрих в конкретных сценах[195 - В генезисе АК Вронский (точнее, Удашев) впервые наделяется флигель-адъютантским статусом в начале 1874 года, то есть не в самых ранних редакциях, а на той стадии писания, когда Толстой рассчитывал вскоре завершить проект и издать роман отдельной книгой, без журнальной сериализации. В усиленно перерабатывавшейся тогда Части 1 и наново творившихся главах Части 2 рельефнее прежнего выступает петербургская тематика романа. Именно в этой связи, примерно в то же время, когда в роман включается анекдот о неудачном флирте, где вензель помогает в миссии примирения сторон, в сюжетно смежном месте автор правит само представление персонажа в сцене беседы двух других, добавляя, в частности, реплику Стивы Левину: «…Удашев, флигель-адъютант, богач, влюблен в Кити и ездит к ним каждый день» (Р18: 4 об.; правка в дожурнальной наборной рукописи Части 1, вероятно по недосмотру автора, полностью удалила эту реплику (Р19: 43), и она уже в новой версии, близкой к ОТ (46/1:11), была восстановлена при вычитке дожурнальных корректур летом 1874 года, с одновременной заменой «Удашев» на «Вронский» [К118: 1]). Ср. интродукцию персонажа в более ранних редакциях, где его флигель-адъютантство не упоминается: ЧРВ. С. 110 (Р12), 125 (Р17). О двух стадиях в генезисе романа, когда персонаж именовался «Удашев», см. примеч. 3 на с. 269–270.] – остается. Более того, оно становится чертой в основной характеристике Вронского, который, в отличие от предыдущих редакций, где персонажу присущи безразличие к светскому успеху и даже нарочитая несветскость, обладает придворным честолюбием. ОТ представляет Вронского в этом качестве при первом же упоминании о нем в романе. «Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант <…>», – говорит о нем Облонский Левину (46/1:11)[196 - Как в уже цитированном исходном автографе этого фрагмента (Р18: 4 об.), так и в ОТ Стива тут же сообщает: «Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор» (46/1:11). Это не случайно: надзор за производством рекрутских наборов был одним из наиболее частых поручений императора флигель-адъютантам. Интересно, что в ОТ флигель-адъютантство упоминается в интродукции также и Левина, хотя и от противного: «[Е]го товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже – который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который директор банка и железных дорог или председатель присутствия <…>» (30/1:6).].
Почти одновременно с историей об эскападе незадачливых ловцов камелий в авантекст романа вошел другой нравоописательный «либертинский» эпизод, и тоже в форме рассказа, почти пантомимы персонажа. Реквизит поклонникам романа должен быть памятен: кавалерийская каска, груша, большущие конфеты от дворцового кондитера. Пока Удашев/Вронский находится в Москве, в его петербургской квартире живет его младший сослуживец Пукилов – ему?то вскоре в генезисе текста, уже под фамилией Петрицкий (так и в ОТ), предстоит поучаствовать в погоне за госпожой Венден. Но и до этого у него есть чем зарекомендовать себя. Удашев, вернувшись домой, застает товарища навлекшим на себя череду крупных неприятностей, чем лишь подогревается охота того к дебошу. И исходная редакция[197 - Р28: 4 об.–6. О генетической связи между автографами двух гвардейских анекдотов – о каске и о неудачном флирте – см. также примеч. 2 на с. 130.], и ОТ (1:34) не скупятся на подробности в описании стиля жизни гвардейского гуляки, чьей – уже опостылевшей – любовнице, баронессе Шильтон, муж угрожает бракоразводным процессом. Одним словом, скандал громоздится на скандал. И все-таки, несмотря на терпкую – особенно по меркам того времени – откровенность подобных картинок в АК, они обретают настоящую рельефность при сопоставлении со свидетельствами, исходящими от невымышленных Вронских и Петрицких. Отвлечемся ненадолго от увековеченного Толстым анекдота, чтобы вернуться к нему с дополнительной аналитической линзой.
Одним из ближайших аналогов компании, где кутят, делают долги, совокупляются с проститутками (и не только) гвардейские персонажи АК, был в ту пору кружок великого князя Владимира Александровича, второго по старшинству из живущих сыновей императора, бонвивана с артистической жилкой и без мешающих сибаритству политических и военных амбиций. В свите великого князя – в особенности до его женитьбы, которая состоялась в том же 1874 году (ему было 26 лет), – затейливое ухарство не только широко практиковалось, но и получало значение некоей эстетической программы, что выражалось в подчас изощренных живописаниях разнообразных действий и положений. Наперсником Владимира и главным певцом увеселений кружка, а в каком-то смысле и творцом эстетизирующего дискурса был бойко владевший пером адъютант его высочества, начавший службу в блестящем лейб-гвардии Гусарском Его Величества полку, граф Павел Петрович Шувалов, в петербургском свете известный под прозвищем Боби, – любопытный тип либертена-интеллектуала. (Историкам он известен преимущественно как один из организаторов «Святой дружины» 1881–1882 годов, – заявка на роль охранителя устоев, которую не так легко было бы предсказать за десять лет до того[198 - Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850?х – середина 1870?х гг. М.: Русское слово, 2002. С. 315–317.].) Неплохо образованный аристократ, почтительный сын, помощник отца в управлении имениями, заводами и копями (состояние было огромным), чуткая, способная к интроспекции натура, он же был и циничный прожигатель жизни, который, как явствует из его собственных писем, лечился в те самые годы и от морфинизма, и от сифилиса. Именно в ответ на некую эпиграмму по своему адресу от сотоварищей по кутежам, напоминавшую о расплате за сексуальные излишества, Шувалов сочинил непристойный стишок, где запечатлена принятая в той среде манера взаимного бравирования маскулинным молодечеством:
Друзья, вы правы: но пока
В душе горит огонь желанья
И не дрожит моя рука
В часы разврата и лобзанья;