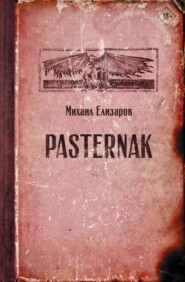По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Библиотекарь
Автор
Год написания книги
2007
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Возможно, история преувеличивает душевные качества бродячих «апостолов», и на самом деле хотели они, как и все библиотекари, личного господства, также пытались создать книжные общины, но не справились с миссией.
Это странное бескорыстие несколько противоречило специфике тайны. Всякий новый читатель, приобщённый к Громову, понимал, что Радости, Терпения или Памяти на всех не хватит и лучше о Громове помалкивать. В коллективе проще было сохранить Книги и преумножить их число, поэтому и перевелись эти одинокие бродячие открыватели. Новых же читателей выбирала сама библиотека. Охотнее вербовали людей одиноких, бессемейных, с надломом, долго присматриваясь к кандидату: достоин ли тот стать причастным чуду, сможет ли его хранить и оберегать, а если надо, отдать жизнь.
Словом, конкурентов у Лагудова оказалось достаточно. Вскоре из всех мало-мальски значимых мирских библиотек вместе с Книгами таинственным образом пропали библиографии Громова. Даже в Ленинке кто-то изъял всю информацию в картотеке. После компьютеризации данные об отсутствующем авторе, соответственно, никуда не вносились, и Громов формально исчез. На стеллажах тоже похозяйничали. Без картотеки оставалось лишь гадать о подлинном количестве публикаций.
У собирателей Громова к началу девяностых был перечень из шести уже опробованных Книг. Еще имелись сведения о седьмой, которую называли Книгой Смысла. Считалось, с её обнаружением прояснится истинное назначение творчества Громова. Пока никто не мог похвастать найденным Смыслом, а некоторые скептики утверждали, что такой Книги просто не существует.
Полное собрание сочинений рассматривалось всеми библиотеками как гигантское заклинание, которое должно было дать некий глобальный результат.
Лагудовские теоретики говорили о «состоянии богоподобия», длящемся в таком же временном отрезке, как действие любой отдельной Книги. Какие выгоды можно извлечь из этого состояния, никто не знал, справедливо полагая, что в шкуре Бога в голову придут идеи надчеловеческие. Рядовым читателям сообщалось: Лагудов, ставший Богом, сразу позаботится о своих соратниках.
Велись разговоры о конце света, «книжной интоксикации», грозящей смертью читающему, или о том, что все Книги, прочитанные зараз, поднимут мёртвых. Но это были лишь гипотезы.
Предполагалось, что полное собрание сочинений могло находиться у самого Громова, но, когда Лагудов приступил к поискам, Громов давно умер, квартира отошла посторонним людям, которые в первую же неделю избавились от хлама.
Единственная дочь Громова, Ольга Дмитриевна, проживала с семьёй на Украине. Под видом журналистов её посетил человек Лагудова и с огорчением узнал, что имевшиеся у неё две Книги она подарила случайному посетителю, который представился литературоведом, изучающим творчество её отца. Названий книг Ольга Дмитриевна тоже не запомнила. Вроде бы это были Книги Памяти и Радости.
Лагудов, конечно же, выяснил, кто опередил его, но проку в том было немного. Идти на вооружённый конфликт с конкурентами Лагудов не стал. В конце концов, его никто не обманывал, противник просто оказался проворнее, и винить стоило только себя. Лагудов сделал выводы на будущее и утроил усилия.
У Громова был брат Вениамин, которому он тоже слал свои книги. С этим братом Лагудову повезло: кроме имеющихся уже Книг Памяти и Радости, нашлась довольно редкая и ценная Книга Терпения «Серебряный плёс». Действуя как морфий, Книга намертво удерживала в библиотеке всех страждущих…
Годы систематических поисков не прошли бесследно. В лагудовском хранилище, по слухам, находилось восемь Книг Радости, три Книги Терпения и не меньше дюжины экземпляров Книги Памяти – «Тихие травы» издали последней, и она сохранилась лучше других: её в мире насчитывалось до нескольких сотен экземпляров. Книга Памяти была полезна стратегически – с ней легко вербовались и удерживались читатели, падкие на чувство умиления.
Две Книги Памяти и квартира в центре Саратова были обменены на опасную Книгу Ярости «Дорогами труда», способную пробудить состояние боевого транса даже в самом робком сердце.
Остальные Книги надо было ещё поискать. Большие надежды возлагались Лагудовым на дальние регионы страны и ближнее азиатское зарубежье, где Книги Громова теоретически могли сохраниться, потому что к началу девяностых на территории Центральной России, Восточной Украины и Белоруссии все лежащие «на поверхности» Книги были подобраны собирателями различных библиотек.
Когда же поиск затруднился, в ход пошли средства далеко не самые благородные. Всё чаще практиковались разбойные нападения на хранилища.
Примерно в то же время активизировались так называемые переписчики – читатели, копирующие Книги для продажи и личного обогащения. Переписчики утверждали, что действие копии не отличается от печатного оригинала.
Рукопись почти всегда содержала какие-нибудь ошибки или пропуски слов и оказывалась пустышкой. Не действовали и вроде бы исключающие погрешности ксероксы. Думали, решающее значение имеет полиграфия, и некоторые Книги были подпольно переизданы. О качестве репринтной «липы» ходила противоречивая информация. В любом случае повсеместно утверждалась мысль, что копия никогда не сравнится с подлинником.
Фальшивки спровоцировали множество стычек, в результате которых не одна оступившаяся библиотека прекратила существование. Переписчики были вне закона, их уничтожали свои и чужие. Но в одном они преуспели – появилось довольно много подделок.
Тогда же начались случаи вандализма. Продавались и обменивались оригинальные Книги с искусно удалённой страницей, вместо которой вклеивалась любая другая из похожей бумаги. Понятно, изувеченная Книга не действовала. Если раньше обычно ограничивались беглым просмотром Книги, то после таких инцидентов пересчитывали страницы, сличали их на предмет шрифта, качества бумаги.
Между библиотеками никогда не существовало особого доверия, никто не желал усиливать мощь конкурента. Обмены или продажи были весьма редки, и любое мошенничество вызывало кровопролитный конфликт.
Бой проводился в глухом месте, обставлялся торжественно – представители библиотек несли Книги, закреплённые на шестах, как хоругви. Вначале это были оригиналы, затем их частенько заменяли муляжами. Огнестрельное оружие категорически запрещалось. Речь шла не только о своеобразном ратном благородстве. Резаные или дроблёные раны для внешнего мира, с его моргами, больницами и правоохранительными структурами, всегда было проще замаскировать под несчастный случай, обычную «бытовуху». Пулевые ранения исключали любую иную трактовку. Кроме прочего, этот вид оружия был шумным.
Обычно в бою использовались предметы хозяйственного обихода – ножи мясницких размеров, топоры, молотки, ломы, вилы, косы, цепы. В целом отряды вооружались на манер крестьянского воинства Емельяна Пугачёва или чешских гуситов, и вид этих людей неизменно возвращал к идиоме «смертельный бой», потому что с косой и разделочным топором смерть была особенно ощутимой…
Лагудова же в последние годы, кроме ближайших соратников, никто не видел. Поговаривали, Валериан Михайлович затаился, опасаясь наёмных убийц из конкурирующих библиотек.
Шульга
Николай Юрьевич Шульга был пятидесятого года рождения. Рос пугливым и застенчивым, в школе учился хорошо, но отличался нерешительностью. В результате простудного заболевания у Шульги развился лицевой тик. Ему сделали несколько неудачных операций, оставивших глубокие шрамы. Шульга очень стыдился своего недостатка, усугублённого громоздкими очками. Товарищей он практически не имел. В шестьдесят восьмом году Шульга поступил в пединститут, но на третьем курсе бросил учебу и завербовался на северную комсомольскую стройку, где, по его словам, «людей ценят не по внешности, а за трудовое мужество».
Пару лет Шульга, ломая интеллигентскую натуру, был разнорабочим в нефтеразведке, труд оказался тяжёл и неинтересен, над ним всё равно посмеивались, потому что отнюдь не героического вида Шульга объяснял происхождение тика и шрамов неудачной охотой на медведя.
В семьдесят втором Шульга подрядился в партию промысловиков по пушному зверю. В бригаде было ещё два охотника и проводник из местного населения. Метель загнала их в избу и на месяц похоронила под снегом. Многовековой таёжный опыт предупреждал об опасностях коллективного заточения. Проводник сотворил заговор, чтоб люди от замкнутого отчаяния не постреляли друг друга.
Народное колдовство не сработало, пересиленное более могучим средством. Всё кончилось бедой. Прошлый жилец оставил, кроме солонины и дроби, с десяток книг вперемежку с газетами – на растопку. Шульга от скуки принялся за Громова. Ему досталась Книга Ярости «Дорогами Труда». В литературе он понимал мало, и унылость текста соответствовала его темпераменту. Так Шульга выполнил два необходимых Условия – Тщания и Непрерывности.
А после прочтения Книги в избушке началась смерть. Пытаясь скрыть преступление, Шульга расчленил убитых и отнёс в тайгу. Останки были обнаружены поисковой группой. Трупы удалось опознать. Шульга предстал перед судом. Вины он не отрицал, искренне раскаиваясь в содеянном. Чудовищный свой поступок истолковывал отравлением «соболиным ядом», который был у промысловиков, – чтобы не портить ценные шкурки, зверьков травили. Он утверждал, что яд каким-то образом попал ему в пищу.
Шульга рассказал, как при свече читал, а потом почувствовал «изменённость состояния», будто по всему телу пробежал кипяток.
Скорее всего, в адрес Шульги слетело обидное слово. К примеру, сказали: «Хватит, мудила дёрганый, свечки на херню переводить». Озлобленные вынужденным заточением люди особо не церемонятся с выражениями, а теснота даёт достаточно поводов для грубости.
Шульга испытал всплеск нечеловеческой агрессии, схватился за топор и порешил проводника и охотников. Через несколько часов гнев выветрился, пришло осознание содеянного.
Шульге сделали соответствующие анализы и никаких последствий яда в организме не обнаружили. Учитывая его раскаяние, помощь следствию и психогенный клаустрофобический фактор преступления, высшую меру заменили пятнадцатью годами строгого режима.
Грозная статья не помогла Шульге в лагере. Далёкий от уголовной казуистики, он, простодушно отвечая на расспросы, упоминал, что проучился «два года в педе». Долговязый, щуплый, в очках, с прыгающей щекой, ещё в следственном изоляторе получивший кличку Завуч, Шульга был идеальным объектом глумления. Подавленным невзрачным видом он сам определял себе статус в лагере – где-то между забитым «чушком» и «шнырём», вечным уборщиком.
Отчаяние и страх терзали Шульгу. Исправить что-либо в своей жизни он не мог. Это на фронте из разряда трусов реально было перейти в герои, совершив подвиг. Подвига или хотя бы поступка, сразу поменявшего бы его положение в уголовном мире, он не знал, да и не существовало, вероятно, подобного поступка.
Шульга сдружился в основном с такими же несчастными, как он, «чушками» или «обиженными». Соседи по бараку, рядовые «мужики», общались с Шульгой крайне неохотно, понимая, что тот дрейфует по иерархии вниз, и старались лишний раз не пересекаться с человеком, которому того и гляди за излишнюю беспомощность подарят «тарелку с дыркой» – то есть опустят.
Шульга, не знакомый с лагерной кастовостью, в расчёте на сокращение срока и какие-то поблажки клюнул на предложение администрации и вступил в секцию профилактики правонарушений. А потом узнал, что перешёл в разряд «козлов» – так называли зэков, согласившихся сотрудничать с лагерным начальством.
Шульга попал в «актив». С повязкой на рукаве он дежурил на КПП между «жилухой» и «промкой» – жилой и промышленной частями зоны. Учитывая хоть и незаконченное, но всё же гуманитарное образование и состояние здоровья – обострился лицевой тик, – Шульгу перевели на работу в библиотеку. Там было полегче.
Он сидел шестой год. В свободное время Шульга запоем читал, причём всё подряд, лишь бы занять ум. Страх поутих, и в минуты душевного или ночного затишья он часто задумывался над тем, что сделало из него, незлого робкого человека, убийцу. Воспоминания приводили к той погибшей в огне книжке в грязно-сером переплёте.
В лагерной библиотеке Шульга обнаружил громовскую повесть «Счастье, лети!». Это была совсем другая книга, не та, что он прочёл, но фамилию автора он не забыл. Воскресным вечером со свойственной ему дотошностью Шульга прочёл Книгу Власти. В какой-то момент он ощутил произошедшую с ним душевную трансформацию, его ум вдруг наполнился пульсирующим ощущением собственной значимости. Это новое ощущение Шульге очень понравилось, и, главное, он понял его источник и причины.
Шульга заметил: благодаря Книге он способен оказывать воздействие на окружающих, диктовать свою волю. Разумеется, менялся не мир вокруг, а человек, прочитавший Книгу, – таинственная сила временно преображала мимику, взгляд, осанку, воздействовала на оппонента жестами, голосом, словами. Можно сказать, Книга помогала Шульге вербовать души тех, кто входил в его круг общения, – «козлов», «чушков», «обиженных», «парашников», «шнырей», «петухов» – неприкасаемых уголовного мира.
Тем временем в лагере старую воровскую элиту постепенно вытеснило новое поколение молодых бандитов. Эти уже не чтили прежний неписаный закон, запрещавший унижать кого бы то ни было без причины. Школа беспредела, зародившаяся в лагерях общего режима, переходила и на относительно благополучный «строгач». Низшим кастам жилось теперь намного горше. Опускали ради забавы, от скуки. Поводом могло послужить всё что угодно – миловидная внешность, хилость, излишняя интеллигентность.
Однажды в лагере случился из ряда вон выходящий инцидент. Опущенный Тимур Ковров законтачил молодого подающего надежды авторитета – Ковров бросился на него и стал облизывать. Блатной до полусмерти избил «петуха», но былое уважение он навсегда потерял, и более того, «зашкваренный» сам пополнил ряды отверженных, и вскоре его нашли повесившимся. Ковров же отлежался в госпитале, и, как увечному, срок ему, по слухам, сократили.
Вряд ли кто обратил внимание – за два дня до странного покушения Шульга провёл беседу с Ковровым и подбил его на поступок. Этого Коврова опустили по подставе – как новичка усадили на «петушиный» стул в лагерном кинотеатре. И уж совсем никто не помнил, что ещё раньше тот самый авторитет открыто измывался над Шульгой, обещая «вогнать очкастому козлу ума в задние ворота».
Так Шульга изобрёл свой способ защиты от уголовного мира – через бессловесных, грязных, замученных существ, с отдельной униженной дырявой посудой, отчуждённым местом, чьим уделом было открывать рот и становиться в позу.
За месяц были законтачены несколько уважаемых людей – все те, кто когда-либо досадил Шульге. Надо заметить, блатные, опущенные «петухом-камикадзе», потом долго не жили, они резали вены, вешались, иначе бы их с изощрённой жестокостью насиловали давешние жертвы…
Шульга регулярно читал Книгу, дарящую ему на каждый день искусственную, но от этого не менее действенную харизму. Даже матёрые зэки, не понимая, что с ними происходит, пасовали перед Шульгой.
Информация о том, кто настраивает «опущенных» против братвы, дошла до самого пахана – среди изгоев нашлись доносчики. Пахан недоумевал: как чмошник вдруг начал излучать такую душевную мощь? Нутром он чувствовал: Шульга непостижимым образом мухлюет – и после долгих размышлений пришёл к правильному выводу. Ночью у Шульги выкрали Книгу. Пахан не разобрался с её секретом, но по сути оказался прав насчёт источника таинственного морока.
Утром Шульга обнаружил пропажу. А барачный шестёрка передал, что старшие вызывают Завуча на разговор. Шульга догадывался, чем закончится встреча, но неоднократно пережитое ощущение власти сделало его незаурядной личностью.
Разборка произошла на лесоповальном участке. Был февраль, и темнело рано. Пахан не ожидал сопротивления. С ним были всего один боец из ближайшего окружения и «бык», проигравший жизнь и ставший «торпедой» – он должен был устранить зарвавшегося Завуча. Впрочем, пахан предполагал, что до этого не дойдёт. Он собирался предложить Шульге повеситься, чтобы «бык» не брал грех на душу. Петлю уже приладили на подходящую ветку.