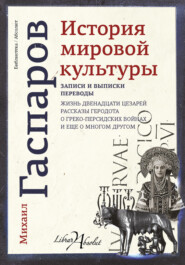По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Собрание сочинений в шести томах. Т. 5: Переводы. О переводах и переводчиках
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глухое золото в тоске и страхе.
Вот камня вечная печаль,
Форты домов в уборе черном,
Закатным взглядом, скучным и покорным,
Их окна смотрят в сумрачную даль.
Вот верфи скорби на закате,
Приют разбитых кораблей,
Что чертятся скрещеньем мачт и рей
На небе пламенных распятий.
В опалах мертвых, что златит и жжет
Вулкан заката, в пурпуре и пемзе
Умерший разум мой плывет
По Темзе.
Плывет на волю мглы: в закат,
В тенях багровых и в туманах,
Туда, где плещет крыльями набат
В гранит и мрамор башен рдяных,
И остается сзади град
Неутолений и преград.
Покорный неизвестной силе,
Влачится труп уснуть в вечеровой могиле,
Плывет туда, где волн огромный рев,
Где бездна беспредельная зияет
И без возврата поглощает
Всех мертвецов.
Сокращения такого рода вряд ли могли быть сделаны без помощи верлибра. Однообразие приемов легко заметить: выбрасываются связующие фразы, выбрасываются распространяющие глаголы, сохраняются преимущественно существительные, а из существительных удерживаются предметы и выпадают отвлеченные понятия. Со стихами, в которых предметов мало, а отвлеченных понятий много, такие эксперименты получаются хуже. Боюсь, что таковыми получились в переложении, например, романтические элегии. Я не знаю, неизбежен такой номинативный стиль при сокращении или нет. Но я знаю, что и в обычных, традиционно полномасштабных переводах имена существительные подлинника сохраняются в переводе в полтора-два раза старательнее, чем прилагательные и глаголы. Содержание стихотворения опознается прежде всего по существительным – или, проще говоря, читателю важнее, о чем говорится в произведении, нежели что в нем говорится. Если скажут, что конспективные переводы такого рода годятся только для предварительного ознакомления читателя со стихами, я не буду спорить. Все мы в первый раз читали и «Робинзона», и «Гулливера», и «Гаргантюа» по сокращенным пересказам; я помню адаптированные издания и Вальтера Скотта, и Гюго, и честное слово, дух подлинника в этих сокращениях сохранялся.
Мне не хотелось бы, чтобы эти упражнения выглядели только литературным хулиганством. В истории поэзии такие переработки появляются не впервые. Когда александрийские поэты III века до н. э. стали разрабатывать камерную лирику вместо громкой, то они брали любовные темы у больших лириков-архаиков и перелагали в короткие и четкие эпиграммы, писанные элегическим дистихом. В этом была и преемственность, и полемичность. Такая стилистическая полемика средствами не теории, а практики была в античности привычна: если Еврипиду не нравилась «Электра» Софокла, он брался и писал свою собственную «Электру» (современный литератор вместо этого написал бы эссе «Читая „Электру“»).
Разумеется, ни мне, ни кому другому не придет в голову полемизировать от своего имени с поэтом Лермонтовым или поэтом Верхарном. Но полемизировать от имени современного вкуса против того вкуса риторического романтизма или риторического модернизма, которыми питались Лермонтов и Верхарн, – почему бы и нет? Если мы не настолько органично ощущаем стиль наших предшественников, чтобы уметь подражать им, как аттицисты аттикам, – признаемся в этом открыто, и пусть потом наши потомки перелицовывают нас, как мы – предков (если, конечно, они найдут в нас хоть что-то достойное перелицовки).
Можно ли утверждать, что именно лаконизм, минимализм – универсальная черта поэтики XX века? Наверное, нет: век многообразен. Но это черта хотя бы одной из поэтических тенденций этого века – той, которая восходит, наверное, к 1910?м годам, когда начинали имажисты и Эзра Паунд написал знаменитое стихотворение из четырех слов – конденсат всей раннегреческой лирики вместе взятой: «Spring – Too long – Gongyle» (Гонгила – имя ученицы Сапфо, затерявшееся в ее папирусных отрывках). Краткость ощущалась как протест против риторики – хотя на самом деле, конечно, она тоже была риторикой, только другой. Впрочем, задолго до Паунда у самого Лермонтова такое стихотворение, как «Когда волнуется желтеющая нива…», было не чем иным, как конспектом стихотворения Ламартина «Крик души»: та же схема, та же кульминация, только строже дозированы образы, и оттого текст вдвое короче. Впрочем, краткость краткости рознь, и не от всякой стихотворение приобретает вес. Марциал писал другу-поэту:
Те лишь стихи коротки, где не сыщется лишнего слова,
А у тебя, мой дружок, даже двустишья длинны.
При обсуждении этих переводов было замечено, например, что Верхарн в них становится похож на молодого Элиота. (На мой взгляд, скорее на Георга Гейма.) Это, конечно, дело субъективных впечатлений. Важнее другое: вероятно, если два переводчика-сократителя возьмутся за одно и то же стихотворение, то у них получатся два совсем разных сокращения: один выделит в оригинале одно, другой другое, и каждый останется самим собой. И очень хорошо: я уже сказал, что через перевод размером подлинника мы ищем познать переводимого поэта, через перевод верлибром – познать самих себя.
А мне лично как литературоведу интереснее всего такой вопрос: можно ли вообще считать получающиеся тексты переводами? Идейное и эмоциональное содержание оригинала – сохранено. («Нет, – возразили мне, – от сокращения эмоция становится сильнее». Может быть.) Композиционная схема – сохранена. Объем – резко сокращен. Стиль – резко изменен. Стих – изменен еще резче. Много убавлено, но ничего не прибавлено. Достаточно ли этого, чтобы считать новый текст переводом старого, пусть вольным? Или нужно говорить о новом произведении по мотивам старого? Для этого есть хорошее немецкое слово Nachdichtung, но точного русского перевода для него не существует. Здесь есть возможность для многих праздных разговоров – но, конечно, не сейчас.
ОДЫ
Ода Пиндара (470 год до н. э.) написана очень сложным лирическим размером, складывающимся в повторяющиеся «триады» – строфу, антистрофу и эпод; начала их отмечены на левом поле. Ода обращена к сиракузскому тирану Гиерону и его сыну Диномену, правителю новооснованного города Этны невдалеке от известного вулкана, под которым, считалось, казнится чудовищный Тифон, символ мирового хаоса, укрощенного богами; так и Гиерон с братьями победил финикийцев и тирренов при Гимере и Кумах, эти победы сравниваются с афинскими и спартанскими победами над персами («мидянами») при Саламине и Платее («Кифероне»). Гиерон тяжело болел, поэтому он сравнивается с больным Филоктетом, сыном Пеанта, без которого, однако, греки не могли победить Трою. Гераклиды – род, из которого вышли спартанские цари; законы Этны были написаны по образцу спартанских.
Ода Ронсара (1550) тоже написана триадами, но более простыми размерами и короткими строками: в подлиннике строфы имеют по 12, 12 и 10 строк, в переводе они смогли стать короче. Она длинная, как поэма, поэтому некоторые триады в переводе пропущены. Ода обращена к канцлеру Мишелю Лопиталю, приближенному Маргариты Беррийской, дочери Франциска I, известному гуманисту, тщетному примирителю религиозных войн. Морелю д’ Амбрёну (с его женой Антуанеттой, хозяйкой литературного салона) Лопиталь поручил потом помирить Ронсара с его «завистниками», на которых он так злится. Основная часть оды – апофеоз поэтического вдохновения по Платону, возносящего душу в мир вечных идей; четыре обуянности, о которых речь, – безумия профетическое, мистическое, поэтическое и эротическое. Начальная часть оды – по мотивам Гесиода и Гомера, но и с упоминанием Фалесовой идеи, что всё в мире – от воды.
«Ликид» Мильтона (1637) – это разностопный ямб, привычный в английском барокко. Но когда Мильтон писал свою «монодию» на смерть молодого Эдварда Кинга, то одним этим термином он назвал свои образцы – Пиндара и Симонида, этих зачинателей поэзии торжественного плача. И я попробовал перевести «Ликида» не так, как Мильтон его написал, а так, как он хотел его написать: стихом и стилем античной мелики. Ликид и другие имена – из буколик; сицилийская Аретуза (бежавшая от Алфея) и мантуанский Минций – реки, возле которых родились Феокрит и Вергилий. Гиппотад – бог ветров Эол; Панопея – морская нимфа; над рекой Гебром вакханки растерзали Орфея, и голову его унесло к Лесбосу, острову поэтов. Кэм – речка, на которой стоит Кембридж, где учился Кинг; Мона – остров Мэн в Ирландском море, Дэва – речка Ди; Гебриды – к северу от Ирландского моря, а Беллер с горой св. Михаила, глядящей в сторону Бретани, – к югу от него. Галилейский кормчий – конечно, св. Петр: стихи писались, когда уже сгущалась гроза пуританской революции.
«Патмос» Гёльдерлина (1803) об апостоле Иоанне, интересен как синтаксический эксперимент: он написан бесконечно длинными предложениями, с нарочитой странностью переламывающимися о стихоразделы. Такой «антисинтаксический» стих, модный в XX веке, давался мне трудно, и я попробовал его только в этом стихотворении. Но к концу все равно стал сбиваться на синтаксический. Большое спасибо Г. И. Ратгаузу, помогавшему мне в работе над трудным текстом.
«Небесные гончие» Фрэнсиса Томпсона (1893), английского poete maudit – хрестоматийный образец той викторианской (или антивикторианской) религиозной поэзии, которая теперь и в Англии мало кем читается. Кажется, на русский язык эти стихи не переводились. Номера строк на левом поле в «Ликиде» стояли реже, чем в подлиннике: многие строки приходилось в переводе разламывать для интонационной выразительности; в «Небесных гончих» они стоят гуще, чем в подлиннике: перевод конспективнее и на треть короче, но я настаиваю, что ни один образ в нем не потерян: экономия – только за счет соединительной ткани.
ПИНДАР
Первая пифийская ода («Этна»)[2 - Перевод «Первой Пифийской оды» Пиндара исполнен М. Л. Гаспаровым не в «экспериментальном», а в традиционном ключе; в настоящем издании см.: т. I, с. 462–467. – Прим. А. Устинова.]
ПЬЕР РОНСАР
Канцлеру Лопиталю
1
На Диркейских берегах, на лугах
Харит, расцвечивающих стихи мои,
Я сбираю краснейшие цветы,
Чтобы свить из них тщательными перстами
Троекруглый фивский венок
В честь и славу божественного любимца,
Сведшего к нам с небес
Девять дщерей Элевферийской Памяти —
1
Мать же Память их понесла
Девятью же лобзаниями Юпитера,
А когда скиталица Луна двенадцать раз
На кругу своем выгнулась, двулобая,
Светом в тьму, то под Олимпийской горой,
Вскрикнув болью к Луцине,
Родила она девятерых сестер
Единым чревом —
1
И небо в них впело
Вечную песню,
Приласкав их губы
Аттическим медом,
Чтоб пеклись вовеки
О льстящих слуху
Стихах, в которых
Чары божеские и людские.
2
А когда прокатилось семь лет,
Обуяло юных кровное желание
Вот камня вечная печаль,
Форты домов в уборе черном,
Закатным взглядом, скучным и покорным,
Их окна смотрят в сумрачную даль.
Вот верфи скорби на закате,
Приют разбитых кораблей,
Что чертятся скрещеньем мачт и рей
На небе пламенных распятий.
В опалах мертвых, что златит и жжет
Вулкан заката, в пурпуре и пемзе
Умерший разум мой плывет
По Темзе.
Плывет на волю мглы: в закат,
В тенях багровых и в туманах,
Туда, где плещет крыльями набат
В гранит и мрамор башен рдяных,
И остается сзади град
Неутолений и преград.
Покорный неизвестной силе,
Влачится труп уснуть в вечеровой могиле,
Плывет туда, где волн огромный рев,
Где бездна беспредельная зияет
И без возврата поглощает
Всех мертвецов.
Сокращения такого рода вряд ли могли быть сделаны без помощи верлибра. Однообразие приемов легко заметить: выбрасываются связующие фразы, выбрасываются распространяющие глаголы, сохраняются преимущественно существительные, а из существительных удерживаются предметы и выпадают отвлеченные понятия. Со стихами, в которых предметов мало, а отвлеченных понятий много, такие эксперименты получаются хуже. Боюсь, что таковыми получились в переложении, например, романтические элегии. Я не знаю, неизбежен такой номинативный стиль при сокращении или нет. Но я знаю, что и в обычных, традиционно полномасштабных переводах имена существительные подлинника сохраняются в переводе в полтора-два раза старательнее, чем прилагательные и глаголы. Содержание стихотворения опознается прежде всего по существительным – или, проще говоря, читателю важнее, о чем говорится в произведении, нежели что в нем говорится. Если скажут, что конспективные переводы такого рода годятся только для предварительного ознакомления читателя со стихами, я не буду спорить. Все мы в первый раз читали и «Робинзона», и «Гулливера», и «Гаргантюа» по сокращенным пересказам; я помню адаптированные издания и Вальтера Скотта, и Гюго, и честное слово, дух подлинника в этих сокращениях сохранялся.
Мне не хотелось бы, чтобы эти упражнения выглядели только литературным хулиганством. В истории поэзии такие переработки появляются не впервые. Когда александрийские поэты III века до н. э. стали разрабатывать камерную лирику вместо громкой, то они брали любовные темы у больших лириков-архаиков и перелагали в короткие и четкие эпиграммы, писанные элегическим дистихом. В этом была и преемственность, и полемичность. Такая стилистическая полемика средствами не теории, а практики была в античности привычна: если Еврипиду не нравилась «Электра» Софокла, он брался и писал свою собственную «Электру» (современный литератор вместо этого написал бы эссе «Читая „Электру“»).
Разумеется, ни мне, ни кому другому не придет в голову полемизировать от своего имени с поэтом Лермонтовым или поэтом Верхарном. Но полемизировать от имени современного вкуса против того вкуса риторического романтизма или риторического модернизма, которыми питались Лермонтов и Верхарн, – почему бы и нет? Если мы не настолько органично ощущаем стиль наших предшественников, чтобы уметь подражать им, как аттицисты аттикам, – признаемся в этом открыто, и пусть потом наши потомки перелицовывают нас, как мы – предков (если, конечно, они найдут в нас хоть что-то достойное перелицовки).
Можно ли утверждать, что именно лаконизм, минимализм – универсальная черта поэтики XX века? Наверное, нет: век многообразен. Но это черта хотя бы одной из поэтических тенденций этого века – той, которая восходит, наверное, к 1910?м годам, когда начинали имажисты и Эзра Паунд написал знаменитое стихотворение из четырех слов – конденсат всей раннегреческой лирики вместе взятой: «Spring – Too long – Gongyle» (Гонгила – имя ученицы Сапфо, затерявшееся в ее папирусных отрывках). Краткость ощущалась как протест против риторики – хотя на самом деле, конечно, она тоже была риторикой, только другой. Впрочем, задолго до Паунда у самого Лермонтова такое стихотворение, как «Когда волнуется желтеющая нива…», было не чем иным, как конспектом стихотворения Ламартина «Крик души»: та же схема, та же кульминация, только строже дозированы образы, и оттого текст вдвое короче. Впрочем, краткость краткости рознь, и не от всякой стихотворение приобретает вес. Марциал писал другу-поэту:
Те лишь стихи коротки, где не сыщется лишнего слова,
А у тебя, мой дружок, даже двустишья длинны.
При обсуждении этих переводов было замечено, например, что Верхарн в них становится похож на молодого Элиота. (На мой взгляд, скорее на Георга Гейма.) Это, конечно, дело субъективных впечатлений. Важнее другое: вероятно, если два переводчика-сократителя возьмутся за одно и то же стихотворение, то у них получатся два совсем разных сокращения: один выделит в оригинале одно, другой другое, и каждый останется самим собой. И очень хорошо: я уже сказал, что через перевод размером подлинника мы ищем познать переводимого поэта, через перевод верлибром – познать самих себя.
А мне лично как литературоведу интереснее всего такой вопрос: можно ли вообще считать получающиеся тексты переводами? Идейное и эмоциональное содержание оригинала – сохранено. («Нет, – возразили мне, – от сокращения эмоция становится сильнее». Может быть.) Композиционная схема – сохранена. Объем – резко сокращен. Стиль – резко изменен. Стих – изменен еще резче. Много убавлено, но ничего не прибавлено. Достаточно ли этого, чтобы считать новый текст переводом старого, пусть вольным? Или нужно говорить о новом произведении по мотивам старого? Для этого есть хорошее немецкое слово Nachdichtung, но точного русского перевода для него не существует. Здесь есть возможность для многих праздных разговоров – но, конечно, не сейчас.
ОДЫ
Ода Пиндара (470 год до н. э.) написана очень сложным лирическим размером, складывающимся в повторяющиеся «триады» – строфу, антистрофу и эпод; начала их отмечены на левом поле. Ода обращена к сиракузскому тирану Гиерону и его сыну Диномену, правителю новооснованного города Этны невдалеке от известного вулкана, под которым, считалось, казнится чудовищный Тифон, символ мирового хаоса, укрощенного богами; так и Гиерон с братьями победил финикийцев и тирренов при Гимере и Кумах, эти победы сравниваются с афинскими и спартанскими победами над персами («мидянами») при Саламине и Платее («Кифероне»). Гиерон тяжело болел, поэтому он сравнивается с больным Филоктетом, сыном Пеанта, без которого, однако, греки не могли победить Трою. Гераклиды – род, из которого вышли спартанские цари; законы Этны были написаны по образцу спартанских.
Ода Ронсара (1550) тоже написана триадами, но более простыми размерами и короткими строками: в подлиннике строфы имеют по 12, 12 и 10 строк, в переводе они смогли стать короче. Она длинная, как поэма, поэтому некоторые триады в переводе пропущены. Ода обращена к канцлеру Мишелю Лопиталю, приближенному Маргариты Беррийской, дочери Франциска I, известному гуманисту, тщетному примирителю религиозных войн. Морелю д’ Амбрёну (с его женой Антуанеттой, хозяйкой литературного салона) Лопиталь поручил потом помирить Ронсара с его «завистниками», на которых он так злится. Основная часть оды – апофеоз поэтического вдохновения по Платону, возносящего душу в мир вечных идей; четыре обуянности, о которых речь, – безумия профетическое, мистическое, поэтическое и эротическое. Начальная часть оды – по мотивам Гесиода и Гомера, но и с упоминанием Фалесовой идеи, что всё в мире – от воды.
«Ликид» Мильтона (1637) – это разностопный ямб, привычный в английском барокко. Но когда Мильтон писал свою «монодию» на смерть молодого Эдварда Кинга, то одним этим термином он назвал свои образцы – Пиндара и Симонида, этих зачинателей поэзии торжественного плача. И я попробовал перевести «Ликида» не так, как Мильтон его написал, а так, как он хотел его написать: стихом и стилем античной мелики. Ликид и другие имена – из буколик; сицилийская Аретуза (бежавшая от Алфея) и мантуанский Минций – реки, возле которых родились Феокрит и Вергилий. Гиппотад – бог ветров Эол; Панопея – морская нимфа; над рекой Гебром вакханки растерзали Орфея, и голову его унесло к Лесбосу, острову поэтов. Кэм – речка, на которой стоит Кембридж, где учился Кинг; Мона – остров Мэн в Ирландском море, Дэва – речка Ди; Гебриды – к северу от Ирландского моря, а Беллер с горой св. Михаила, глядящей в сторону Бретани, – к югу от него. Галилейский кормчий – конечно, св. Петр: стихи писались, когда уже сгущалась гроза пуританской революции.
«Патмос» Гёльдерлина (1803) об апостоле Иоанне, интересен как синтаксический эксперимент: он написан бесконечно длинными предложениями, с нарочитой странностью переламывающимися о стихоразделы. Такой «антисинтаксический» стих, модный в XX веке, давался мне трудно, и я попробовал его только в этом стихотворении. Но к концу все равно стал сбиваться на синтаксический. Большое спасибо Г. И. Ратгаузу, помогавшему мне в работе над трудным текстом.
«Небесные гончие» Фрэнсиса Томпсона (1893), английского poete maudit – хрестоматийный образец той викторианской (или антивикторианской) религиозной поэзии, которая теперь и в Англии мало кем читается. Кажется, на русский язык эти стихи не переводились. Номера строк на левом поле в «Ликиде» стояли реже, чем в подлиннике: многие строки приходилось в переводе разламывать для интонационной выразительности; в «Небесных гончих» они стоят гуще, чем в подлиннике: перевод конспективнее и на треть короче, но я настаиваю, что ни один образ в нем не потерян: экономия – только за счет соединительной ткани.
ПИНДАР
Первая пифийская ода («Этна»)[2 - Перевод «Первой Пифийской оды» Пиндара исполнен М. Л. Гаспаровым не в «экспериментальном», а в традиционном ключе; в настоящем издании см.: т. I, с. 462–467. – Прим. А. Устинова.]
ПЬЕР РОНСАР
Канцлеру Лопиталю
1
На Диркейских берегах, на лугах
Харит, расцвечивающих стихи мои,
Я сбираю краснейшие цветы,
Чтобы свить из них тщательными перстами
Троекруглый фивский венок
В честь и славу божественного любимца,
Сведшего к нам с небес
Девять дщерей Элевферийской Памяти —
1
Мать же Память их понесла
Девятью же лобзаниями Юпитера,
А когда скиталица Луна двенадцать раз
На кругу своем выгнулась, двулобая,
Светом в тьму, то под Олимпийской горой,
Вскрикнув болью к Луцине,
Родила она девятерых сестер
Единым чревом —
1
И небо в них впело
Вечную песню,
Приласкав их губы
Аттическим медом,
Чтоб пеклись вовеки
О льстящих слуху
Стихах, в которых
Чары божеские и людские.
2
А когда прокатилось семь лет,
Обуяло юных кровное желание
Другие электронные книги автора Михаил Леонович Гаспаров
Другие аудиокниги автора Михаил Леонович Гаспаров
Занимательная Греция




 4.67
4.67