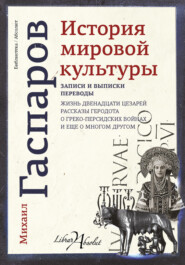По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений в шести томах. Т. 3: Русская поэзия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Много птичек скрылось, Лилий – отцвело, Звездочек – скатилось, Тучек – уплыло; Много вод кипучих В бездну унеслось, Много струн певучих В сердце порвалось! (С. Андреевский, 1878);
Осень взоры клонит, Вечер свеж и мглист. Ветер гонит, гонит Одинокий лист. Так и ты, забвенный Лист в ночных полях, Прокружишь, мгновенный, И уйдешь во прах (С. Кречетов, 1910);
Тихий шум дубравы, Песня соловья, Робкое журчанье Горного ручья; Темный лес дремучий, Пестрые луга… Родина, о как ты Сердцу дорога! (М. Леонов, 1898);
Глушь родного леса, Желтые листы. Яркая завеса Поздней красоты. Замерли далече Поздние слова, Отзвучали речи – Память все жива (А. Блок, 1901);
Задремали волны, Ясен неба свод; Светит месяц полный Над лазурью вод. Серебрится море, Трепетно горит… Так и радость горе Ярко озарит (К. Р., 1879);
Солнечные блики Испещряют сад, Розовой гвоздики Вьется аромат. Шумные стрекозы Пляшут над травой… О, родные грезы, О, души покой (В. Палей, 1915).
Из 8 стихотворений в 5 соблюдается композиционное членение 6+2 строки; в одном оно размыто (у Андреевского), в одном смещено (у Кречетова); мягкое лермонтовское «и ты» дважды усиливается до настойчивого параллелизма «так и…». У Андреевского стихотворение называется «Из Гаммерлинга», но оригинал Гаммерлинга написан не хореем, а ямбом: ориентиром остается Лермонтов. В трех стихотворениях налицо обе лермонтовские темы, природа и смерть, еще в двух смерть приглушена, только в одном концовка вызывающе оптимистична. В самом раннем из этих подражаний, у Розенгейма, почти исчезает пейзаж, остается только путь. Наоборот, в остальных стихотворениях исчезает путь, а у Леонова вообще остается только пейзаж: финальное «о как ты…» – несомненно, от привходящего влияния фетовского «Как ты мне родна».
Эпилогом к этой веренице восьмистиший могут считаться еще два стихотворения с пейзажем и смертью, но уже без композиции 6+2:
Мертвые зарыты; Вспахана земля; Травами покрыты Жирные поля; Кое-где лопатой Вскопаны луга, Да торчит измятый Кончик сапога (Б. Лапин, 1925);
Голубая речка, Зябкая волна. Времени утечка Явственно слышна. Голубая речка Предлагает мне Теплое местечко На холодном дне (Г. Иванов, конец 1940?х).
Стихотворение Иванова перекликается с другим его стихотворением того же времени, из трех восьмистиший: «Каждой ночью грозы Не дают мне спать… Точно распустилась Розами война… Поджидают бабы Мертвых сыновей…»
Наконец, как эпилог к эпилогу можно представить случайные стихотворения уже последнего, постмодернистского периода: первое, под заглавием «Колыбельная» (от другой лермонтовской традиции), замечательно тем, как в 8 строчках старательно перемешаны и Лермонтов, и Фет, и мрачность, и бодрость; второе было написано как открыто пародическое (6 строк извлечены из длинной «Грусти девушки» Апухтина, «милицанер» пришел из Д. Пригова) и помещено в статье в «Новом литературном обозрении» (1996. № 19. C. 290):
Небо голубое, Черная сосна. А над головою Желтая луна. В жизни или смерти, А бывает и Хорошо на свете, Страшные мои (А. Шельвах, 1989);
Призатихло поле, В избах полегли. Уж слышней на воле Запах конопли. Уж туманы скрыли Потемневший путь… Свист милицанера Не дает заснуть (В. Курицын, 1993).
3. Фет: природа и разлука. Что касается тематики лермонтовского восьмистишия, то она нашла отклик у других поэтов почти тотчас, в 1840?х годах: «путь» у Плещеева, «природа» у Фета, только «смерть» выступает поначалу смягченно или завуалированно. Тема «пути», появившись, на время исчезает, и мы вернемся к ней позже. Тема же «природы» почти тотчас порождает тему «быта», которой у Лермонтова еще не было, и она (оттеняемая «природой») становится господствующей на целые полвека.
Фет прямо ориентируется на Лермонтова, это видно из того, что оба первых его стихотворения нашим размером – восьмистишия, одно с композицией 2+6, другое – 6+2. В первом (1842) лермонтовский южный пейзаж замещается северным, снежным, а путь – санным:
Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,
Свет небес высоких
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.
Во втором (1843) лермонтовская тема отдыха-смерти смягчается в тему любви-разлуки: «Облаком волнистым Пыль встает вдали… Друг мой, друг далекий, Вспомни обо мне!» Наконец, третье стихотворение, «Колыбельная песнь сердцу» (1844: «Сердце – ты малютка! Угомон возьми…», – самая развернутая вариация на тему «отдохни»), скрещивает влияние лермонтовских «Горных вершин» с лермонтовской же «Казачьей колыбельной песней». Потом к этому у Фета добавились «Заревая вьюга Все позамела…» (1855) и два стихотворения на сплошных женских рифмах: «Спи: еще зарею…» и «В дымке-невидимке…» – тоже грустные пейзажи, луна и сон.
Фетовское «Облаком волнистым…» нашло себе продолжателей: тема разлуки разрабатывается и позднейшими поэтами. Суриков кончает свое стихотворение: «…Пожалей о друге В дальней стороне И в тиши вечерней Вспомни обо мне!» – а у Трефолева невеста тоскует о женихе-ссыльном: «В этот день ненастный В дальней стороне Друг мой, друг несчастный, Вспомни обо мне!» Лермонтовский пейзаж входит в «Разлуку» Огарева: «…Нашей старой ивы Не качался лист…»; лермонтовский размер подсказывает схему лермонтовского «Сна» стихотворению Сурикова «Часовой»: в зимнюю ночь часовой думает о жене, которая, может быть, сейчас видит его во сне. О том, что разлука и сон – лишь псевдонимы смерти, напоминает Жадовская: «Тот, кого любила, Взят сырой землей… И его глубокий Непробуден сон… Мысль его стремится, Может быть, ко мне?..» Фетовская же «Колыбельная песня сердцу» получает прямой отклик у Сологуба в стихотворении с такими же припевами: «…Кто-то безмятежный Душу пьет мою, Шепчет кто-то нежный: Баюшки-баю…» (и с неожиданной реминисценцией из Губера: «Молодость мелькнула, Слава отнята…»). Но главным образцом для подражаний остается «Чудная картина» и ее тема – русский пейзаж.
Правда, эмоциональная окраска этого пейзажа быстро меняется. Наступающая эпоха мрачного реализма стилизует и пейзаж в унисон социальному гнету. Фетовский восторг отвергается – иногда молча, иногда и с вызовом. Результатом становится серия стихотворений, почти нарочито перекликающихся друг с другом:
Грустная картина! Облаком густым Вьется из овина За деревней дым… (Жадовская, 1848, напечатано в 1857 году);
Грустная картина! Степь да небеса, Голая равнина, Чахлые леса… (Минаев, 1858; Минаев в это время еще не определился как юморист, и его стихотворение кажется не пародией, а «доработкой» стихотворения Жадовской);
Скучная картина: Тучи без конца, Дождик так и льется, Льется у крыльца… (Плещеев, 1860).
Подобный же пейзаж вставляет в поэму Розенгейм: «…Небо, как тряпица Грязная, висит…» – и аллегорически осмысляет Добролюбов: «Низко наше небо: Над землей оно Тяжело нависло, Мутно и темно…». Мотивы «сна» и «смерти» присутствуют почти в каждом из этих стихотворений. Мы уже не говорим о прямой пародической полемике с Фетом: «Чудная картина: Грезы всюду льнут…» Минаева; «Чудная картина… Чахлая скотина, Хлеба ни зерна…» Минаева же; «…Чудная картина, Да не для него…» Лакиды (ср. пародию на «Облаком волнистым…» Вормса). И наоборот, сама эта серия «грустных картин» вызвала полемическую отповедь от старого Вяземского – тем же скромным 3-ст. хореем, только с изысканной рифмовкой АХАх: «Тихие равнины, Ель, ветла, береза, Северной картины Облачная даль, Серенькое море, Серенькое небо, Чуется в вас горе, Но и прелесть есть… Грех за то злословить Нашу мать-природу, Что нам изготовить Пиршеств не могла… Струны есть живые В этой тихой песни, Что поет Россия В сумраке своем».
На «грустных картинах» плещеевского образца воспитался С. Дрожжин: его пейзажи – унылые предзимние и зимние:
С теплою весною Лето уж прошло, Замерло родное Милое село…;
Миновало лето. Солнце из?за туч С ласковым приветом Не бросает луч…;
Осень. Ходят тучи В глубине небес…;
Вьюга завывает, Крутит и мятет… и т. п.
Из этого круга стереотипных образов осени выбивается разве что пейзажный набросок Некрасова, при жизни автора не печатавшийся: «Белый день недолог, Вечера длинней… Пес работу чует: Дупельшнепов жди».
Напротив, когда поэты хотят нарисовать радостный пейзаж, то они обращаются через голову Фета к Лермонтову и рисуют пейзаж летний (в котором то и дело всплывают узнаваемые лермонтовские мотивы):
В зареве огнистом Облаков гряда… На душе покойно, Сердце будто спит (Суриков);
Дремлет лес: ни звука, Лист не шелестит… (он же);
Светят неба очи Трепетным огнем… Тише все, темнее, Не дрогнет листок… (он же);
…В тишине глубокой Дремлет темный сад. Лист не шелохнется… (Дрожжин);
Зорька догорает, Дремлет старый сад, Пламенем пожара Рдеется закат… (Ап. Коринфский);
…Листьями чуть слышно Ветки шелестят… (Сологуб).
Пейзаж может почти раствориться в лермонтовской теме тишины и желанного покоя – так у Жадовской: «Ночь… Вот в сад тенистый Стукнуло окно… Сердце замирает, Взор горит слезой» (ср. у нее же «Небо голубое… Отвращаю взор», где пейзажа еще меньше); так у Сурикова: «В воздухе смолкает Шум дневных тревог; Тишь с небес на землю Посылает бог. Тихо… Отчего же <…> Скорбь сжимает грудь? Боже мой! От горя Дай мне отдохнуть!»
Бунин твердо держится образцов второй половины XIX века, лишь по-новому их подкрашивая: «На лиловом небе Желтая луна…», «Осень. Чащи леса. Мох сухих болот…», «Ночь и даль седая, В инее леса…». Отмечено, что бунинский пейзаж в этих стихах вечерний, статичный и часто сонный: сон выступает смягченной формой смерти[44 - Гайнуллина Ф. А. Хореические трехстопники Ивана Бунина // Проблемы стиховедения и поэтики. Алма-Ата, 1990. С. 129–131.]. Есенин добавляет к этому эмоциональные мотивы: «Топи да болота, Синий плат небес… Край ты мой забытый, Край ты мой родной!», «Дымом половодье Зализало ил… Помолюсь украдкой За твою судьбу». Есенинская «Белая береза Под моим окном Принакрылась снегом, Точно серебром…» обнаруживает любопытное влияние другого фетовского стихотворения – «Печальная береза У моего окна…».
В целом пейзажный 3-ст. хорей занимал в фетовском творчестве очень скромное место, но в сознании читателей он связался с его именем очень прочно. Поэтому когда сто лет спустя О. Дмитриев пишет стихи о Фете, то выбирает для них именно этот размер (хоть и пишет его сдвоенными строчками): «Лето, вечер тихий. Зажигает свет В доме на Плющихе Афанасий Фет… Видит он, усталый, юность, старину, Дом господский старый, белую луну…». С такой же отсылкой к первоисточнику возникает пейзажный 3-ст. хорей и у Лосева: «Уж не тень заката, А от тени тень Увела куда-то Стылый этот день. Краденый у Фета Нежный сей товар Втоптан, как конфета, В снежный тротуар…». Другие поздние поэты предпочитают называть другие образцы: «Это очень много: Даль да тишина. Чистая дорога – Наша сторона… Я, до дна весенний, Полюбил печаль: Что я не Есенин, Мне до боли жаль…» (И. Григорьев, 1985; стихотворение кончается «Мир тебе, дорога, Родина моя!»).
4. Огарев: быт. Если Фет, таким образом, развернул в лермонтовском размере русский пейзаж, то Огарев сделал следующий шаг – развернул русский быт. В том же 1842 году, что и фетовская «Чудная картина», появляется его «Изба»:
Небо в час дозора
Обходя, луна
Смотрит сквозь узора
Мерзлого окна… —
и далее: спит дед, улеглася мать, засыпают дети, лишь борется с дремотой молодая дочь. Другое стихотворение Огарева, «Дорога» (1841, со сплошными женскими рифмами), стало образцом для «Дороги» Михайлова (1845: «Черными ветвями Машет мне сосна, Тусклыми лучами Светит мне луна…» и далее воспоминание о родном доме; несомненно перекрестное влияние Фета) и для пародии Розенгейма.
«Изба» Огарева оказала подавляющее влияние на тематику 3-ст. хорея второй половины XIX века: из стихотворения в стихотворение повторяется эта ночь, холод, изба, в ней все спят и не спит только молодая дочь (Дрожжин, «Пряха»), молодая жена (Никитин, «Жена ямщика»; Дрожжин, «Грусть молодой крестьянки»), одинокая старуха (Никитин, «Зимняя ночь в деревне»; Дрожжин, «Мать», «Забота матери», «В крестьянской семье», «Бабушкино горе»), умирающий старик (он же, «Чуть в избе холодной…») или уже лежит покойник на столе (Никитин, «Тишина ночи»; Розенгейм, «У гроба»).
Никитин и Плещеев пытаются разнообразить эту картину, внося в нее пейзажные элементы не созвучные, а контрастные скорбному быту. Так, Никитин начинает свое первое стихотворение (1849): «Тихо ночь ложится На вершины гор, И луна глядится В зеркало озер…», а кончает: «Лишь во мраке ночи Горе и разврат Не смыкают очи, В тишине не спят». Это как бы набросок, развернутый в следующем стихотворении: «В глубине бездонной, Полны чудных сил, Идут миллионы Вековых светил…» – а город спит, бедняк мертв, и дочь его «жертвою порока умереть должна». «Зимняя ночь в деревне» тоже начинается «Весело сияет Месяц над селом…», а кончается страхом за дочь: «Мудрено ль связаться С человеком злым?..» На том же контрасте построены и два стихотворения Плещеева, но у него сюжетный момент сперва стушевывается («Травка зеленеет, Солнышко блестит, Ласточка с весною В сени к нам летит…» – и дальше о разлуке и нужде «в городе чужом»), а потом и совсем растворяется в чистом лиризме («Теплый день весенний, Солнышко блестит, Птичка, заливаясь, В поле всех манит…» – и только поэту шепчет тоска: «…твой путь Пройден: не пора ли Навсегда уснуть?»).
Но игра контрастом, по-видимому, оказывается слишком сложной для большинства поэтов. Когда за этот размер берется следующее литературное поколение, главные деятели которого – Суриков и суриковцы, строение их стихотворений быстро упрощается: или «природа» подчиняется «быту», или «быт» отступает перед «природой».
Другие электронные книги автора Михаил Леонович Гаспаров
Другие аудиокниги автора Михаил Леонович Гаспаров
Занимательная Греция




 4.67
4.67