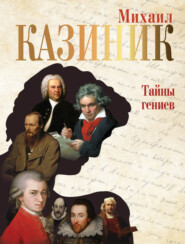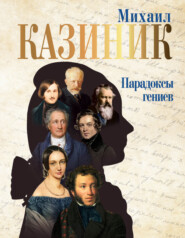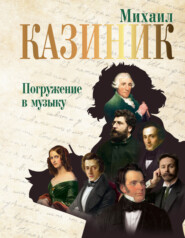По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайны гениев
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Моцарт и ребенок познают друг друга. Их Гармония, их энергетика взаимно перекрещиваются.
И дальше Моцарт будет сопровождать ребенка в его земной жизни.
Но почему именно Моцарт, а не Бах, не Чайковский и не Брамс?
Да потому что именно Моцарт на нашей Планете Земля
обладает совершенной памятью Детства,
он идентичен ребенку,
его музыка – квинтэссенция детской гениальности.
И здесь я должен объяснить, почему я пишу о детской гениальности.
Небольшое отвлечение. О Гениальности
Я глубоко убежден, что человеческий детеныш входит в наш Мир гением. Гениальность должна быть присуща Человеку изначально.
Как с точки зрения этики, так и Божественной логики (хотя это, в принципе, одно и то же).
Другое дело, что мы, в своей издревле присущей нам стадности, подсознательно воспринимаем гениальность как болезнь и очень умело излечиваем ребенка.
Мы вставляем его в ряд, тщательно подстригая духовно, подрезая психически, ибо
Гений – человек в обществе ужасно неудобный, непредсказуемый.
А ведь обществу и его «первичной ячейке» – семье нужны удобные дети.
Вот мы и рождаем Гениев, а затем переделываем их в посредственностей.
Посредственности, вырастая, естественнейшим образом проведут подобную же процедуру со своими детьми.
Возвращение к Моцарту
В этом смысле Моцарт – исключение лишь постольку, поскольку его не смогли (или не захотели) вылечить.
У меня есть несколько предположений относительно того, как в случае Моцарта удалось сохранить его гениальность.
Отец Моцарта – Леопольд – подлинно великий педагог, он сумел не только не погасить, но и всемерно развить гениальность сына.
Кстати, ни один сын в истории культуры не написал своему отцу столько писем, сколько Вольфганг Амадей – Леопольду. И была это для Моцарта не просто сыновняя обязанность, а глубокая человеческая и творческая потребность.
Атмосфера музыки, разговоров о ней, концертов в доме Моцарта и в самом Зальцбурге – все это было настолько само собой разумеющимся,
сочинение и исполнение музыки для малыша Моцарта было такой же естественной формой деятельности, как для других детей – игра в игрушки.
Необычайная моцартовская чувствительность, обостренная реактивность, невероятная восприимчивость мира позволяют воспринять эту атмосферу музыки как норму.
Понять эту норму мне помогает замечательная мысль Томаса Манна о культуре, высказанная им в романе «Доктор Фаустус»:
«Мне кажется, наивность, бессознательность, самоочевидность являются неотъемлемыми признаками того явления, которое мы зовем культурой».
Среди важнейших причин сохранения моцартовской гениальности есть и еще одна, которая при поверхностном рассмотрении может показаться незначительной, но многие специалисты-педагоги меня поймут.
И причина эта еще раз подтверждает правоту Томаса Манна о «наивности, бессознательности и самоочевидности» подлинной культуры.
Старшая сестра маленького Моцарта Наннерль тоже была чудо-ребенком, и Леопольд Моцарт начал заниматься музыкой вначале с ней (и весьма успешно!).
И когда маленькая сестренка разыгрывала с папой на клавесине, то еще меньший (трехлетний) Моцарт бегал вокруг них и кричал от вопиющей несправедливости.
Как это так!!!
Папа играет с его сестрой в музыкальные игрушки, а его, маленького, обидели!
И поэтому, когда папа Леопольд начинает заниматься с Вольферляйном (по-немецки – «маленький Вольфганг»), то для трехлетнего Моцарта начало занятий – всего лишь момент восстановления справедливости.
Вот это – наличие всех трех признаков культуры по Томасу Манну: «наивность, бессознательность, самоочевидность» – идеальнейшим образом присутствовали в жизни Моцарта.
Четвертый пример
Еще один важнейший признак гениальности.
Мама выходит с малышом из дома. Раннее утро. Мама должна отвести ребенка в детский сад, а затем успеть добраться до работы. Мама спешит. И вдруг ее малыш бежит в противоположную сторону и обнимает маленькую березку:
– Мама, смотри, березка!
Мама растеряна: у них нет времени, а ребенок бежит совсем в другую сторону, к березке, которую он видит каждый день.
Но все чудо в том, что ребенок видит эту березку каждый день по-новому. Каждую игрушку – по-новому, каждое движение, слово обретают бесконечное число значений.
В детстве в Петербурге я любил наблюдать за реакцией туристов, которые, идя по Малой Морской улице, впервые видят Исаакиевский собор. На меня Исаакий произвел в детстве такое впечатление, что мне хочется повторить это состояние, вернуть или сохранить это впечатление навсегда.
Именно поэтому, наблюдая за туристами, я всегда сопереживал их чувство радости, видя, как они восторгаются, удивляются, испытывают потрясение.
Наблюдать было особенно интересно, когда один пожилой экскурсовод вел туристов так, чтобы Исаакий открылся не постепенно, а мгновенно. Не знаю, кто из нас – я или экскурсовод – больше радовался эффекту потрясения, когда некоторые туристы даже вскрикивали от восторга, оказавшись перед этим грандиозным сооружением.
Но вот однажды случилось что-то странное.
Я, как всегда, стоял в том самом месте, где туристы должны в одно мгновение увидеть это грандиозное творение архитектуры.
Экскурсовод торжественным голосом произнес:
– Перед вами – Исаакиевский собор!
– Да-да, – спокойно сказали туристы. – Исаакиевский собор.
Я бросился к экскурсоводу – узнать, что случилось с группой, почему они не восторгаются, не кричат от восхищения.
И дальше Моцарт будет сопровождать ребенка в его земной жизни.
Но почему именно Моцарт, а не Бах, не Чайковский и не Брамс?
Да потому что именно Моцарт на нашей Планете Земля
обладает совершенной памятью Детства,
он идентичен ребенку,
его музыка – квинтэссенция детской гениальности.
И здесь я должен объяснить, почему я пишу о детской гениальности.
Небольшое отвлечение. О Гениальности
Я глубоко убежден, что человеческий детеныш входит в наш Мир гением. Гениальность должна быть присуща Человеку изначально.
Как с точки зрения этики, так и Божественной логики (хотя это, в принципе, одно и то же).
Другое дело, что мы, в своей издревле присущей нам стадности, подсознательно воспринимаем гениальность как болезнь и очень умело излечиваем ребенка.
Мы вставляем его в ряд, тщательно подстригая духовно, подрезая психически, ибо
Гений – человек в обществе ужасно неудобный, непредсказуемый.
А ведь обществу и его «первичной ячейке» – семье нужны удобные дети.
Вот мы и рождаем Гениев, а затем переделываем их в посредственностей.
Посредственности, вырастая, естественнейшим образом проведут подобную же процедуру со своими детьми.
Возвращение к Моцарту
В этом смысле Моцарт – исключение лишь постольку, поскольку его не смогли (или не захотели) вылечить.
У меня есть несколько предположений относительно того, как в случае Моцарта удалось сохранить его гениальность.
Отец Моцарта – Леопольд – подлинно великий педагог, он сумел не только не погасить, но и всемерно развить гениальность сына.
Кстати, ни один сын в истории культуры не написал своему отцу столько писем, сколько Вольфганг Амадей – Леопольду. И была это для Моцарта не просто сыновняя обязанность, а глубокая человеческая и творческая потребность.
Атмосфера музыки, разговоров о ней, концертов в доме Моцарта и в самом Зальцбурге – все это было настолько само собой разумеющимся,
сочинение и исполнение музыки для малыша Моцарта было такой же естественной формой деятельности, как для других детей – игра в игрушки.
Необычайная моцартовская чувствительность, обостренная реактивность, невероятная восприимчивость мира позволяют воспринять эту атмосферу музыки как норму.
Понять эту норму мне помогает замечательная мысль Томаса Манна о культуре, высказанная им в романе «Доктор Фаустус»:
«Мне кажется, наивность, бессознательность, самоочевидность являются неотъемлемыми признаками того явления, которое мы зовем культурой».
Среди важнейших причин сохранения моцартовской гениальности есть и еще одна, которая при поверхностном рассмотрении может показаться незначительной, но многие специалисты-педагоги меня поймут.
И причина эта еще раз подтверждает правоту Томаса Манна о «наивности, бессознательности и самоочевидности» подлинной культуры.
Старшая сестра маленького Моцарта Наннерль тоже была чудо-ребенком, и Леопольд Моцарт начал заниматься музыкой вначале с ней (и весьма успешно!).
И когда маленькая сестренка разыгрывала с папой на клавесине, то еще меньший (трехлетний) Моцарт бегал вокруг них и кричал от вопиющей несправедливости.
Как это так!!!
Папа играет с его сестрой в музыкальные игрушки, а его, маленького, обидели!
И поэтому, когда папа Леопольд начинает заниматься с Вольферляйном (по-немецки – «маленький Вольфганг»), то для трехлетнего Моцарта начало занятий – всего лишь момент восстановления справедливости.
Вот это – наличие всех трех признаков культуры по Томасу Манну: «наивность, бессознательность, самоочевидность» – идеальнейшим образом присутствовали в жизни Моцарта.
Четвертый пример
Еще один важнейший признак гениальности.
Мама выходит с малышом из дома. Раннее утро. Мама должна отвести ребенка в детский сад, а затем успеть добраться до работы. Мама спешит. И вдруг ее малыш бежит в противоположную сторону и обнимает маленькую березку:
– Мама, смотри, березка!
Мама растеряна: у них нет времени, а ребенок бежит совсем в другую сторону, к березке, которую он видит каждый день.
Но все чудо в том, что ребенок видит эту березку каждый день по-новому. Каждую игрушку – по-новому, каждое движение, слово обретают бесконечное число значений.
В детстве в Петербурге я любил наблюдать за реакцией туристов, которые, идя по Малой Морской улице, впервые видят Исаакиевский собор. На меня Исаакий произвел в детстве такое впечатление, что мне хочется повторить это состояние, вернуть или сохранить это впечатление навсегда.
Именно поэтому, наблюдая за туристами, я всегда сопереживал их чувство радости, видя, как они восторгаются, удивляются, испытывают потрясение.
Наблюдать было особенно интересно, когда один пожилой экскурсовод вел туристов так, чтобы Исаакий открылся не постепенно, а мгновенно. Не знаю, кто из нас – я или экскурсовод – больше радовался эффекту потрясения, когда некоторые туристы даже вскрикивали от восторга, оказавшись перед этим грандиозным сооружением.
Но вот однажды случилось что-то странное.
Я, как всегда, стоял в том самом месте, где туристы должны в одно мгновение увидеть это грандиозное творение архитектуры.
Экскурсовод торжественным голосом произнес:
– Перед вами – Исаакиевский собор!
– Да-да, – спокойно сказали туристы. – Исаакиевский собор.
Я бросился к экскурсоводу – узнать, что случилось с группой, почему они не восторгаются, не кричат от восхищения.