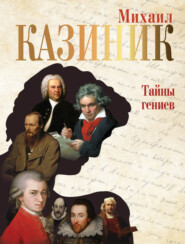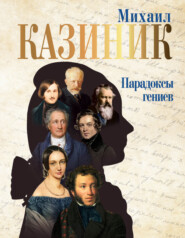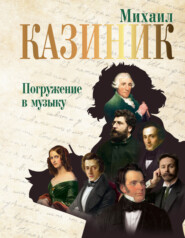По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайны гениев
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И ежели бы только на Западе любимые, то еще ладно – можно им диверсию приписать: выбирают, мол, специально.
Так ведь на самой Руси-матушке любимые.
Да и слава Богу, на дворе – не 37-й год: за космополитизм не расстреляют и на Соловки не сошлют.
А когда народ просвещенный «Князя Игоря» Бородина слушает, то не только арией русского князя, но и чуждыми половецкими плясками заслушивается.
И отдельно в концертах играют как великую симфоническую музыку.
А слушает народ-то как! – любо-дорого посмотреть!
А балетмейстеры в театрах друг с другом сражаются – кто «восточнее» поставит!
А костюмы-то какие шьют, словно не в степи восточный народ танцует, а в гареме у нефтяного магната!
Да ведь и Бородин-то наш до сих пор не своим именем зовется.
Ему бы по отцу зваться (прошли те времена ненастные, когда боялись правду говорить), а не по крепостному Порфирию Бородину, к которому гений наш российский никакого отношения не имел, но на которого был записан при рождении.
Ну, тогда по отцу-то нельзя было, потому – незаконный сын.
Теперь можно!
Давайте и назовем:
Александр Лукич Гедиани – сын князя грузинского Луки Степановича Гедиани.
А глаза-то какие миндалевидные у сына! И смотреть долго не надо – прям грузинская царская кровь!
Так чего же тогда, спрашивается, русские-то музыки сочинители-националисты так испаниями да италиями с индиями увлекались? А ежели оперы писали, то из давних времен. Или вообще сказки.
Да потому, что не националисты они русские, а русские же романтики.
А как ты есть романтик, то следуй всеобщему закону романтиков – беги от действительности, как Лист бежал, как Берлиоз, как Шуман, куда угодно беги: в прошлое, в сказку, в далекие экзотические страны.
Лишь бы не в гоголевско-салтыковско-щедринско-достоевской России оставаться.
И бежали, да еще как.
Я нарочно Мусоргского не трогаю: ему гению нашему сердешному компании подходящей и на Руси нет.
Потому он, как и Бах, – не барокко, а Космос; как и Шостакович – не неоклассик, а всемирный Борец со Злом.
Вот и Мусоргский – не русский националист, не романтик, а вне всяких стилей.
Он вообще, горемыка наш гениальный, в спиртном-то и завяз, и умер с перепоев.
(Но это – цена, которую сверхгении платят за право не вписываться ни в какие рамки.)
Он, Мусоргский, вообще, может, и понял, кто он.
Но вот вслух признаться бы не смог; потому даже друзья его по «кучке» хоть талант «Мусорянина» и признавали, но чаще идиотом звали.
И то: всю почти музыку будущего предвосхитил,
ни Шостакович без него,
ни Равель,
ни Прокофьев,
ни, опять же, Шнитке,
ни «шестерка» французская. У них, у французов этих из XX века, он, Мусорянин наш, главным образцом был.
А как не сказать о Равеле французском!
Он так в Мусорянина влюбился, что музыкальный подвиг совершил – для оркестра все «Картинки» его переложил.
А что он, Модест-горемыка, в своих письмах писал так: «мели Емеля – твоя неделя», – его дело.
Он письма эти не для печати иностранной писал, а для друга закадычного.
И давайте, господа, не будем влезать в частную, можно сказать, переписку.
Потому как грех это великий.
Глава 9 О драме моего детства (Нелюбовь и примирение)
Мне в детстве не повезло:
я очень рано познал нелюбовь.
Маму любил, папу любил, друзей любил.
А невзлюбил лишь советскую власть.
Уж как она навязывалась, как себя любить заставляла,
и кнутом, и пряником.
И влюбила-таки в себя многих-многих (а может, притворялись?).
Но мне не повезло – не удалось этой власти обрести мою взаимность.
И виноват в этом Федор Михайлович Достоевский.
А может, не он.