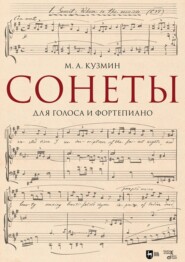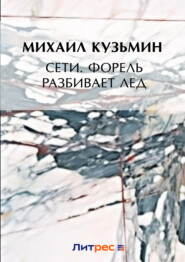По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Раздумья и недоуменья Петра Отшельника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Михаил Алексеевич Кузмин
Заметки о литературе #1
Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу». При общей цельности эстетических взглядов Кузмина можно заметить, что они меняются и развиваются по мере того, как те или иные явления становятся историей. Так, определенную эволюцию претерпевают взгляды Кузмина на искусство символическое, которое он в 20-е гг. осмысляет более широко и более позитивно, чем в статьях 10-х гг. Несомненно, что война 1914 г. усилила в нем его «франкофильство» и отрицание немецкой культуры как культуры «большого стиля». Более многогранно и гибко он оценивает в 20-е гг. Анатоля Франса как типичного представителя латинской культуры. Мы предлагаем вниманию читателя несколько статей разных периодов, отчасти собранных в сборнике «Условности». Остальные статьи – из различных альманахов, журналов и сборников
Михаил Кузмин
Раздумья и недоуменья Петра Отшельника
Возвратясь в мир, я как бы сбит с толку переменами, волнениями, течениями, распрями, новыми славами и новыми домами, появившимися за это время. Я похож на человека, которого во время сна перенесли в другое царство и там разбудили. Поэтому не удивляйтесь, что на первых порах я буду метаться от вопроса к вопросу, от личности к личности. Я не претендую всегда говорить новое, меня пригласили в этот журнал как наивного простеца, который иногда может сослужить роль ребенка из андерсеновского «Платья короля». Я буду говорить вещи простые и беспристрастные, может быть, не новые, а только забытые. Я не строю теорий, я только удивляюсь, люблю и размышляю: к тому же в уединении я привык смотреть на явление с точки зрения вечности и истины, а не беглого сегодняшнего дня, цену которого я хорошо знаю.
Я выступаю в очень трудное и великое по своим последствиям время. Я говорю о Европейской войне. Помимо ужасов, совершаемых немцами, для иллюстрации которых нужен был бы гений Гойи, эта война обнаруживает одну вещь скорее мирного характера, которую, конечно, теперь еще не время разбирать, но которая имеет громадное значение. Мы видим пример, к чему приводит культура, где вместо твердости – упрямство, вместо рыцарства – солдатчина, вместо силы – бессмысленная жестокость, вместо величия – вагнеровский балаган, вместо культуры – усовершенствованные уборные. А между тем этот мираж держал всех в плену, особенно нас, привыкших смотреть на все искусство через немецкие очки. Может быть, нам яснее теперь будет видно светлое, от Бога радостное искусство Франции, мудрое настоящею мудростью, а не бутафорскими ходулями. Может быть, нам станет яснее и наша собственная психология и устремленность, столь противоречащая германизму, покуда проявлявшаяся в мягкости, терпимости, каком-то аморализме, но которая, сосредоточенная, сгущенная, даст неожиданные и замечательные по следствиям явления.
Может быть, эти же свойства, к счастью или к несчастью, не давали в русской литературе возможности обособляться кристаллизированным школам, так как всякая законченность есть уже нетерпимость, окостенение, конец. Но как же существуют символисты, акмеисты, футуристы? На взгляд беспристрастного человека, их не существует: существуют отдельные поэты, примкнувшие к той или другой школе, но школ нет. С тех пор как наши символисты заговорили о символизме Данте и Гете, символизм как школа перестал существовать, ибо для всех очевидно, что речь теперь идет вообще о поэзии, которой часто свойствен символизм. Школа всегда – итог, вывод из произведений одинаково видевшего поколения, но никогда не предпосылка к творчеству, потому смею уверить футуристов и особенно акмеистов, что заботы о теоризации и программные выступления могут оказать услугу чему угодно, но не искусству, не творчеству. И если многие из этих поэтов идут вперед, то это, во всяком случае, несмотря на школу, а отнюдь не благодаря ей. Если же это просто кружок любящих и ценящих друг друга людей, тогда вполне понятно их преуспеяние, потому что где же и расцветать искусству, как не в атмосфере дружбы и любви? При чем же тогда школа? И в обилии школ можно видеть только критическое кипение мыслей (а не творчества), если не личные честолюбия.
Даже на самую сущность творчества, на определение его взгляд очень неустойчив и гадателен. Кажется, еще до сих пор есть люди, которые к художественному произведению подходят с требованиями общественного, морального и политического характера. Конечно, вещи сложные могут разбираться и с этих точек зрения, но едва ли это будет художественной критикой, разбирающей произведения по существу. Вероятно, как воспоминание 60-х годов можно рассматривать и требование неосимволизма от искусства теургических свойств. Вообще, ошибочно обращать главное внимание на действия и влияния данного произведения, а не на его коренные свойства. Опера Обера «Немая из Портичи» вдохновила толпу к восстанию, и тем не менее для нас она остается обыкновенной, ни плохой, ни хорошей комической оперой, как и большинство произведений этого композитора. Можно было бы подумать, что перл из перлов – стихотворение г-жи Галиной «Лес рубят, молодой зеленый лес», если судить по тем восторгам и слезам, которые оно извлекало в аудиториях 80-90-х годов. А между тем это – не более как общие места на гражданский мотив. Разве стихотворение: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым» не высоко комично и разве оно не обусловливало взглядов и поступков целого поколения и, видоизмененное, не живет и теперь? Произведение искусства нельзя познавать по плодам, потому что оно само уже есть плод. Судить его можно по тому, что оживляет, делает искусством мысли, чувства и фабулу, но может существовать и без них. Это – свой глаз. Глаз поэта, отличный от всех, не сделанный другим, а рожденный с этим отличием, которое можно развивать и забросить, но которого нельзя приобрести. Это и есть то зерно, та сердцевина, которая единственно важна и подлежит рассмотрению.
Я говорю «глаз» в самом широком смысле слова: тут и глаз как глаз живописца и наблюдателя, и чувства и, если хотите, мысли. Новизна и «свое» не в том, что вы видите, а каким глазом вы смотрите, – вот что ценно. Тут может произойти смешение новизны индивидуальности и новизны слога, которая, как вещь техническая, может быть достигнута внешними средствами.
Ясновидящие видят не телесными глазами, а внутренним зрением, почему запечатанное письмо, которое должно быть прочтено, кладется им под сердце, а не держится перед глазами. Таково и зрение художника. Похвала ему, когда он исторгает восклицание: «как это хорошо! я никогда этого не думал!». Высшая ступень доводит до простоты и очевидности отзыв – «да ведь это так и есть! как мне раньше не приходило в голову? это так просто!». Тогда является убедительность – лучшая награда искусству.
К технике, признавая или отвергая ее, относятся, как дикари: или не замечая ее, не замечают вместе с тем и сущности искусства, или полагают, что ею можно заменить талант. Ars – и искусство и ремесло; artiste и artisan – родные братья. Не знающий или не чувствующий бессознательно техники своего дела лишен многих достижений. Веселое, божественное, не думающее о цели ремесло – есть искусство.
Придающие главное значение фабуле и идеям в художественном произведении должны считать Канта выше Гете и сочинителя кинематографических пьес выше Бальзака, рассказы без «глаза» может вам дать любой охотник, сплетница и уголовный процесс, поучение – приходский священник, при чем же тут искусство?
Новизна сюжетов скорее всего изнашивается. Почти все великие произведения имеют избитые и банальные сюжеты, предоставляя необычайные вещам посредственным. Лучшая проба талантливости – писать ни о чем, что так умеет делать Ан. Франс, величайший художник наших дней, недостаточно оцененный за чистоту своего искусства. Едва ли применимы в области искусства выражения «гениальный сюжет», «талантливая мысль».
Если признавать два рода или два этапа вдохновения, вдохновение замысла и вдохновение осуществления, которое есть преодоление материала, способность к удивительным находкам, то нет ничего пагубнее, как их соединение. Они связываются художественною памятью, и едва ли, не пройдя этот путь, возможно желательного достигнуть совершенства. Потому горячность и увлечение, необходимые для замысла, не смягченные посредствующей призмой отдаления, могут лишь вредить осуществлению. Горячность при второй стадии творчества скорей похожа на азарт охотника, на радость изобретателя, искателя кладов. Человек, особенно темпераментный, не может сам находиться в том, что он пишет, он должен быть вне, со стороны, желательно выше, лишь вспоминая свои волнения. Довольно неестественное зрелище представлял бы творец, управляемый своим творчеством, а не наоборот. Последнее время со всех сторон раздаются требования силы от художественных произведений, причем силу понимают в ходячем значении этого слова, как бы забывая, что в искусстве оно имеет другое и значение и назначение. Может быть нежная и тонкая сцена написанной сильно и наоборот? Предвзятое желание монтировать силу и темперамент часто приводит к печальным результатам, как всякое насилие, в особенности же подобное.
Вероятно, совсем не любят литературы люди, подуськивающие на преднамеренную силу, грандиозность и так называемое «большое искусство». Настоящая грандиозная и высокая концепция мира и возвышенное мировоззрение почти всегда приводят к умиленности св. Франциска («Сестрица – вода!»), комическим операм Моцарта и безоблачным сатирам А. Франса. Недоразвитые или дурно понятые – к бряцанию, романтизму и Вагнеру.
Сила для силы и темперамент для темперамента делаются не только бесполезными явлениями, но даже вредными и, конечно, вызывают впечатление противоположное тому, которое хотят вызвать.
Конечно, художник, как всякий человек, а может быть, и больше чем кто бы то ни было, должен развивать себя и свои качества, быть совестливым, свободным и любящим, но не дело критики по этим успехам судить его произведения.
Никого не зная в городе, я одинаково бывал везде, где дозволял мне случай. Я был и в «Бродячей Собаке»: литературный кружок, акмеисты, эго-футуристы, «всёки», художники. «Вот наше искусство!» – шепнули мне. Кузмин читал доклад: Хлебников, Модзалевский… На другой день я был в литературном салоне у солидной и сановной дамы. Говорили о Потапенке, Фонвизине, осторожно о Куприне и Юрие Беляеве; о «всёках» никто не знал. Я подумал о известности и школах. Школа в стенах кабачка – не далее, известность в гостиной – не более. В другом ресторане, может быть, другие известности. Повсеместно известна только Вербицкая, но есть какая-то середина между взглядами кружка и точкой зрения лабазной. Я думаю, что в эту середину скорее войдут люди из кружка, нежели с базарной площади, но и там многие известности окажутся совершенно неизвестными, и не только по молодости лет.
Как человек, отвыкший от принятых мер, я буду всегда говорить, не считаясь с котировкой, может быть, буду даже делать промахи, принимая ветерана за новичка и новичка за ветерана. Предупреждаю об этом, чтобы на меня не сетовали за мою наивность, а простили бы, потому что тут не будет никакого злого умысла.
Перечитывая все написанное, с сожалением вижу, что я не сказал и одной десятой того, чего хотел и мог бы. Притом мысли изложены так беспорядочно, что нужно большую добрую волю, чтобы дочитать их. Но я и адресуюсь к людям доброй воли и чистого сердца. Я был бы счастлив, если бы все партийные, кляузные, тщеславные, снобические, надутые и глупые люди меня не читали, чтобы я мог говорить без боязни обид, сердце к сердцу.
Вот еще предмет недоумения для всех не тщеславных тупиц и не лабазников: как остаются в тени, а если и оцениваются, то вовсе не за все то, за что достойны, такие крупные и русские писатели, как В. Розанов и Алексей Ремизов?
Покуда прощай, читатель; чего не договорил, договорю в другой раз. Об одном прошу: если тебе не нравится, не читай. Есть без меня много хороших писателей: Львов-Рогачевский, г-жа Колтоновская и др.
Петр Отшельник.
1914