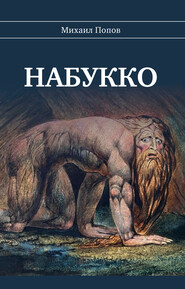По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Праздность
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из городской братвы,
Средь сосновых корней
И под ковром травы.
Летчик, танкист, алкаш…
Рыскаю, словно рысь,
Кладбище – ералаш,
Могилы как разбрелись!
Или сбились в толпу,
Опять заблудился я.
Пот бороздит по лбу…
Ну вот и мама моя.
Плутал и нашел, стою —
И так все пятнадцать лет,
И снова осознаю —
Ее тут в помине нет!
Нет Нины вон той и Ильи,
Раисы, Ивана, Льва,
Не для Петра соловьи.
Не для Фомы дерева.
Поросший сосной бугор
Прекрасен со всех сторон,
Но все же где-то не здесь.
Но было: порыв грозы
Застал меня на холме —
Сначала мертвая зыбь,
А после – орган во тьме.
Вроде как охмелев,
Запели из темных нор
Таксист и братва, и Лев
И это был сильный хор.
Рыдали все дерева,
И тонко мне грыз висок,
Слышный едва едва-едва,
Мамочкин голосок.
«На водной глади замер пух…»
На водной глади замер пух
ветла склоняется над прудом,
все, все беззвучно – только слух
за звуком мчится, как за чудом.
Вдруг лист осиновый плеснет,
как будто проявляя нервность,
то ласточка вдруг полоснет
крылом безвольную поверхность.
Та что-то ей сверкнет в ответ,
и снова залегла в молчанье,
и тишина, как белый свет,
хранит всю радугу звучаний.
«Потрясенный открытием страшным…»
Потрясенный открытием страшным,
дядя Саша несется в киоск,
хмель сегодняшний вслед за вчерашним
орошают испуганный мозг.
Но комок не расходится в горле,
он нашел средь журнальных страниц:
«Динозавры не все перемерли,
а дожили до нас в виде птиц».
В магазине, где куры нагие,
он застыл, словно столп из земли:
динозавры мои дорогие,
до чего вы себя довели!
Март
Влага на черном блестит рубероиде,
Кот у сарая: «Пошто не орем?»
Если окно вы случайно откроете,
В нос вам ударит нашатырем.
Солнечный свет совершает насилие
И заставляет глухие сады,
Вновь из-под снега явить изобилие
Всякой воскреснувшей ерунды.
Археология тихая, сонная,
Вскрылась коляска, а рядом совок,
Вот и ведерко от снега спасенное:
Хочется сделать огромный зевок.
Средь сосновых корней
И под ковром травы.
Летчик, танкист, алкаш…
Рыскаю, словно рысь,
Кладбище – ералаш,
Могилы как разбрелись!
Или сбились в толпу,
Опять заблудился я.
Пот бороздит по лбу…
Ну вот и мама моя.
Плутал и нашел, стою —
И так все пятнадцать лет,
И снова осознаю —
Ее тут в помине нет!
Нет Нины вон той и Ильи,
Раисы, Ивана, Льва,
Не для Петра соловьи.
Не для Фомы дерева.
Поросший сосной бугор
Прекрасен со всех сторон,
Но все же где-то не здесь.
Но было: порыв грозы
Застал меня на холме —
Сначала мертвая зыбь,
А после – орган во тьме.
Вроде как охмелев,
Запели из темных нор
Таксист и братва, и Лев
И это был сильный хор.
Рыдали все дерева,
И тонко мне грыз висок,
Слышный едва едва-едва,
Мамочкин голосок.
«На водной глади замер пух…»
На водной глади замер пух
ветла склоняется над прудом,
все, все беззвучно – только слух
за звуком мчится, как за чудом.
Вдруг лист осиновый плеснет,
как будто проявляя нервность,
то ласточка вдруг полоснет
крылом безвольную поверхность.
Та что-то ей сверкнет в ответ,
и снова залегла в молчанье,
и тишина, как белый свет,
хранит всю радугу звучаний.
«Потрясенный открытием страшным…»
Потрясенный открытием страшным,
дядя Саша несется в киоск,
хмель сегодняшний вслед за вчерашним
орошают испуганный мозг.
Но комок не расходится в горле,
он нашел средь журнальных страниц:
«Динозавры не все перемерли,
а дожили до нас в виде птиц».
В магазине, где куры нагие,
он застыл, словно столп из земли:
динозавры мои дорогие,
до чего вы себя довели!
Март
Влага на черном блестит рубероиде,
Кот у сарая: «Пошто не орем?»
Если окно вы случайно откроете,
В нос вам ударит нашатырем.
Солнечный свет совершает насилие
И заставляет глухие сады,
Вновь из-под снега явить изобилие
Всякой воскреснувшей ерунды.
Археология тихая, сонная,
Вскрылась коляска, а рядом совок,
Вот и ведерко от снега спасенное:
Хочется сделать огромный зевок.
Другие электронные книги автора Михаил Михайлович Попов
Набукко




 0
0