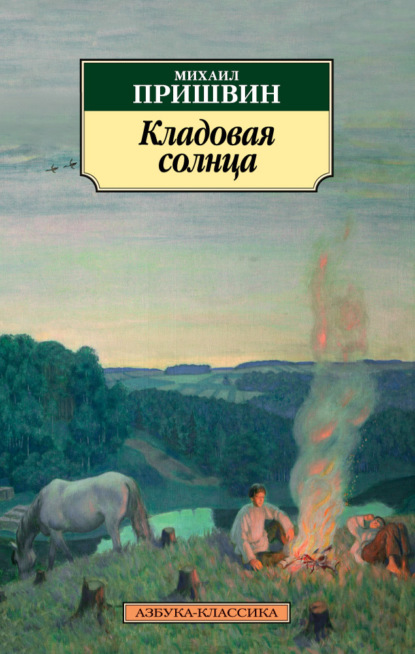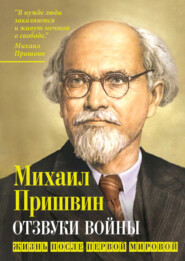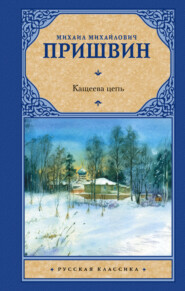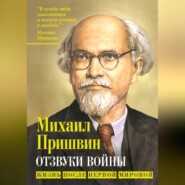По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кладовая солнца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Молодец твой старец. Ну, что же барыни?
– Конечно уверовали.
– Дуры твои барыни, тут и немудрому просто: каждой такой скажи «поболтай», и верно придется. Ты лучше вот что: поезжай к нему сначала одна, седая; приедешь черная – тут я поверю и отдам ему на монастырь все свои пароходы.
Вышло очень неловко при Софье Александровне; все замолчали, и Астахов одумался.
– Ты, сестра, – сказал он серьезно, – чем к монахам за советами ездить, лучше отдай-ка мне твоего мальчика, у нас там есть своя гимназия, кончит, будет у меня капитаном, а то все у меня такая рвань и шпана, образованных людей у нас вовсе нет.
– У него же волчий билет, – ответила мать, – его с ним не примут ни в какую гимназию.
– В Сибири все с волчьими билетами, сам директор вышел из ссыльных. Покажи мне бумагу.
Мать приносит. Астахов берет и разрывает в куски.
– Что ты сделал? – ужасается мать.
– Какие вы все, барыни, чудные! – смеется Астахов. – Сама говоришь, с этим билетом никуда не принимают, так зачем же его нужно беречь? Ну, говори, отдаешь ты его мне?
– Я не против, только надо же мне и его спросить.
– Так разве это не тот мальчик, что когда-то убежал было в Азию? А если он, так и спрашивать нечего: Сибирь в Азии, – он рад будет ужасно.
– Конечно будет рад, – согласилась Дунечка, – это единственный выход.
– У меня будто камень от сердца начинает отваливаться, – сказала мать. – Ты что? Серьезно, Ваня?
– А то как еще? Вот сейчас и выпьем отвальную.
Уходит в свою комнату и возвращается с большими гостинцами. Курымушка ни жив ни мертв: он хорошо знает, что «самый высший» всегда говорится при подарках: богатому человеку кажется, что бедные не поймут, какие это дорогие подарки, и потому, выкладывая, прибавляет: «Самый высший».
Достает из кулька бутылку шампанского с этикеткой «sec» и говорит.
– Сек.
Не твердо, как по-французски – «сэк», а очень мягко – «сек», все равно как если что по-французски мягко, он непременно скажет по-русски и твердо: не Золя, а Зола. И не то чтобы не знал или не хотел, а просто ему стыдно быть не самим собой и произносить слова по-иностранному.
– Сек, – сказал он и сейчас же как будто и перевел это слово: – Са-мый высший!
Внезапно на диване что-то зашипело, засвистало и лопнуло смехом.
Все с удивлением оглянулись туда.
– Ты чего это?
Курымушка ответил:
– Я слышал разговор и очень обрадовался, что меня отправляют в Азию.
Мать облегченно вздохнула:
– У меня будто камень отвалился от сердца.
Золотые горы
Про этого дядю, сибирского пароходчика, с малолетства в нашей семье был разговор в тех случаях, когда терялась всякая надежда на счастье.
– А как же дядя Иван Иванович? – говорил кто-нибудь в опровержение теории безнадежности.
И тогда начинался рассказ, построенный на сравнении староверского купеческого дома Астаховых в Белеве, на чудесной реке Оке, родине астаховского староверского дома моей матери, и дома Алпатовых в Ельце.
– Что это, – говорили, – елецкий чернозем степного вида – хорош чернозем, да в нем трещинки, куда все утекает. Вот и Михаил Дмитриевич, – (мой отец), – чем бы дом в Ельце собирать, а он обратился в помещика и… разгуляй-гуляй – все в трещинку убежало.
– А вот в Белеве даже ни один ручей не пропадает даром: всё держат и охраняют леса, и сами люди держатся старой крепкой веры и молятся двумя перстами. И ведут себя люди по-другому, хотели было разделиться, да Иван Астахов не дал. Он забрал в долг у своих сколько-то денег, уехал в Сибирь и через какое-то, даже не очень и долгое время обратился в сибирского знатного пароходчика.
Как уж он сам в душе, был ли счастлив Астахов, но для родных счастье было в его сибирской стороне, и всем родным он помогал.
Сейчас вот только и догадываюсь: потому, может быть, он и помогал, что своей семьи не было и жил он во дворце своем на реке Туре совершенно один.
Теперь выпало из моей памяти, почему же появился Астахов как раз к тому времени, когда в доме переживалось несчастье.
Очень может быть, что мать написала ему о беде и «счастливый человек», соединив ряд дел, присоединил и это: сделать из мальчика своего капитана.
Так скоро все было решено, и Алпатов поехал с дядей в Сибирь.
Правда же, другой раз лучше и много легче идти с поклажей за спиной набитой тропинкой, чем сидеть на бархатном диване скорого поезда против тяжелого человека и не осмеливаться раньше его слова сказать. И в голову не приходит, что тяжелый человек сам дожидается легкого, веселого слова: болтай, что в голову придет, и он будет рад. Но где было догадываться исключенному гимназисту! Тяжелый дядя навис над ним и подавил.
Ехали тяжелыми, черноземными почвами, перекрытыми красными глиняными балками, пересеченными широкими, гуртовыми, большими дорогами, узкими белыми проселочными и зелеными полынными рубежами. За весь день тяжелый дядя спросил:
– Ты ездил когда-нибудь по железной дороге?
– Нет, дядя, не ездил.
– Вот теперь едешь. Удивляйся!
Ехали почвами легкими, светлыми. Целый день мелькали в окне у ручьев скромные рощи, стада гусей, тихие заводи и поруби с немногими тонкими, уцелевшими на них склоненными березками. Тут на легкой почве за целый день тяжелый дядя сказал:
– Вот и леса пошли.
– Да, пошли, дядя. Где же они кончаются?
Дядя, подумав, сказал:
– Они не кончаются.
И опять замолчал. Купил на станции «Русские ведомости» и читал их до вечера, после со свечкой принялся за объявления и вдруг совсем неожиданно спросил:
– Что это значит: эн-цик-ло-пе-ди-чес-кий словарь?