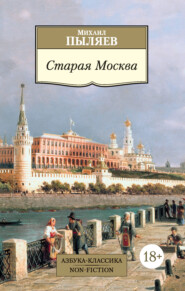По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Замечательные чудаки и оригиналы (сборник)
Автор
Год написания книги
1898
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отправляясь на вечер или на обед, говорят, он спрашивал своих товарищей: «Как хотите, заставить ли мне сегодня слушателей плакать или смеяться?» И с общего назначения то морил со смеха, то приводил в слезы.
Веревкин был директором Казанской гимназии, когда Державин был там учеником. «Помнишь ли, как ты назвал меня болваном и тупицею?» – говаривал потом бывшему начальнику своему тупой ученик, переродившийся в министра и статс-секретаря и первого поэта своей нации.
Старинные комедии всегда любили личности. Таковы комедии и Веревкина, первая «Так и должно» написана на подьячих, вторая, небольшая шутка, написана на Суворова, в ней осмеяны странные причуды его; третья его комедия «Точь-в-точь», сочиненная в Симбирске, что означено на ее заглавии. Ив. Ив. Дмитриев говорит, что он помнил еще воеводу и секретаря, изображенных в последней. В старые годы аристофановскою вольностью страдали все драматурги. Комедия кн. Дашковой «Господин Топсеков» была тоже копиею с лица известного. О комедии Лукина «Мот, любовью исправленный» говорит Новиков в своем «Словаре писателей», что сочинитель ввел в свою комедию два смешных подлинника, которыми представлявшие актеры весьма искусным и живым подражанием, выговором, ужимками и телодвижением, также и сходственным к тому платьем, весьма много смешили зрителей. Комедия Крылова «Проказники» была написана на семейство Княжнина. Комедия князя Шаховского «Новый Стерн и Липецкие воды» возбудила негодование многих современников тоже за намерение изобразить известных лиц. Несколько эпиграмм по этому случаю были написаны на Шаховского. В «Горе от ума» Грибоедова тоже в Москве узнавали людей известных, и в Фамусове – Алексея Федоровича, дядю сочинителя.
Комедия Веревкина «Так и должно» была дана на открытие тамбовского театра, пьеса эта, как пишет Державин, была им избрана с нравоучительною целью, она была направлена против подьячих и крючкотворцев, которых Державин немало застал в Тамбове.
Глава XIII
Оригинал П.Г. Демидов. – Чудачества князя Грузинского. – Страсть его укрывать беглых и бродяг. – Странности адмирала Ф.Ф. Ушакова. – Остряк генерал Львов. – Помещица Ра-на и ее двор. – Князь Г. Г-н и гофмаршал, камергеры и фрейлины. – Придворный штат села князя Куракина. – Самодурства князя «Юрки». – Чудачества князя Голицына, прозванногоJean de Paris. – Князь «Cosa rаrа» и его баснословная расточительность
Известный создатель Ярославского лицея Пав. Гр. Демидов – пожертвовавший не один миллион науке и народному просвещению, отличался большою скромностью, граничащею с чудачеством. Нравственная сторона его жизни достойна подражания. Он был всегда тих, кроток, прямодушен, честен, справедлив и во всем чрезвычайно умерен. Его строгая жизнь и умеренность были изумительны.
При своих несметных богатствах он тратил на стол шесть, семь рублей в месяц. Утром обыкновенно он пил чашку кофе или шоколад, обед его состоял из самого слабого бульона и одной котлетки, из которой он сосал только сок. После обеда пил чай с молоком, не более одной чашки, а зимой ел пять, шесть ложек кислого молока, хлеба употреблял в день не более четверти фунта.
Будучи врагом всякой роскоши, носил несколько лет один кафтан. Он целый день проводил в письменных ученых занятиях, музыку любил страстно и сам играл на скрипке и фортепиано. Никогда, никаких праздников и обедов у себя не давал, и его называли скупым за то, что он не давал никому взаймы денег. «Всякий должен довольствоваться тем, чем его благословил Бог», – говорил он. Со своих многочисленных крестьян он брал в год оброку с семейства только пять рублей Своего рода филантропом считал себя проживавший в начале нынешнего столетия в богатом приволжском своем имении, с. Лыскове, Нижегородской губернии, князь Е.А. Грузинский; он вообразил, что послан, чтоб покровительствовать всем бедным и угнетенным, в силу чего он принимал к себе с большим радушием всех беглых и несчастных, а также укрывал у себя и бежавших крепостных, чем-нибудь недовольных от его соседей. Число таких призреваемых у этого богатого князя возросло до нескольких сот человек. Лысково известно было на сотни верст как странноприимный приют, в котором принимались с большим разбором и с удостоверением в том, что прибегавший к помощи был не вор, не убийца, а только простой бродяга.
На земскую полицию князь наводил почти какой-то ужас – у него были под домом подземелья и таинственные в лесах становища. Князь был суров нравом, и суд его над беглыми был более чем жесток иной раз. Князь И.М. Долгорукий говорит про князя, что этот человек – отважный буян, он вмешивался в дела каждого, судил и рядил по произволу и каждому доказывал вину его и правость коренными русскими аргументами, т. е. кулаками: кому глаз выбьет, кому бороду выдерет – такова юстиция его светлости, все жители губернии не смеют на него жаловаться, все запугано пышным его именем. Селение его наполнено беглыми, они у него торгуют, водворяются, и никто их пошевелить не смеет. Правительство местное все это знает, но молчит, а то князь по своим связям надует такие тучи, от которых никто не спасется.
Когда князь, наконец, был предан суду за притоно-держательство беглых, то он воскликнул с удивлением: «Как суд? Суду за добрые дела! Да я сколько хлеба одного каждогодно издерживаю на таких гостей».
Известный своими победами на море в екатерининское время адмирал Федор Федорович Ушаков в частной жизни отличался большими странностями: при виде женщины, даже пожилой, приходил в страшное замешательство, не знал, что говорить, что делать, стоял на одной ноге, вертелся, краснел.
Отличаясь, как Суворов, неустрашимою храбростью, он боялся тараканов, не мог их видеть. Нрава он был очень вспыльчивого: беспорядки, злоупотребления заставляли его выходить из приличия, но гнев его скоро утихал. Камердинер его, Федор, один только умел обходиться с ним, и когда Ушаков сердился, он сначала хранил молчание, отступал от Ушакова, но потом сам в свою очередь возвышал голос на него, и барин принужден уже был удаляться от слуги, и не прежде выходил из кабинета, как удостоверившись, что гнев Федора миновал. Ушаков был очень набожен, каждый день слушал заутреню, обедню, вечерню, и перед молитвами никогда не занимался рассматриванием военно-судных дел; утверждая приговор, был исполнен доброты.
Ушаков был долго грозою и бичом турок, которые иначе его не называли, как паша-Ушак; он приобрел все чины и все знаки отличия только личною своею храбростью.
Происходил он родом из бедных тамбовских дворян, Темниковского уезда, и очень любил всем рассказывать, как он в молодости ходил в лаптях.
В 1801 году Ушаков определен был главным командиром Балтийского порта и всех корабельных экипажей, находившихся в Петербурге. Он представил в 1806 году в дар отечеству алмазную челенгу; но император возвратил ему, сказав, что знак этот должен сохраняться в потомстве его как памятник подвигов его на водах Средиземного моря.
Суворов очень уважал Ушакова. Когда в бытность его в Италии к нему приехал курьер с депешами от Ушакова, начальствовавшего в то время соединенным российско-турецким флотом в Средиземном море, то, прочитав некоторые бумаги, Суворов вдруг обратился к привезшему их и спросил: «А что, здоров ли мой друг Федор Федорович?» Посланный курьер-немец не сразу догадался, о чем спрашивает Суворов, и, не знавший еще всех причуд героя, смутившись сказал: «А, господин адмирал фон Ушаков! Я оставил его в добром здоровье, и он поручил мне засвидетельствовать вашему сиятельству свое искреннее почтение». – «Убирайся ты с твоим „фон“! Этот титул ты можешь придавать такому-то и такому-то, потому что они нихтбешмирзагеры, немогузнайки, а человека, которого я уважаю, который своими победами сделался грозою для турок, потряс Константинополь и Дарданеллы и который, наконец, начал теперь великое дело – освобождение Италии, отнял у французов крепость Корфу, еще никогда не уступавшую открытой силе, этого человека называй всегда просто – Федор Федорович!» Ушаков умер в 1817 году в своем тамбовском имении, ведя жизнь почти отшельническую.
К числу больших причудников и остряков надо отнести любимца Потемкина, генерала от инфантерии Сергея Лаврентьевича Львова. Этот придворный, вместе с острым умом, отличался примерною храбростью и редким присутствием духа – его воинские подвиги известны при осаде Очакова и взятии Измаила, где он командовал первою колонною правого крыла.
Известный Spada в своих Ephemerides Russes (St Pe'tersbourg, 1816) приводит несколько острот этого генерала.
Вот некоторые анекдоты Львова. Лорд Витворт подарил императрице Екатерине II огромный телескоп, которым она очень восхищалась. Придворные, наводя его на небо, уверяли, что на луне различают даже горы. «Я не только вижу горы, но и лес», – сказал Львов. «Ты возбуждаешь и во мне любопытство», – произнесла императрица, вставая с кресел. «Торопитесь, ваше величество, – продолжал Львов, – лес уже начали рубить; подойти не успеете, как его срубят».
«Что ты нынче бледен?» – спросил его раз Потемкин. «Сидел рядом с графинею Н., и с ее стороны ветер дул, ваша светлость», – отвечал Львов. Графиня Н. сильно белилась и пудрилась.
«Давно ли ты сюда приехал и зачем?» – спросил Львов своего друга, встретив его на улице. – «Давно и, по несчастью, за делом». – «Жаль мне тебя! А у кого в руках дело?» – «У N N.». – «Видел ты его?» – «Нет еще». – «Так торопись и ходи к нему только по понедельникам. Его секретарь обыкновенно заводит его по воскресеньям, вместе с часами, и покуда он не размахается, путного ничего не сделает». Львов говорил про секретарей, что они имеют сходство с часовою пружиною, потому что невидимо направляют ход. По словам Храповицкого, императрица Екатерина II, едучи в Крым, исключила из своей свиты Львова, сказав: «Бесчестный человек в моем сообществе жить не может», но потом государыня простила Львова и всегда щедро награждала по представлениям Потемкина. Гнев императрицы на Львова, как полагать надо, вышел за неплатеж долгов Львовым: он был очень небогатый человек и всегда запутанный в своих денежных делах. Львов с воздухоплавателем Гарнереном летал в воздушном шаре. Известный тоже остряк Александр Семенович Хвостов напутствовал его вместо подорожной следующим экспромтом:
Генерал Львов
Летит до облаков,
Просит богов
О заплате долгов.
На что Львов, садясь в гондолу, ответствовал без запинки такими же рифмами:
Хвосты есть у лисиц, хвосты есть у волков.
Хвосты есть у кнутов, берегись, Хвостов.
На вопрос известного адмирала Шишкова, что побудило его отважиться на опасность воздушного путешествия с Гарнереном, Львов объяснил, что, кроме желания испытать свои нервы, другого побуждения к тому не было. «Я бывал в нескольких сражениях, – сказал он, – больших и малых, видел неприятеля лицом к лицу и никогда не чувствовал, чтоб у меня забилось сердце. Я играл в карты, проигрывал все, до последнего гроша, не зная, чем завтра существовать буду, и оставался так же спокоен, как бы имея миллион за пазухою. Наконец, вздумалось мне влюбиться в одну красавицу-полячку, которая, казалось, была от меня без памяти, но в самом деле безбожно обманывала меня для одного венгерца; я узнал об измене со всеми гнусными ее подробностями и мне стало смешно. Как же, я думал, дожить до шестидесяти лет и не испытать в жизни ни одного сильного ощущения! Если оно не давалось мне на земле, дай поищу его за облаками: вот я и полетел. Но за пределами нашей атмосферы я не ощутил ничего, кроме тумана и сырости, немного продрог – вот и все».
Император Павел I, разговаривая однажды с Львовым на разводе, облокотился на него.
– Ах, государь, – произнес с сожалением Львов, – могу ли я служить вам опорою?
Однажды Потемкин рассердился на Львова за что-то и перестал говорить, но Львов не обратил на это особенного внимания и продолжал каждый день обедать у фельдмаршала.
– Отчего ты так похудел? – спросил, наконец, его Потемкин.
– По милости вашей светлости, – отвечал сердито Львов.
– Как так?
– Если бы вы еще немного продолжали на меня дуться, то я умер бы от голода.
– Я ничего не понимаю! – возразил Потемкин. – Какое может иметь отношение к голоду моя досада на тебя?
– А вот какое, и очень важное: прежде все оставляли меня в покое и не нарушали моих занятий, а чуть только показали бы мне хребет, я не стал иметь отдыху. Едва только поднесу ко рту кусок, как его отрывают вопросами. Не смел же я не отвечать, находясь в опале.
Любимая племянница Потемкина, графиня Браницкая, забавляясь однажды при Львове примериванием разных нарядов, обернула себе голову драгоценным собольим боа.
– Как я в этом буду? – спросила она Львова, кокетничая.
– Просто будете с мехом (смехом), – отвечал он. «Какое различие между трутом и школьником? – спросил он однажды, и когда все затруднялись ответом, сказал: – То, что трут прежде высекут, а потом положат, а школьника сперва положат, а потом высекут».
По рассказам С.П. Жихарева Львов в обществе был неистощимый рассказчик разных любопытных происшествий в армии при фельдмаршалах Румянцеве и князе Потемкине: он забавлял людей, которые, кажется, от роду своего не смеялись никогда.
Лет пятьдесят, шестьдесят тому назад у нас в России, особенно в провинции, мудрено было удивить самодурством. Редкий из зажиточных помещиков не отличался особыми причудами. На такие причуды ушли колоссальные состояния.
В Орловской губернии, в Малоархангельском уезде, жила помещица старушка Ра-на, помешанная на всевозможных придворных церемониях. Зал, в котором она принимала своих знакомых и «подданных» (как величали тогда своих крепостных людей), представлял нечто до нелепости странное; это была большая комната в два света, расписанная в виде рощи, пол которой изображал партер из цветов; посредине был устроен из зеркальных стекол пруд, на котором плавали искусственные лебеди; по дорожкам стояли алебастровые фигуры богов и богинь древней Греции.
Клумбы из искусственных цветов во время выходов помещицы напрыскивались одеколоном и «альпийской водой». На больших деревьях, там и сям поставленных, порхали снегири, синицы и другие певчие птицы. Сама помещица сидела на золотом троне, в ногах ее стояли и лежали пажи и арабчики.
Каждое воскресенье и двунадесятые праздники здесь происходили приемы после обедни; первым являлся сельский священник с причтом, о. диакон нес торжественно на серебряном блюде большую просфору. Несмотря на то, что церковь от усадьбы была в расстоянии полуверсты, помещица к обедне ездила всегда со свитой не менее, как в пятьдесят человек. Кроме господского, экипажей в поезде было не менее десяти; сама владелица ехала в громадной откидной колымаге, называемой «Лондоном», запряженным восьмериком. Кучер сидел так высоко, что был на уровне с коньками крестьянских изб. Второй экипаж был дермез, запряженным четверкой, третий – четырехместная коляска в шесть лошадей, потом коляска двухместная, потом крытые дрожки, потом две польские брички; наконец, две-три линей и несколько кожаных кибиток. Барыня была жена генерала, любила почет и уважение. Торжественные приемы ее, как говорили, доходили до Петербурга, но им только посмеивались; таких помещиц и помещиков было тогда немало.
Князь Г. Г-н, один из самодуров тоже замечательных, в своем подмосковном поместье учредил даже нечто вроде маленького двора из своих «подданных». У него были гофмаршалы, камергеры, камер-юнкеры и фрейлины, была даже и «статс-дама», необыкновенно полная и представительная вдова-попадья, к которой «двор» относился с большим уважением: она носила на груди род ордена – миниатюрный портрет владельца, усыпанный аквамаринами и стразами. Князь Г. своим придворным дамам на рынках Москвы скупал поношенные атласные и бархатные платья и обшивал их галунами. В празднику него совершались выходы; у него был составлен собственный придворный устав, которого он строго придерживался.
Балы у него отличались особенным этикетом, – на его балах присутствовали только его придворные. В зале, ярко освещенном, размещались приглашенные, и когда все гости были в сборе, с хор неслись звуки торжественного марша, сам барин входил в зал, опираясь на плечо одного из своих гофмаршалов. Бал открывался полонезом, причем помещик вел «статс-даму», которая принимала приглашение князя, предварительно поцеловав его руку. Князь удостаивал и других дам приглашением на танец, причем они все прежде подобострастно прикладывались к его руке. Бал завершался шумным галопадом, а последний нередко превращался в веселую барыню.
В Орловской губернии, в нескольких верстах от уездного города Малоархангельска, существует большое село князей К-ных. Там, на обширном дворе, в виду сельского храма, виднеется небольшое кладбище, обросшее пирамидальными тополями. Кладбище это переносит нас к бывшим барским причудам одного из владельцев, причуды которого мы уже рассказали выше. Там между несколькими уцелевшими весьма недурными каменными мавзолеями еще в шестидесятых годах можно было отыскать несколько с особами пышной дворни князя К. В одной могиле похоронена «девица Евпраксия, служившая до конца дней своих при дворе его сиятельства камерюнгферой», на другой могиле написано, что «в ней покоится Сенька Триангильянов», бывший в ранге полицмейстера в придворном штате его сиятельства, далее находим «Стремяной Иаким Безупречный, проливший кровь за своего властелина 9-го октября 1819 года» и т. д.
Что только ни происходило при жизни этого гордого вельможи! Окруженный многочисленной дворней, он, как и брат его, разыгрывал при ней роль немецкого принца и мечтал, что он в своем владельческом княжестве. Он давал такие обеды, за которыми как хозяин, так и гости бывали так пьяны, что не могли ни дверей сыскать, ни без помощи слуги сесть в свою карету. Это называлось на языке князя «обеды при закрытых дверях». Он принимал приезжих гостей обыкновенно у себя в спальне, когда ему мылили бороду; по сторонам его стояли шуты в золоченых камзолах. Гордость князя граничила до смешного, он рассчитал своего старого домового доктора за то только, что тот осмелился ночью, во время приступа болезни князя, явиться не во фраке. Кто, впрочем, в былые годы не доходил до сумасбродства в деревне, чтобы показать себя своим вассалам и чинить там суд и расправу?
Известный своим самодурством Голицын, по прозванию «Юрка», рассказывает, как он в юношеских своих годах приехал в свое родовое имение по выпуске из Пажеского корпуса, где он окончил курс с первым гражданским чином. До выезда из Петербурга он послал в вотчинную контору приказ, которым уведомлял, что будет в Троицын день, в престольный праздник; позднюю обедню он предполагал слушать в приходском своем соборе, о чем предписывал уведомить как духовенство, так и окрестных помещиков, и подлинный его приказ прочесть на мирском сходе. Ему казалось, – как он сам иронически замечает, – что величественнее этого приказа до сих пор еще ничего не было; для пущей важности приказ был написан на бристольской бумаге, вложен в огромный конверт казенного формата, с гербового печатью в ладонь, и отправлен по эстафете, т. е., – думал он про себя, – «таким образом посылаются только царские грамоты».