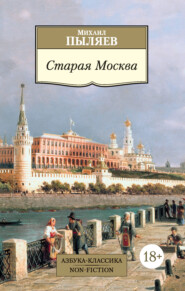По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Замечательные чудаки и оригиналы (сборник)
Автор
Год написания книги
1898
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это говорилось совершенно простодушно, в ту среду, в которой она родилась, не проникали иные понятия.
Петербургская сторона в старые годы изобиловала чудаками и оригиналами. Там можно было найти людей, убивших весь свой век и состояние на тяжбы. Такие несчастные по вечерам и ночам сидели дома над бумагами, выводя в тишине крючки на прошениях. Рано же утром их встречали уже на Мытном перевозе. Сюда они собирались, чтоб переехать в Сенат, обремененные связками и свертками бумаг.
Лет пятьдесят тому назад почти ежедневно видели здесь одного худого, чахлого старичка, который с видимым усилием приносил под мышкой тяжелое толстое березовое полено, тщательно завернутое в клетчатый бумажный платок; садясь в лодку, он бережно клал его к себе на колени, любовно глядел на него и укутывал заботливо, словно мать ребенка.
– Берегите, берегите его, – говорили часто, смеясь, старичку молодые чиновники, – не равно простудится ваше полено, станет кашлять, спать не даст.
– Полно-те смеяться, – отвечал старичок, – оно мне и так сорок лет не дает спать.
– Да отчего же?
– Разве я вам не рассказывал?
– Нет, право, нет!
– Ой, рассказывал!
– Нет, нам не рассказывал, может быть, другим рассказывал, а нам нет.
– Это дело прелюбопытное, – начинал старичок, – от этого полена зависит все мое состояние, оно, извольте видеть, не простое полено, оно мое сердечное, образцовое… В 1798 году я ставил подряд на дрова…
И старик в тысячный раз рассказывал своим обычным слушателям, как он ставил куда-то дрова по подряду, как ему не заплатили вполне всех денег, потому, будто бы, что дрова были короче, нежели положено по условию; как он с секунд-майором А. и провинциальным секретарем Б., призвавши их в свидетели, взял собственными руками из кучи своих дров полено, так, без выбору, зря, спрятал его, завел дело и проч., и теперь для доказательства, в случае потребует надобность, постоянно отправляясь в Сенат, берет свое полено, высчитывает, сколько носовых платков износило это полено и т. п.; словом, говорил, пока лодка не причаливала к другому берегу и его слушатели не разбегались по разным направлениям; тогда он, вздохнув, давал копейку лодочнику, брал бережно полено под мышку и отправлялся в Сенат.
На Петербургской стороне существовала Плуталова улица, названная так от одного домовладельца, жившего на ней, за то, что последний, выходя из дому, потом уже никак не мог возвратиться домой; он обладал такой слабой памятью, что узнать ворот своего дома без помощи других не мог – его или приводил всегда к крыльцу будочник, или его вела старуха-кухарка. Старик весь век так и прожил в ней, жалуясь всем на свою гадкую память. «Трудно, трудно мне, – говорил он, – но еще труднее было бы, если б опять меня в школу».
В начале шестидесятых годов, в Гостином дворе на верхней линии торговал старик, купец-меховщик, человек довольно высокого роста и очень тучный, известный между гостинодворцев за свою неудержимую страсть к поездкам под именем «всемирного путешественника». Он был замечателен тем, что изумлял всех тем количеством верст, которые он проехал. По его вычислениям, если принять окружность всего земного шара в 37 800 верст, то выходит, что он земной шар объехал тридцать раз в свою жизнь, или проехал более одного миллиона верст. Чтоб исчисления этого купца не показались преувеличенными, надобно сказать, что при хорошем устройстве дорог в Сибири и чрезвычайно скорой езде, до открытия золотых промыслов, весьма легко было на вольных лошадях проезжать в сутки летом от 200 до 250, а зимою от 300 до 350 верст, платя за версту от 5, 7 и 10 коп. за тройку.
Купец или приказчик меховыми товарами в старину проводил большую часть года в разъездах, мог проезжать в четыре зимние месяца от 36 000 до 42 000, в четыре летних месяца (полагая два месяца на прожитие в городах и селениях), от 24 000 до 30 000 в течение одного года, при двухмесячном отдыхе, объехать от 60 000 до 72 0 00 верст, а в десять только лет проехать ужасное пространство от 600 000 до 720 0 00 верст.
Но этот купец разъезжал по сибирским дорогам, закупая пушные товары, в Якутск, Иркутск, Кяхту, Ирбит и в Нижний, слишком сорок лет, начав разъезды с юношеского возраста. По его рассказам, первые тарантасы в Сибири явились в 1826 году, их называли там «карандасом», и что ранее приказчики и купцы ездили в обыкновенных повозках. Сколько должны они были вытерпеть толчков и ударов при беспрерывных разъездах! Сколько с каждым случалось таких происшествий, где жизнь их подвергалась опасности! Сколько им нужно было претерпеть от беспрерывных дождей или тридцатиградусных морозов. По его словам, от морозов они спасались тем, что зажигали в повозках свечи, и это очень согревало, тогда существовали большие фонари для свечей. Такие продолжительные поездки редко кто выносил, по большей части умирали от болезней почек. Известный военный генерал-губернатор Восточной Сибири Корсаков, проехавший не одну сотню тысяч верст, умер от блуждающей почки. С постройкой железной дорога в Сибири, рассказы о быстрых поездках на обывательских лошадях отойдут в область мифа. Кто поверит, что по льду на Байкале ездят 54 версты в два часа? Во время сильного ветра здесь невозможно даже ехать тихо: легкая повозка скользит по зеркальной поверхности озера и сбивает лошадей с прямого пути.
Вот примеры продолжительной скорой езды. Во времена иркутского гражданского губернатора Трескина, с 1806 по 1819 год, казаки, посланные по каким-либо нужным делам, проезжали от Иркутска до города Верхнеудинска 310 верст в 18 часов. Казаки, отправляемые в Якутск, 2 620 верст иногда проезжали в 7 и 7 1/2 дней – более 15 1/2 верст в час, не считая остановок. Но в последнем пути зимою встречались весьма важные остановки. Ямщик, проехав несколько верст, принужден иногда остановиться и оттирать у лошадей лед, образовавшийся около ноздрей. Самый изумительный пример скорой езды и беспримерной неутомимости показал иркутский казачий офицер Чеусов. Он зимою в 1809 году из Петербурга в Иркутск проехал в семнадцать дней. От Петербурга до Иркутска тогда считалось б 016 верст.
Глава XVIII
Д-ский, помещик К-в, ростовщик. – Маргаритка. – Художник 0р-ий. – Граф С-б. – Граф Х-в. – Моряк Аполлон Бельведерский. – Американец Рандольф. – Бригадир Брызгалов. – Князь Окропир
Пятьдесят-шестьдесят лет тому назад столичная уличная жизнь представляла еще много свободы в костюмах. На главных улицах Петербурга попадались люди чисто в маскарадных нарядах; в первых годах царствования императора Николая I было в живых и несколько людей екатерининского века, которые ходили по улицам в звездах, в плащах и золотых камзолах с раззолоченными ключами на спине, виднелись и старые бригадиры в белоплюмажных шляпах; немало было и таких аристократов, которые по придворной привычке при матушке царице приходили на Невский с муфтами в руках и с красными каблуками, этот обычай считался самым аристократическим и шел со времен королей французских. Молодые модники ходили зимою в белых шляпах и при самых бледных лучах солнца спешили открыть зонтики; светские кавалеры тех времен носили из трико в обтяжку брюки и гусарские с кисточками сапожки; жабо у них было пышное, шляпа горшком, на фраках – ясные золотые пуговицы, воротники в аршин. У часов висели огромные печати на цепочках, у других виднелись небольшие серьги в ушах, обычай носить серьги в ушах у мужчин явился с Кавказа, от грузин и армян, нередко тоже протыкали уши мальчикам, по суеверию, от некоторых болезней. Мода на серьги особенно процветала у военных людей в кавалерийских полках, и трудно поверить, что гусары прежних лет, «собутыльники лихие», все следовали этой женской моде, и не только офицеры, но и солдаты носили серьги. Первый восстал на эту моду генерал Кульнев, командир Павлоградского гусарского полка. Он издал приказ, чтобы все серьги из ушей были принесены к нему. Уверяют, что известная пословица для милого дружка и сережка из ушка, придумана в то время солдатами. Лет 50 тому назад не считалось странным белиться и румяниться, и иной щеголь так изукрашивал себе лицо румянами, что стыдно было глядеть на него. Военные ходили затянутыми в корсеты, для большей сановитости штаб-офицеры приделывали себе искусственные плечи, на которых сильнее трепетали густые эполеты. Волокиты того времени ходили с завитыми волосами, в очках и еще с лорнетом, а также и с моноклем, жилет непременно бывал расстегнут, а грудь – в батистовых брыжах. В конце сороковых годов типом для наряда щеголя считался актер, игравший роль первых любовников. Теперь, я думаю, редко кто будет рабски следовать моде драматических любовников александрийского театра и завивать себе волосы «тюрбушонами», но тогда, за неимением хороших образцов, франты средней руки копировали во всем актеров. Первые любовники описанной эпохи ходили на улицу и на публичные гулянья в венгерке оливкового цвета и с красным шарфом на шее. Шиком в то время считалось только менять часто шарфы, а не платье. Молодые театры, подражая актерам, являлись тоже на улицах в таком наряде. Нынешние брюки сверх сапог вошли в моду тоже в начале царствования императора Николая I, перенял эту моду Петербург у приезжавшего тогда в наш город герцога Веллингтона, генерал-фельдмаршала английской и российской армий. Такие брюки стали называть «велингтонами». Знаменитый сподвижник императора Александра I ввел у нас и узкий, длинный плащ без рукавов, называемый тогда воротником (cools).
В описываемую эпоху на улицах Петербурга попадались и модные на головах «боливары», это были шляпы необычайной величины, не сняв такой шляпы, трудно было пройти в узкую дверь, но были также гулявшие по улице, усвоившие себе привычку ходить с непокрытой головой. К таким принадлежали приезжавшие по торговым делам англичане из секты квакеров, они ходили по улицам без шляп в силу того, что снимание шляпы перед кем бы то ни было им было запрещено. Квакеры отвергали музыку, пение, всякие игры, посещение театров и всякую роскошь, но продавать предметы роскоши им не возбранялось. Квакеры первые познакомили нас с входившими тогда в моду гаванскими сигарами. В екатерининское время почти все чиновные и важные люди не носили шляп, а, гуляя, держали их под мышкою. Высокая прическа, пудра и тупеи не давали возможности накрывать шляпой голову.
В числе уличных оригиналов в сороковых годах часто попадался на улицах небольшой худенький старичок, по профессии учитель французского языка. Он суетливо, почти бегом шагал по тротуарам, но всегда, зимою и летом, с непокрытою головою, шляпы у него совсем не было. По рассказам, он приехал в Петербург в суровое царствование императора Павла I, и раз ему случилось проходить мимо Михайловского замка, где жил государь, и это было в последний раз, что он имел шляпу на голове. Возле дворца его увидали, догнали и не очень вежливо сбили с головы шляпу, а самого отвели в крепость. Когда узнали, что он иностранец, не знавший тогдашних порядков, то его выпустили; но испуг так на него подействовал, что он помешался на этом и никогда уже не надевал шляпы.
В сороковых годах в Царском и Петергофе близ дворцов все ходили с открытыми головами, как в комнатах. Этого требовал этикет и вежливость к царскому жилищу.
В пятидесятых годах на улицах был заметен еще другой невысокого роста старичок, гладко выстриженный под гребенку и с головой, густо намазанной черной помадой, так что со лба его всегда текла помада. Он также зимой и летом ходил без шляпы: она всегда у него была в руках. Это был сенатор Д-ский, большой любитель церковного пения. Его крепостной певческий хор славился в столице. Крепостных хоров в былое время было в Петербурге несколько.
Обращал на себя внимание также разгуливавший по улицам со своим хором певчих богатый костромской помещик К-в, приезжавший по зимам в столицу. К-в был большой оригинал, необыкновенно тучный, одетый всегда в коричневый фрак и в огромном парике.
Все певцы его хора были подстрижены в скобку, в черных кафтанах и все брюнеты, т. е. окрашены в черную краску. Этот барин водил своих певчих в приходские церкви, где сам, становясь на клирос, правил хором. После церковной службы его усталого, в поту увозили певчие домой в маленькой коляске на рессорах, в которую по очереди и запрягались.
К-в очень боялся лошадей и в столицу приезжал чуть не шагом на своих старых конях, которых всю дорогу кормили одним сеном и очень скудно, из боязни, чтобы они не раздобрели и не понесли хозяина.
В описываемые годы Петербург немало видел уличных оригиналов. Такие по большей части встречались на линиях Гостиного двора.
Из заметных здесь лиц каждому бросались в глаза два бродивших старика индуса в своих национальных костюмах; первый из них – в широком темном балахоне, надетом на нем сверх шелкового пестрого халата, подпоясанного блестящим с каменьями кушаком, на котором блестел небольшой золотой цилиндрик с священною водой Ганга; на голове его был тюрбан из дорогой кашемировой шали; бронзовое лицо его было татуировано разноцветными красками, черные зрачки его, как угли, блистали на желтоватых белках с кровяными прожилками; черные широкие брови, сросшиеся на самом переносье, грозно украшали суровые черты его лица.
В правой руке у него была постоянно длинная бамбуковая палка с большим костяным набалдашником, а в левой он держал перламутровые и янтарные четки. Он был стар и еле ходил от тучности. Когда он умер, то был сожжен на Волковом поле, по индусскому обряду. По профессии этот индус был ростовщик. По рассказам, он особенно любил ссужать деньгами актеров, и затем каждый месяц являлся спозаранку в театральную контору с ворохом векселей и записок, где и взыскивал со своих горемычных заемщиков. Другой индус, одетый также в живописный восточный костюм, был тоже очень богатый продавец драгоценных камней, и тоже главною отраслью его коммерческих оборотов было ростовщичество, только еще в больших размерах, чем у первого.
Судьба его была очень трагическая: он был убит в Москве в номерах черкасского подворья, и убийца его не был найден. После его смерти все его сокровища были найдены в целости, пропали одни векселя, выданные ему одною графинею.
Спустя несколько лет продавались с аукциона его драгоценные камни; одной бирюзы было продано около четырех пудов, но лучшая, высокого качества, пропала при расценке товара. Рассказывают, что оценщик, рассматривая мешки с бирюзой, самую дорогую из каждого мешка вынимал и клал отдельно в коробку; бирюза была в кусках, не отшлифованная. После расценки он выпросил ее у квартального надзирателя за труды, последний беспрекословно и отдал ему, не придавая ей никакой цены.
Впоследствии этот оценщик, татарин, выстроил себе около десяти домов в Татарской слободке. Ходил по Гостиному двору и другой не менее известный ростовщик, обделывая свои делишки при встрече с военными, у купцов он слыл под именем Хаджи Мурата, но он не был турок, а нежинский грек (Маргаритка), он долго служил в наших войсках лазутчиком и маркитантом, давал он деньги на проценты преимущественно военным, векселей, как говорили, у него в бумажнике было на сотни тысяч рублей.
Этот Маргаритка не гнушался и мелкой торговлей: на Вербной неделе он первый стал торговать турецкой халвой и рахат-лукумом. Кончил он жизнь также трагически – был зарезан своим воспитанником.
Азиатцев в те времена на улицах Петербурга попадалось немалое количество, встречалось много и подражателей носить восточные костюмы. Из таких мнимо восточных людей были известны – светлейший князь С-ов, десятки лет путешествовавший по Индии, и еще другой богатый аристократ Н-н, экс-лейбгусар. Он щеголял в живописном наряде кавказского горца. Н-н, как говорили, для большого сходства с настоящим представителем племени шапсугов, привил себе на лице даже коросту, присущую этому горскому племени.
Немало встречалось и других подражателей кавказцам. Так, известный художник Орловский очень часто выходил из дому в наряде лезгинца, с кинжалом и в папахе. Орловский был мужчина высокого роста, смуглый, черноглазый и силы большой, наряд черкеса очень шел к нему, нередко ему сопутствовали два его камердинера, из которых один желтолицый, узкоглазый калмык в своем родном одеянии, и другой – черный как смоль араб в широких шальварах, куртке и чалме.
Другой, известный граф С-б, первый столичный щеголь своего времени, выдумывал разные костюмы. Между прочим он изобрел необыкновенный в то время синий плащ с белыми широкими рукавами. И плащ, и рукава были подбиты малиновым бархатом. В таком плаще приехал он раз в Михайловский театр и сел в первом ряду кресел. Приятель, сидевший с ним рядом и восхищавшийся плащом, стал незаметно всовывать в широкие рукава заготовленные медные пятаки. Когда граф в антракте поднялся с кресел, пятаки покатились во все стороны, а приятель начал их подбирать и подавать с такими ужимками и прибаутками, что все, сидевшие рядом, покатились со смеху.
Были еще два графа в петербургском высшем обществе, которые тоже прославились своими маскарадными переодеваниями. Первый из них, граф Х-в, ходил по улицам в фризовой старой шинели, с повязанной щекой, загримированный пьяницей, с красно-синим носом. Другой – известный потомок любимца императрицы Екатерины II и министра государыни, ходил в белой куртке немецкого булочника, обмазанный тестом и осыпанный мукой, и когда его узнавали, то он открещивался и сердился. Он начал свою карьеру блистательно, еще юношей был пожалован в камер-юнкеры. Но вскоре влюбился со страстью гимназиста в известную танцовщицу и поклялся честью, что если кто сделается счастливым его соперником, то должен будет иметь с ним смертельную дуэль. Такой трагический эпизод вскоре представился – противник был убит на дуэли, и с тех пор в нем развилось врожденное расположение к мизантропии и пессимизму.
В описываемые времена театральными и маскарадными костюмами многие не стеснялись. Некоторые из актеров в дни своих бенефисов, отправляясь продавать билеты к вельможам-милостивцам и купцам, облекались в шутовские костюмы, в париках, с разрисованными физиономиями. Мало того – брали с собою своих ребятишек, наряженных в русские или цыганские платья, и заставляли их плясать под аккомпанемент гитары или торбана. Случалось также, что артисты играя где-нибудь на домашнем спектакле, возвращались домой испанцами и рыцарями.
Известный балетмейстер Дидло, высокий, худой и долгоносый, окончив свою роль какого-нибудь олимпийского бога в Большом театре, шел домой пешком по Невскому в Троицкий переулок, в свой дом, в таком театральном костюме, имея на голове на место шляпы лавровый венок или фантастическую корону.
Купцы тоже не стеснялись своими костюмами, и не только в баню ходили в халатах, но и в ложе Александрийского театра можно было видеть в дни спектаклей почтенного отца семейства, заседающего по-домашнему, в халате, в кругу своих чад и домочадцев.
Очень долгое время в Петербурге был грозой и страхом женщин полупомешанный моряк, ходивший по Невскому и Летнему саду в одежде прародителей, – снаружи завернутый в один модный тогда плащ a la Quiroga. Этот плащ был необъятной ширины, им можно обернуться три раза, видоизменение такого плаща, под названием «альмавивы», долго было любимым одеянием наших художников и актеров. Моряк воображал, что он был по сложению Аполлон Бельведерский, и сковывать свои классические формы пошлыми модными одеяниями не считал нужным. И вот, когда он встречал, по его мнению, достойных ценителей и ценительниц красоты, то тотчас распахивал плащ и являлся древним изваянием. Такую прогулку он раз проделал в саду Виндзорского парка, когда проезжала королева Виктория, за что получил вместе с отставкой чуть ли не европейскую известность.
Было немало в те годы охотников ходить босиком зимой и летом. Из таких дам была известна в Петербурге орловская помещица С-ва и одна немка таинственного происхождения, для которой великосветские дамы устраивали благотворительные концерты и вечера в Павловске. Приезжал еще по зимам в Петербург какой-то малороссийский помещик, очень тучный и высокий старик, который тоже гулял, несмотря на снег и мороз, всегда босой. Привычка эта у него явилась после какой-то хронической болезни, от которой этим средством его вылечил известный знахарь Ерофеич.
Обращал на себя внимание ходивший в грязном холстинном халате, таких же штанах за голенищами, высокий, с лысиной во всю голову мужчина, очень богатый орловский помещик М-в, известный больше под именем Спиридона Хлебной Матки; родом он был из однодворцев; в немногие годы он успел при своей феноменальной скаредности так нажиться и разбогатеть, что имел более 8 ООО душ крестьян; он был женат на сестре известного любимца Екатерины II Ланского, от которого также к своему солидному состоянию получил огромное наследство.
Это был прототип Плюшкина. Несмотря на свое более чем нищенское одеяние, он вращался в высшем петербургском обществе, в котором имел немало родных и знакомых.
В ряду уличных оригиналов был известен американский посланник Рандолф, прозванный извозчиками «немым барином». Он ходил по улицам в одном фраке, в белом галстухе и ярко-зеленом жилете; его можно было видеть всегда пешком на улицах, с любопытством рассматривавшего дома, вывески, останавливающегося на ушах, чего-то ожидавшего; он рыскал всюду, как полупомешанный. Про него между дипломатами ходило много анекдотов. На главных улицах в описываемое время замечалась странная фигура бывшего некогда кастеляна Михайловского замка Брызгалова, в красном длиннополом мундирном фраке французского покроя, богато шитом золотом; белый суконный жилет, белые замшевые панталоны, огромные ботфорты со шпорами и треугольная шляпа с белым плюмажем дополняли его наряд. В таком виде Брызгалов ходил во всякую погоду пешком, ведя за руки своих детей – мальчика и девочку, ковылявших на ногах, страшно искривленных английскою болезнью.
Группа эта была так комично-карикатурна, что проходившие мимо останавливались со смехом, а Брызгалов сердился и бранился. Он серьезно утверждал, что дожидается возвращения императора Павла из дальнего путешествия и что тогда напляшутся все, которые считали его умершим. Сомнительно, – говорит в своих воспоминаниях Ципринус, – но несомнительно то, что он был ростовщик и страшный ябедник.
Как бы в pendant к этой странной фигуре, в те же годы жил один старый сенатор. Живя в Большой Морской, он в хорошую погоду ходил в сенат по Адмиралтейскому бульвару в красном сенаторском мундире. За ним, нога в ногу, следовал старый лакей и вязал чулок. Красный мундир сенатора накликал однажды на него беду. Козел, выпущенный из конюшен Конногвардейского полка, увидев красную фигуру, накинулся на сенатора и повалил его ранее, чем лакей успел предотвратить это комическое приключение. Катастрофа эта для здоровья сенатора не имела вредных последствий, но строжайшее следствие все-таки было произведено полициею.
Не меньшее любопытство встречал на улицах катавшийся шестериком с форейтором на вынос, в богатой восьмистекольной карете, всегда с дымящимся кальяном в зубах и с десятком жирных котов, бывший владетельный кавказский князь, известный под именем князи Окропира. Это был большой оригинал. Восточный наряд его был высокой цены: одних изумрудов и рубинов, нашитых на нем, было более, чем на сотни тысяч.
Князь был помешан на церемонии и этикете; его вносили и выносили на руках десятки лакеев, одетые в зеленые и малиновые бархатные кафтаны, за ним всегда следовал целый ряд карет с его придворными-дворянами; штат их был очень многочисленный. Князь был очень щедр и за раскурку своего кальяна платил своему придворному по червонцу. Ему все подавалось на золотых блюдах. Он любил, чтобы и пенсию, получаемую им от правительства, ему подносили чиновники при церемониале, и он каждого такого наделял щедро червонцами. Кредитных бумажек он не брал, будь их хотя на сто рублей или более: все они оставались на долю казначейского чиновника.
Петербургская сторона в старые годы изобиловала чудаками и оригиналами. Там можно было найти людей, убивших весь свой век и состояние на тяжбы. Такие несчастные по вечерам и ночам сидели дома над бумагами, выводя в тишине крючки на прошениях. Рано же утром их встречали уже на Мытном перевозе. Сюда они собирались, чтоб переехать в Сенат, обремененные связками и свертками бумаг.
Лет пятьдесят тому назад почти ежедневно видели здесь одного худого, чахлого старичка, который с видимым усилием приносил под мышкой тяжелое толстое березовое полено, тщательно завернутое в клетчатый бумажный платок; садясь в лодку, он бережно клал его к себе на колени, любовно глядел на него и укутывал заботливо, словно мать ребенка.
– Берегите, берегите его, – говорили часто, смеясь, старичку молодые чиновники, – не равно простудится ваше полено, станет кашлять, спать не даст.
– Полно-те смеяться, – отвечал старичок, – оно мне и так сорок лет не дает спать.
– Да отчего же?
– Разве я вам не рассказывал?
– Нет, право, нет!
– Ой, рассказывал!
– Нет, нам не рассказывал, может быть, другим рассказывал, а нам нет.
– Это дело прелюбопытное, – начинал старичок, – от этого полена зависит все мое состояние, оно, извольте видеть, не простое полено, оно мое сердечное, образцовое… В 1798 году я ставил подряд на дрова…
И старик в тысячный раз рассказывал своим обычным слушателям, как он ставил куда-то дрова по подряду, как ему не заплатили вполне всех денег, потому, будто бы, что дрова были короче, нежели положено по условию; как он с секунд-майором А. и провинциальным секретарем Б., призвавши их в свидетели, взял собственными руками из кучи своих дров полено, так, без выбору, зря, спрятал его, завел дело и проч., и теперь для доказательства, в случае потребует надобность, постоянно отправляясь в Сенат, берет свое полено, высчитывает, сколько носовых платков износило это полено и т. п.; словом, говорил, пока лодка не причаливала к другому берегу и его слушатели не разбегались по разным направлениям; тогда он, вздохнув, давал копейку лодочнику, брал бережно полено под мышку и отправлялся в Сенат.
На Петербургской стороне существовала Плуталова улица, названная так от одного домовладельца, жившего на ней, за то, что последний, выходя из дому, потом уже никак не мог возвратиться домой; он обладал такой слабой памятью, что узнать ворот своего дома без помощи других не мог – его или приводил всегда к крыльцу будочник, или его вела старуха-кухарка. Старик весь век так и прожил в ней, жалуясь всем на свою гадкую память. «Трудно, трудно мне, – говорил он, – но еще труднее было бы, если б опять меня в школу».
В начале шестидесятых годов, в Гостином дворе на верхней линии торговал старик, купец-меховщик, человек довольно высокого роста и очень тучный, известный между гостинодворцев за свою неудержимую страсть к поездкам под именем «всемирного путешественника». Он был замечателен тем, что изумлял всех тем количеством верст, которые он проехал. По его вычислениям, если принять окружность всего земного шара в 37 800 верст, то выходит, что он земной шар объехал тридцать раз в свою жизнь, или проехал более одного миллиона верст. Чтоб исчисления этого купца не показались преувеличенными, надобно сказать, что при хорошем устройстве дорог в Сибири и чрезвычайно скорой езде, до открытия золотых промыслов, весьма легко было на вольных лошадях проезжать в сутки летом от 200 до 250, а зимою от 300 до 350 верст, платя за версту от 5, 7 и 10 коп. за тройку.
Купец или приказчик меховыми товарами в старину проводил большую часть года в разъездах, мог проезжать в четыре зимние месяца от 36 000 до 42 000, в четыре летних месяца (полагая два месяца на прожитие в городах и селениях), от 24 000 до 30 000 в течение одного года, при двухмесячном отдыхе, объехать от 60 000 до 72 0 00 верст, а в десять только лет проехать ужасное пространство от 600 000 до 720 0 00 верст.
Но этот купец разъезжал по сибирским дорогам, закупая пушные товары, в Якутск, Иркутск, Кяхту, Ирбит и в Нижний, слишком сорок лет, начав разъезды с юношеского возраста. По его рассказам, первые тарантасы в Сибири явились в 1826 году, их называли там «карандасом», и что ранее приказчики и купцы ездили в обыкновенных повозках. Сколько должны они были вытерпеть толчков и ударов при беспрерывных разъездах! Сколько с каждым случалось таких происшествий, где жизнь их подвергалась опасности! Сколько им нужно было претерпеть от беспрерывных дождей или тридцатиградусных морозов. По его словам, от морозов они спасались тем, что зажигали в повозках свечи, и это очень согревало, тогда существовали большие фонари для свечей. Такие продолжительные поездки редко кто выносил, по большей части умирали от болезней почек. Известный военный генерал-губернатор Восточной Сибири Корсаков, проехавший не одну сотню тысяч верст, умер от блуждающей почки. С постройкой железной дорога в Сибири, рассказы о быстрых поездках на обывательских лошадях отойдут в область мифа. Кто поверит, что по льду на Байкале ездят 54 версты в два часа? Во время сильного ветра здесь невозможно даже ехать тихо: легкая повозка скользит по зеркальной поверхности озера и сбивает лошадей с прямого пути.
Вот примеры продолжительной скорой езды. Во времена иркутского гражданского губернатора Трескина, с 1806 по 1819 год, казаки, посланные по каким-либо нужным делам, проезжали от Иркутска до города Верхнеудинска 310 верст в 18 часов. Казаки, отправляемые в Якутск, 2 620 верст иногда проезжали в 7 и 7 1/2 дней – более 15 1/2 верст в час, не считая остановок. Но в последнем пути зимою встречались весьма важные остановки. Ямщик, проехав несколько верст, принужден иногда остановиться и оттирать у лошадей лед, образовавшийся около ноздрей. Самый изумительный пример скорой езды и беспримерной неутомимости показал иркутский казачий офицер Чеусов. Он зимою в 1809 году из Петербурга в Иркутск проехал в семнадцать дней. От Петербурга до Иркутска тогда считалось б 016 верст.
Глава XVIII
Д-ский, помещик К-в, ростовщик. – Маргаритка. – Художник 0р-ий. – Граф С-б. – Граф Х-в. – Моряк Аполлон Бельведерский. – Американец Рандольф. – Бригадир Брызгалов. – Князь Окропир
Пятьдесят-шестьдесят лет тому назад столичная уличная жизнь представляла еще много свободы в костюмах. На главных улицах Петербурга попадались люди чисто в маскарадных нарядах; в первых годах царствования императора Николая I было в живых и несколько людей екатерининского века, которые ходили по улицам в звездах, в плащах и золотых камзолах с раззолоченными ключами на спине, виднелись и старые бригадиры в белоплюмажных шляпах; немало было и таких аристократов, которые по придворной привычке при матушке царице приходили на Невский с муфтами в руках и с красными каблуками, этот обычай считался самым аристократическим и шел со времен королей французских. Молодые модники ходили зимою в белых шляпах и при самых бледных лучах солнца спешили открыть зонтики; светские кавалеры тех времен носили из трико в обтяжку брюки и гусарские с кисточками сапожки; жабо у них было пышное, шляпа горшком, на фраках – ясные золотые пуговицы, воротники в аршин. У часов висели огромные печати на цепочках, у других виднелись небольшие серьги в ушах, обычай носить серьги в ушах у мужчин явился с Кавказа, от грузин и армян, нередко тоже протыкали уши мальчикам, по суеверию, от некоторых болезней. Мода на серьги особенно процветала у военных людей в кавалерийских полках, и трудно поверить, что гусары прежних лет, «собутыльники лихие», все следовали этой женской моде, и не только офицеры, но и солдаты носили серьги. Первый восстал на эту моду генерал Кульнев, командир Павлоградского гусарского полка. Он издал приказ, чтобы все серьги из ушей были принесены к нему. Уверяют, что известная пословица для милого дружка и сережка из ушка, придумана в то время солдатами. Лет 50 тому назад не считалось странным белиться и румяниться, и иной щеголь так изукрашивал себе лицо румянами, что стыдно было глядеть на него. Военные ходили затянутыми в корсеты, для большей сановитости штаб-офицеры приделывали себе искусственные плечи, на которых сильнее трепетали густые эполеты. Волокиты того времени ходили с завитыми волосами, в очках и еще с лорнетом, а также и с моноклем, жилет непременно бывал расстегнут, а грудь – в батистовых брыжах. В конце сороковых годов типом для наряда щеголя считался актер, игравший роль первых любовников. Теперь, я думаю, редко кто будет рабски следовать моде драматических любовников александрийского театра и завивать себе волосы «тюрбушонами», но тогда, за неимением хороших образцов, франты средней руки копировали во всем актеров. Первые любовники описанной эпохи ходили на улицу и на публичные гулянья в венгерке оливкового цвета и с красным шарфом на шее. Шиком в то время считалось только менять часто шарфы, а не платье. Молодые театры, подражая актерам, являлись тоже на улицах в таком наряде. Нынешние брюки сверх сапог вошли в моду тоже в начале царствования императора Николая I, перенял эту моду Петербург у приезжавшего тогда в наш город герцога Веллингтона, генерал-фельдмаршала английской и российской армий. Такие брюки стали называть «велингтонами». Знаменитый сподвижник императора Александра I ввел у нас и узкий, длинный плащ без рукавов, называемый тогда воротником (cools).
В описываемую эпоху на улицах Петербурга попадались и модные на головах «боливары», это были шляпы необычайной величины, не сняв такой шляпы, трудно было пройти в узкую дверь, но были также гулявшие по улице, усвоившие себе привычку ходить с непокрытой головой. К таким принадлежали приезжавшие по торговым делам англичане из секты квакеров, они ходили по улицам без шляп в силу того, что снимание шляпы перед кем бы то ни было им было запрещено. Квакеры отвергали музыку, пение, всякие игры, посещение театров и всякую роскошь, но продавать предметы роскоши им не возбранялось. Квакеры первые познакомили нас с входившими тогда в моду гаванскими сигарами. В екатерининское время почти все чиновные и важные люди не носили шляп, а, гуляя, держали их под мышкою. Высокая прическа, пудра и тупеи не давали возможности накрывать шляпой голову.
В числе уличных оригиналов в сороковых годах часто попадался на улицах небольшой худенький старичок, по профессии учитель французского языка. Он суетливо, почти бегом шагал по тротуарам, но всегда, зимою и летом, с непокрытою головою, шляпы у него совсем не было. По рассказам, он приехал в Петербург в суровое царствование императора Павла I, и раз ему случилось проходить мимо Михайловского замка, где жил государь, и это было в последний раз, что он имел шляпу на голове. Возле дворца его увидали, догнали и не очень вежливо сбили с головы шляпу, а самого отвели в крепость. Когда узнали, что он иностранец, не знавший тогдашних порядков, то его выпустили; но испуг так на него подействовал, что он помешался на этом и никогда уже не надевал шляпы.
В сороковых годах в Царском и Петергофе близ дворцов все ходили с открытыми головами, как в комнатах. Этого требовал этикет и вежливость к царскому жилищу.
В пятидесятых годах на улицах был заметен еще другой невысокого роста старичок, гладко выстриженный под гребенку и с головой, густо намазанной черной помадой, так что со лба его всегда текла помада. Он также зимой и летом ходил без шляпы: она всегда у него была в руках. Это был сенатор Д-ский, большой любитель церковного пения. Его крепостной певческий хор славился в столице. Крепостных хоров в былое время было в Петербурге несколько.
Обращал на себя внимание также разгуливавший по улицам со своим хором певчих богатый костромской помещик К-в, приезжавший по зимам в столицу. К-в был большой оригинал, необыкновенно тучный, одетый всегда в коричневый фрак и в огромном парике.
Все певцы его хора были подстрижены в скобку, в черных кафтанах и все брюнеты, т. е. окрашены в черную краску. Этот барин водил своих певчих в приходские церкви, где сам, становясь на клирос, правил хором. После церковной службы его усталого, в поту увозили певчие домой в маленькой коляске на рессорах, в которую по очереди и запрягались.
К-в очень боялся лошадей и в столицу приезжал чуть не шагом на своих старых конях, которых всю дорогу кормили одним сеном и очень скудно, из боязни, чтобы они не раздобрели и не понесли хозяина.
В описываемые годы Петербург немало видел уличных оригиналов. Такие по большей части встречались на линиях Гостиного двора.
Из заметных здесь лиц каждому бросались в глаза два бродивших старика индуса в своих национальных костюмах; первый из них – в широком темном балахоне, надетом на нем сверх шелкового пестрого халата, подпоясанного блестящим с каменьями кушаком, на котором блестел небольшой золотой цилиндрик с священною водой Ганга; на голове его был тюрбан из дорогой кашемировой шали; бронзовое лицо его было татуировано разноцветными красками, черные зрачки его, как угли, блистали на желтоватых белках с кровяными прожилками; черные широкие брови, сросшиеся на самом переносье, грозно украшали суровые черты его лица.
В правой руке у него была постоянно длинная бамбуковая палка с большим костяным набалдашником, а в левой он держал перламутровые и янтарные четки. Он был стар и еле ходил от тучности. Когда он умер, то был сожжен на Волковом поле, по индусскому обряду. По профессии этот индус был ростовщик. По рассказам, он особенно любил ссужать деньгами актеров, и затем каждый месяц являлся спозаранку в театральную контору с ворохом векселей и записок, где и взыскивал со своих горемычных заемщиков. Другой индус, одетый также в живописный восточный костюм, был тоже очень богатый продавец драгоценных камней, и тоже главною отраслью его коммерческих оборотов было ростовщичество, только еще в больших размерах, чем у первого.
Судьба его была очень трагическая: он был убит в Москве в номерах черкасского подворья, и убийца его не был найден. После его смерти все его сокровища были найдены в целости, пропали одни векселя, выданные ему одною графинею.
Спустя несколько лет продавались с аукциона его драгоценные камни; одной бирюзы было продано около четырех пудов, но лучшая, высокого качества, пропала при расценке товара. Рассказывают, что оценщик, рассматривая мешки с бирюзой, самую дорогую из каждого мешка вынимал и клал отдельно в коробку; бирюза была в кусках, не отшлифованная. После расценки он выпросил ее у квартального надзирателя за труды, последний беспрекословно и отдал ему, не придавая ей никакой цены.
Впоследствии этот оценщик, татарин, выстроил себе около десяти домов в Татарской слободке. Ходил по Гостиному двору и другой не менее известный ростовщик, обделывая свои делишки при встрече с военными, у купцов он слыл под именем Хаджи Мурата, но он не был турок, а нежинский грек (Маргаритка), он долго служил в наших войсках лазутчиком и маркитантом, давал он деньги на проценты преимущественно военным, векселей, как говорили, у него в бумажнике было на сотни тысяч рублей.
Этот Маргаритка не гнушался и мелкой торговлей: на Вербной неделе он первый стал торговать турецкой халвой и рахат-лукумом. Кончил он жизнь также трагически – был зарезан своим воспитанником.
Азиатцев в те времена на улицах Петербурга попадалось немалое количество, встречалось много и подражателей носить восточные костюмы. Из таких мнимо восточных людей были известны – светлейший князь С-ов, десятки лет путешествовавший по Индии, и еще другой богатый аристократ Н-н, экс-лейбгусар. Он щеголял в живописном наряде кавказского горца. Н-н, как говорили, для большого сходства с настоящим представителем племени шапсугов, привил себе на лице даже коросту, присущую этому горскому племени.
Немало встречалось и других подражателей кавказцам. Так, известный художник Орловский очень часто выходил из дому в наряде лезгинца, с кинжалом и в папахе. Орловский был мужчина высокого роста, смуглый, черноглазый и силы большой, наряд черкеса очень шел к нему, нередко ему сопутствовали два его камердинера, из которых один желтолицый, узкоглазый калмык в своем родном одеянии, и другой – черный как смоль араб в широких шальварах, куртке и чалме.
Другой, известный граф С-б, первый столичный щеголь своего времени, выдумывал разные костюмы. Между прочим он изобрел необыкновенный в то время синий плащ с белыми широкими рукавами. И плащ, и рукава были подбиты малиновым бархатом. В таком плаще приехал он раз в Михайловский театр и сел в первом ряду кресел. Приятель, сидевший с ним рядом и восхищавшийся плащом, стал незаметно всовывать в широкие рукава заготовленные медные пятаки. Когда граф в антракте поднялся с кресел, пятаки покатились во все стороны, а приятель начал их подбирать и подавать с такими ужимками и прибаутками, что все, сидевшие рядом, покатились со смеху.
Были еще два графа в петербургском высшем обществе, которые тоже прославились своими маскарадными переодеваниями. Первый из них, граф Х-в, ходил по улицам в фризовой старой шинели, с повязанной щекой, загримированный пьяницей, с красно-синим носом. Другой – известный потомок любимца императрицы Екатерины II и министра государыни, ходил в белой куртке немецкого булочника, обмазанный тестом и осыпанный мукой, и когда его узнавали, то он открещивался и сердился. Он начал свою карьеру блистательно, еще юношей был пожалован в камер-юнкеры. Но вскоре влюбился со страстью гимназиста в известную танцовщицу и поклялся честью, что если кто сделается счастливым его соперником, то должен будет иметь с ним смертельную дуэль. Такой трагический эпизод вскоре представился – противник был убит на дуэли, и с тех пор в нем развилось врожденное расположение к мизантропии и пессимизму.
В описываемые времена театральными и маскарадными костюмами многие не стеснялись. Некоторые из актеров в дни своих бенефисов, отправляясь продавать билеты к вельможам-милостивцам и купцам, облекались в шутовские костюмы, в париках, с разрисованными физиономиями. Мало того – брали с собою своих ребятишек, наряженных в русские или цыганские платья, и заставляли их плясать под аккомпанемент гитары или торбана. Случалось также, что артисты играя где-нибудь на домашнем спектакле, возвращались домой испанцами и рыцарями.
Известный балетмейстер Дидло, высокий, худой и долгоносый, окончив свою роль какого-нибудь олимпийского бога в Большом театре, шел домой пешком по Невскому в Троицкий переулок, в свой дом, в таком театральном костюме, имея на голове на место шляпы лавровый венок или фантастическую корону.
Купцы тоже не стеснялись своими костюмами, и не только в баню ходили в халатах, но и в ложе Александрийского театра можно было видеть в дни спектаклей почтенного отца семейства, заседающего по-домашнему, в халате, в кругу своих чад и домочадцев.
Очень долгое время в Петербурге был грозой и страхом женщин полупомешанный моряк, ходивший по Невскому и Летнему саду в одежде прародителей, – снаружи завернутый в один модный тогда плащ a la Quiroga. Этот плащ был необъятной ширины, им можно обернуться три раза, видоизменение такого плаща, под названием «альмавивы», долго было любимым одеянием наших художников и актеров. Моряк воображал, что он был по сложению Аполлон Бельведерский, и сковывать свои классические формы пошлыми модными одеяниями не считал нужным. И вот, когда он встречал, по его мнению, достойных ценителей и ценительниц красоты, то тотчас распахивал плащ и являлся древним изваянием. Такую прогулку он раз проделал в саду Виндзорского парка, когда проезжала королева Виктория, за что получил вместе с отставкой чуть ли не европейскую известность.
Было немало в те годы охотников ходить босиком зимой и летом. Из таких дам была известна в Петербурге орловская помещица С-ва и одна немка таинственного происхождения, для которой великосветские дамы устраивали благотворительные концерты и вечера в Павловске. Приезжал еще по зимам в Петербург какой-то малороссийский помещик, очень тучный и высокий старик, который тоже гулял, несмотря на снег и мороз, всегда босой. Привычка эта у него явилась после какой-то хронической болезни, от которой этим средством его вылечил известный знахарь Ерофеич.
Обращал на себя внимание ходивший в грязном холстинном халате, таких же штанах за голенищами, высокий, с лысиной во всю голову мужчина, очень богатый орловский помещик М-в, известный больше под именем Спиридона Хлебной Матки; родом он был из однодворцев; в немногие годы он успел при своей феноменальной скаредности так нажиться и разбогатеть, что имел более 8 ООО душ крестьян; он был женат на сестре известного любимца Екатерины II Ланского, от которого также к своему солидному состоянию получил огромное наследство.
Это был прототип Плюшкина. Несмотря на свое более чем нищенское одеяние, он вращался в высшем петербургском обществе, в котором имел немало родных и знакомых.
В ряду уличных оригиналов был известен американский посланник Рандолф, прозванный извозчиками «немым барином». Он ходил по улицам в одном фраке, в белом галстухе и ярко-зеленом жилете; его можно было видеть всегда пешком на улицах, с любопытством рассматривавшего дома, вывески, останавливающегося на ушах, чего-то ожидавшего; он рыскал всюду, как полупомешанный. Про него между дипломатами ходило много анекдотов. На главных улицах в описываемое время замечалась странная фигура бывшего некогда кастеляна Михайловского замка Брызгалова, в красном длиннополом мундирном фраке французского покроя, богато шитом золотом; белый суконный жилет, белые замшевые панталоны, огромные ботфорты со шпорами и треугольная шляпа с белым плюмажем дополняли его наряд. В таком виде Брызгалов ходил во всякую погоду пешком, ведя за руки своих детей – мальчика и девочку, ковылявших на ногах, страшно искривленных английскою болезнью.
Группа эта была так комично-карикатурна, что проходившие мимо останавливались со смехом, а Брызгалов сердился и бранился. Он серьезно утверждал, что дожидается возвращения императора Павла из дальнего путешествия и что тогда напляшутся все, которые считали его умершим. Сомнительно, – говорит в своих воспоминаниях Ципринус, – но несомнительно то, что он был ростовщик и страшный ябедник.
Как бы в pendant к этой странной фигуре, в те же годы жил один старый сенатор. Живя в Большой Морской, он в хорошую погоду ходил в сенат по Адмиралтейскому бульвару в красном сенаторском мундире. За ним, нога в ногу, следовал старый лакей и вязал чулок. Красный мундир сенатора накликал однажды на него беду. Козел, выпущенный из конюшен Конногвардейского полка, увидев красную фигуру, накинулся на сенатора и повалил его ранее, чем лакей успел предотвратить это комическое приключение. Катастрофа эта для здоровья сенатора не имела вредных последствий, но строжайшее следствие все-таки было произведено полициею.
Не меньшее любопытство встречал на улицах катавшийся шестериком с форейтором на вынос, в богатой восьмистекольной карете, всегда с дымящимся кальяном в зубах и с десятком жирных котов, бывший владетельный кавказский князь, известный под именем князи Окропира. Это был большой оригинал. Восточный наряд его был высокой цены: одних изумрудов и рубинов, нашитых на нем, было более, чем на сотни тысяч.
Князь был помешан на церемонии и этикете; его вносили и выносили на руках десятки лакеев, одетые в зеленые и малиновые бархатные кафтаны, за ним всегда следовал целый ряд карет с его придворными-дворянами; штат их был очень многочисленный. Князь был очень щедр и за раскурку своего кальяна платил своему придворному по червонцу. Ему все подавалось на золотых блюдах. Он любил, чтобы и пенсию, получаемую им от правительства, ему подносили чиновники при церемониале, и он каждого такого наделял щедро червонцами. Кредитных бумажек он не брал, будь их хотя на сто рублей или более: все они оставались на долю казначейского чиновника.