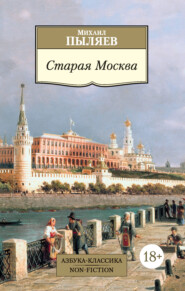По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Замечательные чудаки и оригиналы (сборник)
Автор
Год написания книги
1898
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В обществе, когда ему предлагали чашку чая или рюмку вина, то он обыкновенно вставал со стула и, обращаясь к хозяину или хозяйке дома, почтительно кланялся, как бы напоминая, что по уставу придворного этикета они должны были испросить предварительно его позволения, как принца крови, подать ему рюмку вина.
Он не принимал ни вина, ни чашки чая из рук слуги, и хозяин или хозяйка дома сами должны были держать перед ним поднос, если хотели, чтоб он принял поданное.
В тех домах, где он часто бывал, знали это и исполняли его требования. Точно так же трудно было заставить его принять платье, сапоги, когда он нуждался в таких вещах, – надо было сапоги или платье зашить в клеенку, адресовать на имя принца и надписать, что они присланы из его страны. Так же, а не иначе, принимал он и деньги. Старик этот принадлежал к купеческому сословию, фамилия его была Яковлев. Проживал он очень бедно, в убогой комнатке, где-то на Петербургской стороне.
В тридцатых годах на улицах Петербурга обращал на себя внимание чисто одетый старик, чиновник, экзекутор в отставке, вечно отыскивающий в самых отдаленных частях города: на Песках, в Гавани, в дальних краях Коломны, Измайловского полка, жилище какой-нибудь гадалки, старухи-чухонки, отставной содержанки, заштатной кухарки или просто полоумной женщины, часто пьяной, владеющей будто бы искусством предсказывать будущее.
И вот с раннего утра и до позднего вечера бродил этот старик, посещая жилища этих полупьяных пифий, любительниц кофе и водки, чтобы узнать свою будущность, скорбеть или радоваться и потом, по бестолковым ответам часто полупомешанного или пьяного оракула располагать поступками своей жизни впредь до нового предсказания, купленного за какой-нибудь полтинник или двугривенный.
В те же годы на улицах столицы встречали старика и старуху, отличавшихся патриархальными странностями прошлого века. Это были муж и жена, прозванные всеми Филимон и Бавкида; и действительно, супружеское их согласие не было ничем нарушено во всю их долгую жизнь. Старичок необыкновенно нежно относился к своей старухе, та также строго повиновалась мужу и заимствовала от него все его качества, привычки, наклонности, даже странности.
Они жили вдвоем в мире и любви более полустолетия и детей не имели. Имея всегда постоянное жилище, они обыкновенно приходили к своим родственникам, зажиточным купцам, с просьбою – взять их к себе жить. «Ведь вот в этой комнате у вас никто не спит, – говорили они, показывая на зал или гостиную, – так почему же нам здесь не спать?» И когда родственники старались внушить им, что не все пустые комнаты в доме могут быть обитаемы постояльцами, то они всегда уходили спокойно, не сердясь за отказ, но покачивая головою и говоря: «Какие странные люди! Им тесно в таком большом доме, а мы, старики, жмемся в углу!»
Старушка имела своих любимцев – кошку и птичек; первую она ужасно баловала, приносила для ней игрушки, поила кофеем и устраивала даже елку. Своих пернатых друзей она любила еще более, – каждый из них носил свое имя; она кормила их червяками, ягодами и разными кашками.
Старик друзей не имел, но в жизни имел более странностей, чем его жена. Покупая, например, себе новые нитяные перчатки, он, принеся их домой, обыкновенно говорил жене своей: «Федосья Захаровна! Нашей, душенька, здесь на ладонях две заплатки. Перчатки мои всегда скоро изнашиваются на ладонях: так пусть же износятся прежде заплатки, а потом я их спорю и буду носить перчатки заново!» Также делал он и с новым платьем своим, приказывая жене нашивать заплаты на локтях сюртуков, чтобы прежде износились заплаты, и делать это не из опасения отличиться странностями или шутовством, а так спроста.
Жена исполняла приказания его безусловно.
Долго жили они в счастливом браке своем и не надолго пережили один другого; кто умер первый – жена или муж, неизвестно. Эти два оригинала пользовались большим уважением у всех, знавших их, за смирение, благонравие и кротость. Они слыли по уличному прозванию под именем: «два гудка».
В описываемые годы можно было встретить на улицах Петербурга одного сумасшедшего, – старого чиновника, с типичной канцелярской физиономией, который пользовался свободою гулять по свету и который доказывал, что он пушка. Разговаривая о чем-нибудь с вами, он вдруг искривлял лицо свое, надувал щеки и производил ртом своим звук наподобие пушечного выстрела. Это действие он повторял несколько раз каждый день. Разгуливал он, по большей части, близ крепости и Адмиралтейства, где, как известно, нередко происходила пальба из пушек.
В ряду уличных чудаков, служивших ходячими рекламами портного, в тридцатых годах на тротуарах Невского проспекта, набережных и в Летнем саду были заметны два брата, крайне любопытно разодетые. Кто они были – никто порядочно не знал; известно только было, что они учили русской грамоте и французскому языку с полдюжины арапчат у графа 3-го, имевшего особенную склонность к черной прислуге.
В те года обыкновенного теперь пальто никто не носил. Тогда в моде был английский каррик, т. е. большею частью коричневый или гороховый суртук с маленькою пелеринкою или капюшоном, вроде тех, какие нынче, и то редко, встречаются у одних только выездных кучеров при английской закладке. Помимо каррика тогда входил еще в моду широкий синий, подбитый бархатом черным, а часто и малиновым, плащ, называвшийся «альмавива», по имени известного персонажа в пьесе Бомарше.
Тогда в Петербурге модным портным был Руч, и вот, чтобы рекламировать эти два мужских одеяния, он в виде живых вывесок пустил братьев ходить по Невскому, для одного он сшил даром величественную синюю «альмавиву» с малиновым бархатным подбоем, а на другого напялил щегольской светло-гороховый каррик. Вместе с этим в листках, разносимых при афишах, было объявлено об альмавивах и карриках, заказы на которые принимаются в портняжном заведении на углу Невского и Малой Морской; ежели кому угодно будет удостовериться в красоте фасона этих новомодных одежд, тот может их видеть на двух известных столичных алегантах ежедневно на Невском проспекте между часом и четырьмя пополудни.
Для этих живых вывесок бралась ежедневно из манежа английская лошадь, на которой в означенные часы ехал шагом один из братьев, великолепно задрапированный в альмавиву, другой же в английском каррике шел рядом по тротуару. Братья перекидывались французскими фразами очень своевольного перевода. Так один из братьев говорил: «Votre cheval est dansle savon» (лошадь ваша в мыле). «J'ai vu aujourdhuiui le long de matin le prince Boris qui est arrive de l'Aigle» (я сегодня утром видел князя Бориса, который приехал из Орла).
Через полчаса опять встречали братьев, но их роли переменялись, верхом на лошади ехал уже другой брат, а первый выступал по тротуару, драпируясь в альмавиву. Братья где-нибудь под воротами менялись и костюмами, надевая каррик брата, бывший в альмавиве, заметив на каррике конскую шерсть, восклицал: «Voyez donс le cheval deteint» (смотрите, лошадь линяет). Братья говорили на таком своеобразном французском языке, что их приглашали аристократы на свои ужины и обеды, только бы слушать их разговоры, и, точно, редкостны и замечательны были их французские фразы.
Если кто потрудился бы пройти лет пятьдесят назад с карандашом в руке по главным улицам Петербурга, тот собрал бы богатый запас диковинок из литературы вывесок. Особенно курьезны были вывески с вольными переводами. Так на углу Синего моста долго красовалась вывеска портного: «И. Гельгрюн. I. Hellgrun, Tailleur du vert clair». К вольным переводам должно еще причислить вывеску на углу Троицкого переулка и Невского проспекта: «Мужской и салопный мастер (Herrn und Saloppen-Master»). На углу Гороховой, над ломбардом, существовала вывеска на французском и немецком языках, но оба языка так перемешаны между собою, что весьма любопытно было бы узнать, на каком языке написаны слова: «Bude de Moel», – должно быть, на французском, потому что тут же находилась немецкая надпись совершенно правильная. У Пяти углов несколько лет существовала надпись над парикмахерской: «Фершельное заведение (Ferchelnoe Savedenies)»; в Гороховой имелась вывеска: «Рещик печатей, Rectik petchatee». На Выборгской стороне, на углу Вуль-фовой улицы, над табачной лавкой красовалась вывеска: «Продажа табаку и разных товаров, Prodaja tabacu i rasnich tovaroff». He менее достойна была примечания, как по русскому правописанию, так и по переводу, вывеска в офицерской улице: «Кухмистер Яков Михайлов отпускает порционный стол. Koh-Meister Gakof Michailof verfertig Porsigon Tische». В Мещанской улице, нынешней Казанской, была вывеска: «Щеточный мастер Егор Фед. Равин, Rammonetier Georg Th. Rawen». На углу Гороховой и Садовой улиц, на вывеске гребенщика Бараева, существовала надпись следующая: «Фабрика черепаховых изделий, Fabrique de manufactures tortues». Существовали в те годы также вывески необыкновенно простодушные; например, в Измайловском полку была вывеска: «Домашное табачное заведение отставного унтер-офицера Куропатко».
На углу Владимирской и Невского проспекта над цирюльнею красовалась: «Здесь бреют и крофь а творяют»; у Аничкина моста была вывеска сапожника, могущая служить загадкою, ребусом. «Време. це. маст. Кузьма Федоров» – это означало: «Временный цеховой мастер Кузьма Федоров». Были вывески иллюстрированные: так, на Сенной была пивная лавка, на вывеске которой было изображение бутылки, из которой пиво переливается шипучим фонтаном в стакан. Под этим рисунком была лаконическая надпись: «Эко пиво!» Замечательная иллюстрированная вывеска красовалась у Аничкина моста: на ней был изображен огнедышащий Везувий, дымом которого коптятся окорока и колбасы.
На углу одного из домов Невского проспекта виднелась вывеска: «Фортепьянист и роялист»; за Казанским собором жил «стеклователь», он же «стеклянный художник»; над игрушечной лавкой в Офицерской улице была вывеска «Детское производство»; над лабазом по Гороховой: «Продажа разных мук»; в Спасском переулке была мясная лавка с вывеской: «Лавка Ивана Капустена»; на Гороховой улице долго проживал «Портной Иван Доброхотов из иностранцев»; близ Столярного переулка жил портной, у которого на одном углу дома была вывеска: «Военный Прохоров», на другом «Пантикулярный Трофим». Была вывеска у одного из красильщиков: «Здесь красют, декатируют и такожде пропущают машину». На главных улицах столицы, как на Невском проспекте, вывески чаще попадались на французском и русском языках. В доме, бывшем Энгельгардта, на углу Невского и Казанского моста, долго красовалась вывеска: «Plumassicre de Paris, парижская перечница»; над лавкою, где продавали ковры: «Vente de Tapisses»; на Гороховой долго висела вывеска: «Живописец вывесок, одобренный начальством и экзаменованный и производит всякое художество».
У одного мозольного оператора была вывеска: «Соирег des cors». У одного гробовщика висела вывеска с надписью: «Кrари». По объяснению этого гробовщика, эта надпись была сделана для тону и чтоб французы, здесь умирающие, знали, что могут достать прочные гробы. По стародавнему обычаю, гробы на вывесках всегда изображались не гробами, а красными сундуками или шкатулками.
В двадцатых годах в Петербурге была фабрика табаку Смекаева, на вывеске которой виднелось следующее: за круглым столом сидел с одной стороны господин с стаканом в руке, с другой – стояла дама, она подавала господину трубку и старалась отнять от него стакан, внизу находилось следующее четверостишие:
Оставь вино, кури табак,
Ты трубочкой разгонишь всю кручину;
Клянусь, что раскуражишь так,
Как будто выпил на полтину!
В старину на вывесках виднелись и аллегорические картины, многосложные рисунки из арабесков, цветов и разных атрибутов, сообразно с характером лавки или мастерства.
В музее Павла Свиньина хранилась железная вывеска питейного дома в Петербурге с портретом Петра I и с аллегориями и надписями, современными основанию Петербурга.
В старину лучшие трактиры вывесок с надписями не имели. Так, на вывеске одной из гостиниц Невского проспекта в начале текущего столетия представлены были султан и султанша огромного роста – дама и кавалер в национальной одежде, и они читали «Сенатские Ведомости». На других трактирных вывесках изображались баснословные фениксы в пламени, медведь в задумчивости с газетой.
Над простыми трактирами рисовали мужиков, чинно сидящих вокруг стола, уставленного чайным прибором или закускою и штофиками; живописцы обращали особенное внимание на фигуры людей: они заставляли их разливать и пить чай в самом грациозном положении, совсем непривычном для посетителей таких мест.
На вывесках иногда людские фигуры были заменены предметами: чайный прибор, закуски и графин с водкой, – последнее изображение еще красноречивее говорило за себя. Существовал близ Сенной трактир с такою вывеской: «Здесь трактир для приезжающих и приходящих с обеденным и ужинным расположением». На вывесках винных погребов изображали золотые грозди винограда, а также нагих правнучат и потомков Бахуса верхом на бочках, с плющевыми венками на голове, с чашами, с кистями винограда в руках. Также рисовали прыгающих козлов, – полагая, что греки этому четвероногому приписывали открытие вина. На вывесках табачных лавок и сигарных фабрик писались толстые голландцы, американцы, арабы с сигарою в зубах или мастера, изготовляющие сигары и крошащие табак. Также нагие негры или группы амуров, как белых, так и черных – и все это курит сигары. Изображали и турок в чалмах, задумчиво курящих из кальяна. Акушерки в старину выставляли вывеску с надписью: «бабка-голландка». Где-то на Песках существовала такая вывеска, на которой изображен был рог изобилия, из которого падали новорожденные младенцы, – но до полного падения руки акушерки не допускали и подхватывали младенцев колоссальными акушерскими щипцами.
Глава XXI
Собиратель антиков провиантский чиновник Д-в. – Замечательный его музеум русских предметов. – Колоссальный аппетит Д-ва. – К характеристике князя Ивана Голицына. – Эксцентричности князя X. – Моряк-проказник С. Л-н. – Книгопродавец Л-ов
В ряду заметных чудаков первой четверти текущего столетия был провиантский чиновник, генеральского чина, Д-ов; наружным видом он ничем не отличался от известного Собакевича. Д-ов был страстный любитель всяких «антиков», как он выражался, из которых и составил себе большой музей, собирая их в течение пятидесяти лет своей службы во время своих служебных поездок по всем почти губерниям России и Сибири. Описание этого любопытного кабинета могло бы рассмешить, кажется, чуть не умирающего человека, так он был примитивен, не хитростен и своеобразен. Музей его состоял, нельзя сказать, чтобы из особенно ценных вещей. В коллекции его редких вещей были экземпляры, которые для не посвященного в происхождение их не представляли никакой ценности.
В большом собрании его тростей и палок, напр., самыми драгоценными считались: палица из высушенного лопуха, трость, сделанная из одного корня хрена, крепкая, как кость; затем дорожный посошок, простой, жестяной, выкрашенный черною краскою, в который вливался полуштоф полугара; далее шли такие диковинки, как железная кочерга, более чем в полвершка толщиною, свитая и согнутая рукою силача в дугу, с надписью «кто кочергу эту спрямит, тот нашу дружбу прекратит»; лежал у него на почетном месте и простой обыкновенный кирпич из города Царева, взятый будто бы из развалин дворца Мамаева.
Был и старый барабан из кожи одного волжского разбойника, сделанный по приказу грозного астраханского воеводы. Хранилась в спирту в узкогорлом сосуде огромная груша, видимо, запрятанная туда, когда она была только зародышем, и росла в сосуде до полной зрелости, привязанная к дереву. Была табакерка, сделанная из мужицкого лаптя, на котором написано «и счастье, как табак, со смертными играет, иного веселит, иного в нос щелкает».
Находился у него алебастровый слепок с кулака великана Преображенского полка тамбур-мажора Митрофана Случкина, сверенный с подлинным у него в квартире. Была и портретная галерея кисти суздальских богомазов.
В числе замечательных таких портретов обращали внимание изображение крестьянина Якова Кирилова, которому первая его жена Федосья родила 57 живых детей, а вторая 18; был и другой портрет такого же плодовитого крестьянина Федора Васильева, которому первая супруга подарила 69 детей, а вторая 16. Существовал портрет и девицы француженки Дюбуа; эта ветреная парижанка вела список своих обожателей и в двадцать лет насчитала их 16 527 человек!
В числе серебряных вещей у него хранилась вистовая марка, серебряная с чернью, принадлежавшая графу Аракчееву; на одной стороне были изображены трефы, а на другой герб и надпись: «без лести предан»; куплена она была на аукционе у Свиньина, – как гласила другая надпись на ней, сделанная рукою Д-ва, – «купил для того, чтоб хранил с почтением таковый памятник!»
В коллекции скульптурных вещей под стеклом у него хранилась из яблочных зерен сделанная мышь; под этим изваянием было приписано рукою бывшего провиантского чиновника: «от сего насекомого у нас произошло слово „мышеяд“, которое усердием и попечением некоторых смотрителей казенных магазинов уничтожается и от коих, по словам Кронау (?), описывавшего в 1789 году чему люди научились от животных: „от мышей научились мы портить все, что ни попадется!“»
В числе редких сокровищ в музее Д-ова хранился в пузырьке в довольно измельченном виде необходимый предмет всех кладоискателей «разрыв-трава»; по народному поверью, без нее клада не взять, она отпирает все замки, она составляет ключ к открытию всех сокровищ. Д-в, как рассказывал, отыскал эту траву у одного простого кузнеца за большие деньги; к отысканию этого сокровища ему содействовал один известный московский купец-миллионер, пробу над нею производили в кузнице, действие травы вышло изумительно, полоска железа почти в четверть аршина длиной и в шину толщиной, положенная на наковальню, от одного прикосновения волшебной травы с треском, наподобие выстрела, разлеталась на четыре части.
По мнению скептиков, чудодейственность разрыв-травы была не что иное, как «гремучее серебро», травка же для вида была только примешана.
Был у этого собирателя такой же мифический высушенный цвет папоротника, по его рассказу, здесь был один лепесток цветка, весь же цветок случайно попал в лапоть мужика в Иванову ночь и сообщил счастливцу всеведение, так что он в эту ночь знал, где закопаны клады; мужик, не зная чудодейственного действия цветка, был счастлив только одну ночь, пока в лапте цветок им не был растоптан.
Д-в имел феноменальную способность есть много – обедая часто у купцов-подрядчиков, имевших с ним дела, он обыкновенно накануне обеда давал реестрик, в котором подробно означал, какое именно кушанье для него приготовить; он уверял своих знакомых, что у него желудок треховчинный.
Вот образчик одной такой росписи любимых им блюд: щи кислые, жирные, подать непременно в горшке, с крынкой сметаны; к ним сто подовых пирожков – пятьдесят пустить в разноску, а остальные пятьдесят положить возле моего прибора; это, как объяснял он, в промежутках (т. е. пока разносят кушанье, чтобы не сидеть праздно). Пирог или кулебяку он непременно велел делать длиною в аршин восемь вершков, шириной двенадцать вершков, а высота какая только возможна. В один ее угол надо было положить семги, в другой рыбных молок, в третий курицу с рублеными яйцами, а в четвертый разного фарша. Окорок ветчины он приказывал подать большой, какой только можно было найти. Жареную четверть теленка наказывал всегда обложить парой уток, парой тетеревей и десятком рябчиков. Пирожное, добавлял он, какое хотите, это не мое кушанье. За таким обедом, если какое-либо блюдо ему особенно нравилось, то он на него так чихал, что охотников есть его уже не находилось, и блюдо целиком предоставлялось его аппетиту.
Однажды подрядчик встретил Д-ва стоявшим возле строящегося дома в размышлении с приятной улыбкой на устах – перед бревном огромной величины. «Что вы, ваше превосходительство, думаете здесь?» – спросил подрядчик. – «А вот что: ну, если бы эдакая колбаса! а! один ломтик был бы мне достаточно на закуску после рюмочки сивушки». Д-в никакого вина, за исключением браги и квасу, не пил, пил же он перед обедом, завтраком и ужином «сивушку» – это был настой из мелко истолченных кореньев и трав, которые ему присылал известный малороссийский знахарь Трофимович.
По его методу от всякой простуды и болезни он принимал ежедневно ножную ванну изо льда, в котором он держал ноги не более пяти минут; по совету того же знахаря он ходил еженедельно в баню, где терли его тело мелким песком.
В прежних наших рассказах о чудаках Голицыных мы говорили об известном князе Иване Голицыне, прозванном «Jean de Paris», который выиграл в игорном доме в Париже миллион франков и спустя несколько дней проиграл их. Кличку свою он получил вот по какому случаю. Князь женился в Париже на известной певице Комической оперы, которая была особенно хороша в опере Боальдье «Jean de Paris»; певица эта разбогатела на богатые средства князя, и когда у последнего не осталось ничего от его громадного состояния, то и вышла за него замуж – от этого и стали называть князя Jean de Paris.
Получив за женой три миллиона франков, князь задумал возвратиться на родину – уселся с нею в великолепный дормез и пустился в дальний путь. Проезжая по лицам Парижа, князь вдруг увидел вывеску известного в то время оружейника Лепажа. Он тотчас же вспомнил, что ему придется проезжать через Варшаву и там явиться к своему прежнему начальнику великому князю Константину Павловичу – вспомнил он, что цесаревич страстно любил охоту с ружьем и потому решил, что будет кстати, если он купит у Лепажа лучшее охотничье ружье в подарок цесаревичу. Когда он выбрал ружье и хотел расплатиться, Лепаж, зная хорошо страсть князя, предложил лучше не платить за ружье, а сквитаться с ним на зеленом поле, пригласил сразиться. И вот игроки сели; с первой же карты князю не повезло, и в какие-нибудь полчаса он проиграл все женины миллионы. Осталась в кармане только небольшая сумма на путевые издержки от Парижа до Варшавы.
Прибыв в Варшаву, князь поднес цесаревичу великолепное ружье. Константин Павлович, любуясь им, спросил: «А что может стоить это ружье?» – «Угадайте, ваше высочество». – «Несколько тысяч франков?» – «Около того; три миллиона франков». – «Ты шутишь?» – «Увы! говорю сущую правду». И тут Голицын рассказал печальную историю поднесенного ружья и окончил свой рассказ следующим: «И вот теперь я остался без куска хлеба и обращаюсь к вашему высочеству с просьбою дайте мне какое-нибудь место, чтобы не умереть с голоду вместе с моею женою и дочерью». – «Какое же дам я тебе место? Хочешь, как бы сказать, место моего забавника? Согласен?» – спросил великий князь. – «Но только с тем, что моя должность не должна идти дальше следующего: я буду смешить и забавлять ваше высочество рассказами о всех глупостях, сплетнях, смехотворных или скандальных историях Варшавы, но ни о чем более» – «Идет!» – отвечал цесаревич. И таким образом он вступил в должность официального буфона при особе его высочества. И все знали его за такого в Варшаве, и все любили и уважали, он никому не делал ни малейшего зла, а, напротив, делал много добра, отстаивая и выручая из беды прибегавших под его защиту угнетенных и несправедливо преследуемых.
В первые годы царствования Александра Благословенного между светскою петербургскою молодежью, как мы не раз уже рассказывали, существовало несколько тайных обществ, цель которых была не политическая, а разгульная, и было много таких, где преследовались любовные цели. Любовные похождения были в то время в большой чести и придавали светскому человеку некоторый блеск и известность. Нравы регентства были не чужды нам, и у нас были в своем роде герцоги Ришелье. В числе отечественных волокит был некто X, впоследствии посланник при одном из итальянских дворов. Похождения его, кажется, по числу побед были ничуть не менее донжуановских. Он не знал непокорившейся ему красавицы. Его ум и светскую любезность умели ценить, впрочем, и не одни женщины.