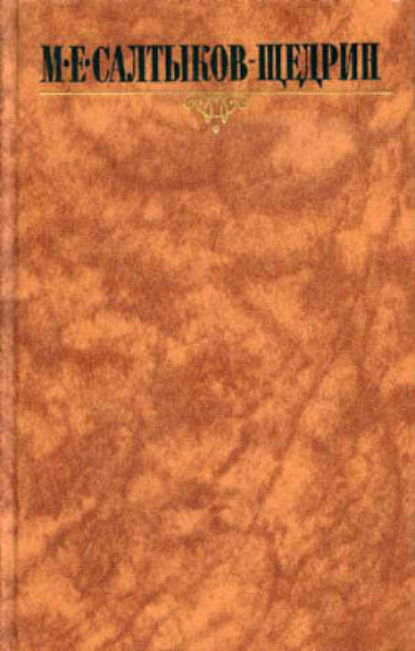По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письма к тетеньке
Жанр
Серия
Год написания книги
1882
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тысячу рублей... на всю жизнь... вот так удружила!!
По окончании похорон, дядя Григорий Семеныч пригласил как духовенство, так и прочих ассистентов в ближайшую кухмистерскую на поминальный обед.
Закуска прошла довольно вяло. Стрекоза продолжал качаться из стороны в сторону, бормоча себе под нос: "вот оно... заключение! ну, и что ж! ну, и извольте!" Очевидно, он разговаривал с бабенькой, которая приглашала его туда, а ему «туда» совсем не хотелось, хотя, по обстоятельствам, и предстояло поспешать. Удав и Дыба начали было рассказ о том, какие в грузинских прудах караси водились – вот этакие! – но, убедившись, что карасями современного человека даже на похоронах не проберешь, смолкли. «Индюшка» рассматривала на свет балык и спрашивала у хозяина кухмистерской, где и почем он его покупал; кадеты и прочая молодежь толпились около закусочного стола и молча гремели вилками; дядя Григорий Семеныч глазами торопил официантов, чтоб подавали скорее. Что же касается до Поселенцева, то он разом, одну за другой, выпил шесть рюмок рижского бальзама и в один момент до того ополоумел, что его вынуждены были увести. Собственно об бабеньке сказал несколько слов из приличия (а может быть, и потому, что этого требовал церемониал), старший отец протопоп, а дьякона при этом пропели вечную память, и затем имя ее точно в воду кануло.
За обедом, однако ж, дело пошло живее. Завязалась беседа, в основание которой, как и следовало ожидать, легла внутренняя политика.
Да, милая тетенька, даже в виду только что остывшего праха, эта язва преследует нас! До того преследует, что, не будь ее, я не знаю даже, что бы мы делали и об чем бы думали! Вероятно, сидели бы друг против друга и молча стучали бы зубами...
Первый толчок дал один из батюшек, сказав, что "ныне настали времена покаянные", на что другой батюшка отозвался, что давно очнуться пора, потому что "все революции, и древние и новые, оттого происходили, что правительства на вольные мысли сквозь пальцы смотрели".
– Сперва одна мысль благополучно пройдет, – соболезновал батюшка, – потом другая, а за ней, смотришь, сто, тысяча... миллион!
Этот же тезис, но гораздо полнее, развил и надворный советник Сенечка, но тут же, впрочем, успокоил присутствующих, сказав, что хотя до сих пор так было, но впредь уж не будет.
– Было у нас этих опытов! довольно было! – воскликнул он, – были и "веянья"! были и целые либеральные вакханалии! и даже диктатура сердца была! Только теперь уж больше не будет! Аттанде-с. С "веяниями"-то придется повременить... да-с!
– Только повременить, а не то, быть может, и совсем оставить? – полюбопытствовал третий батюшка.
– Ну, там оставить или повременить – это видно будет. А только что ежели господа либералы еще продолжают питать надежды, то они глубоко ошибутся в расчетах!
Сенечка высказал это так уверенно, что дьякона слушали-слушали, да и ободрились.
– А мы было приуныли! – отозвался старший дьякон за себя и за прочих дьяконов. – Видим действия несодеянная, слышим словеса неизглаголанная; думаем: доколе, господи! Ан, стало быть, и с концом поздравить можно?
Начались рассказы из современного народного быта, причем рассказчиками являлись, по преимуществу, духовные. "Еду я, намеднись, по конке", "Иду я, намеднись, по Гороховой", "Стоим мы, намеднись, с отцом Петром на паперти" и т. д. И в конце непременно кляуза. Словом сказать, так оживился наш поминальный кружок, что даже причетники, которым был сервирован стол (попроще) в соседней комнате, беспрестанно выбегали оттуда в наш зал с величайшею охотой свидетельствовать. Однако ж Сенечка не решился отбирать показания в кухмистерской; но очень ловко намекнул, что ежедневно, от такого-то до такого-то часа, он бывает у себя в камере.
Шла, впрочем, речь и об "отрадных" явлениях, и в том числе, конечно, о Ноздреве.
– Какой был гнилой сосуд! – дивился четвертый батюшка, – а вот упал на него луч и какие вдруг кристальные струи из этакого, с позволения сказать, вместилища потекли!
Дядя Григорий Семеныч сидел и корчился. Неоднократно он порывался переменить разговор, но это положительно не удавалось, потому что все головы были законопачены охранительным хламом, да и у него самого мыслительный источник словно иссяк. Наконец он махнул рукой, шепнув мне:
– Пошла в ход управа благочиния! Нет в мыслях благородства, да и все тут! Хоть бы досидеть как-нибудь!
Среди оживлений проснувшейся ябеды совсем забыли о "сведущем человеке", который притулился между кадетами и, по-видимому, настолько превратно проводил время, что даже забыл, что ему, рано или поздно, придется отвечать.
Наконец этот момент наступил. Дьякона вспомнили, что в числе похоронных принадлежностей чего-то недостает, стали искать и, конечно, отыскали.
Однако ж на этот раз "сведущий человек" оказался скромным. Это был тот самый Иван Непомнящий, которого – помните? – несколько месяцев тому назад нашли в сенном стогу, осмотрели и пустили на все четыре стороны, сказав: иди и отвечай на вопросы! Натурально, он еще не утратил первобытной робости и потому не мог так всесторонне лгать, как его собрат, Мартын Задека.
И действительно, когда дьякона приступили к нему с вопросом, скоро ли будет конец внутренней политике, то он твердо ответил, что политика до сведущих людей не относится.
– Вот ежели бы куры внезапно перестали нести яйца, – сказал он, – и потребовалось бы определить, в чем настоящая причина заключается, – тут сведущий человек может прямо сказать: оттого, что их редко щупают!
Сначала ответ этот произвел некоторое недоразумение, но так как в эту самую минуту Стрекоза, словно в забытьи, прокричал: всяк сверчок знай свой шесток! – то все сейчас же поняли и удовлетворились.
– Но неужто ж вы только по вопросу о курах и чувствуете себя призванным дать ответ? – спросил, однако ж, дядя, который был очень доволен, что наконец представился случай завести "партикулярный" разговор.
– Нет, я могу отвечать и на некоторые другие вопросы, не очень, впрочем, трудные; но собственно "сведущим человеком" я числюсь по вопросу о болезнях. С юных лет я был одержим всевозможными недугами, и наследственными, и благоприобретенными, а так как в ближайшем будущем должен быть рассмотрен вопрос о преобразовании Калинкинской больницы, то я и жду своей очереди.
Тогда мы начали предлагать ему вопросы, он же скромно, но отчетливо и с полным знанием дела, давал на эти вопросы ответы.
Ах, тетенька! Какими только недугами этот человек не был одержим в течение своей многомятежной жизни! И заметьте, все недугами не русскими и даже не европейскими, а завезенными из Нового Света: перувианскими, бразильскими, парагвайскими!
И какую пользу он должен принести при рассмотрении вопроса о преобразовании Калинкинской больницы!
Он – по этому вопросу, другой – по другому, третий – по третьему. А то, сказывают, прибыл из губернии еще "сведущий человек", который раз десять был изувечен при переездах по железным дорогам, – так тот по железнодорожному вопросу будет пользу приносить...
Так оно и пойдет чередом?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обмениваясь мыслями, мы и не заметили, как нас застиг вечер. А бабенькина тень невидимо реяла над нами, как бы говоря: дорожите "сведущими людьми"! ибо это единственный веселый оазис на унылом фоне вашей жизни, которая все более и более выказывает наклонность отожествиться с управой благочиния!
ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ
Милая тетенька.
Дядя Григорий Семеныч правду сказал: совсем благородные мысли из употребления вышли. И очень возможно, что именно в этой утрате вкуса к благородному мышлению и заключается объяснение того тоскливого чувства, которое тяготеет над переживаемою нами современностью.
Благородные мысли, благородные чувства (их называют также "возвышенными") нередко представляются незрелыми и даже смешными; но это происходит оттого, что по временам они облекаются в нелепую и напыщенную форму, которая, до известной степени, заслоняет их сущность. В большинстве случаев, к напыщенности прибегают люди, совсем непричастные высоким мыслям и чувствам, а именно: шпионы, кровосмесители, казнокрады и другие злокачественные вереда общественного организма. Не имея ничего за душой, кроме праха, они вынуждаются маскировать этот прах громкими фразами. Казнокрад закатывает глаза, говоря о святости собственности; кровосмеситель старается пламенеть, утверждая, что семейство – святыня; шпион рыдает, заявляя о своем сочувствии к "заблуждающимся, но искренно любящим свое отечество молодым людям" и т. д. И в то же время, и те, и другие, и третьи отыскивают отборнейшие выражения и стараются округлять периоды. Но истинно возвышенное чувство никаких этих округлений не знает и выражается просто, трезво, без вычур. Вот это-то именно и надобно различать. То есть надо раз навсегда сказать себе, что ежели возвышенное чувство кажется нам смешным, то это совсем не значит, что оно в самом деле смешно, а значит только, что в него лицемерно вырядился какой-нибудь негодяй, которому необходимо замести свои следы.
В основе благородных чувств лежит человечность, самоотверженность и глубокая снисходительность к людям. Эти свойства, и сами по себе очень ценные, приобретают еще более ценное значение в том смысле, что дают жизни богатое и разнообразное содержание. Обнимая собой сполна весь цикл человеческих отношений, они оживляют мысль и деятельность не только отдельных индивидуумов, но и целого общества. Являются представления об общем благе, об общечеловеческой семье, о праве на счастье; и чем больше расширяются границы этих представлений, тем больше находит для себя, в этих границах, работы человеческая мысль и деятельность. И притом, работы честной, не отравляющей совести сомнением, что в результате может получиться предательство, частный вред или общее бедствие.
Говорят, будто бы чересчур повышенный диапазон мыслей и чувств приводит к расплывчивости, которая делает их мало применимыми к действительности. Между тем действительность-то, дескать, именно и нуждается в просветлении и освежении, так что без этой цели чувства и мысли самые благородные представляют только доброкачественную, но бесплодную игру. Коли хотите, в этом укоре есть капля правды, и капля довольно ядовитого свойства. Действительно, влияние высоких мыслей и чувств на жизнь практическую, обыденную, до сих пор представляется не особенно решительным... Но отчего же это происходит? А оттого, милая тетенька, что действительность чересчур уж ревниво оберегается от наплыва каких бы то ни было просветлений и освежений; оттого, что просветления признаются вредными и вносящими в жизнь известные осложнения, которые полагают препятствия к слишком бесцеремонному обращению с ней (а это-то последнее и составляет цель всех вожделений). Или, говоря другими словами, оттого, что между мыслью и действительностью воздвигается искусственная перегородка, которая делает последнюю непроницаемою для первой. Понятно, что при подобных условиях работа мысли фатальным образом осуждается на игру.
Однако ж чаще всего игра переходит в страдание, и тогда вопрос сразу переносится совсем на другую почву. Нелегко переносить эту оторванность от почвы, которую так легкомысленно ставят в укор возвышенной мысли; нелегко предаваться благородной игре, которая затрогивает все внутреннее существо человека, и сознавать, что идеалы человечности, самоотверженности и любви надолго осуждены оставаться только игрою. Тяжелая это игра, и нужно быть изрядным мудрецом, чтобы пребывать бесстрастным среди неосмысленного уличного празднословия, которое так охотно идет с дреколием навстречу мысли, возвышающейся над уровнем толпы. Да и с одним ли уличным празднословием приходится считаться возвышенной мысли? – о, если б только с одним! тогда дело мысли было бы выиграно, потому что улица, как живой организм, все-таки имеет способность размягчаться и развиваться. Но, кроме улицы, ведь есть Дыба, есть Удав, которые лелеют встречные идеалы, установившиеся и окрепшие; которые закоченели в охране этих встречных идеалов и, во имя их насущной практичности, мерно поднимают и опускают молот, угрожая расплющить все, что заявляет претензию выйти из рамок обыкновенного низменного животолюбия.
С этими идеалами, которые говорят: ходи в струне и никаких требований, кроме физических, не предъявляй, ужасно трудно мириться. Даже Удав и Дыба, в сущности, не удовлетворяются ими, а держат их только как камень за пазухой, для ушибания. И у них есть свой "образ мыслей", правда, ограниченный и вредный, но в пределах его они все-таки могут испытывать то чувство удовлетворенности, которое сам по себе доставляет мыслительный процесс. Но они не хотят, чтобы другие мыслили, и этим другим предоставляют лишь сладкий удел выполнять начертанную программу. Даже права вредно мыслить они не признают (только право совершать физические отправления – подумайте, какая жестокость, милая тетенька!) – как же вы хотите, чтоб они признали право мыслить благородно? Благородно мыслить – ведь это значит расплываться, значит смущать толпу всевозможными несбыточностями, значит подрывать, потрясать! И вы думаете, что Удав и Дыба останутся равнодушными зрителями этих обольщений и потрясений!
Вот с чем встречается возвышенная мысль на пути своем и что превращает игру в страдание, до того реальное, что всякий может вложить этому страданию персты в язвы. Это история очень старая и непрерывно повторяющаяся, но именно эта древность и непрерываемость и доказывает, что игра, на которую осуждается возвышенная мысль, совсем не так бесплодна, как это кажется с первого взгляда. Никогда ликование и торжество не делали столько страстных прозелитов, сколько делали их угнетения и преследования. Не говоря уже о том, что возвышенная мысль сама по себе обладает изумительною живучестью, преследование сообщает ей еще новую и своеобразную силу: силу поучения.
Все, что мы видим в мире доброго, светлого и прочного, весь прогресс человеческого общежития – все идут оттуда, из этой расплывающейся, но упорно остающейся верною себе мысли; все оплодотворяется ее самоотверженною живучестью. История человечества гласит об этом во всеуслышание и удостоверяет наглядным образом, что не практики, вроде Шешковского, Аракчеева и Магницкого, устрояют будущее, а люди иных идеалов, люди "расплывающихся" мыслей и чувств. И Шешковский, и Аракчеев, и Магницкий (да и одни ли они? мало ли было таких "практиков" прежде и после?) достаточно-таки поревновали на пользу кандалов, но, несмотря на благоприятные условия, несмотря даже на запечатленный кровью успех, и они, и их намерения, и их дела мгновенно истлели, так что даже продолжатели их не только не решаются ссылаться на них, но, напротив, притворяются, будто имена эти столь же им ненавистны, как и истории. Ведь и чума когда-то в Москве неистовствовала, но кто же ссылается на нее, как на благоприятный прецедент? Так точно и тут: пришли, осквернили вселенную и исчезли... А история с кандалами между тем мало-помалу разъясняется, а Удав с Дыбой хотя и продолжают, по существу, проповедовать, что истина и кандалы понятия равносильные, однако уж настолько не уверены в успехе своей проповеди, что вынуждаются уснащать ее величайшими оговорками. Слышатся выражения: "временно", "не надолго, а только в виду потрясения основ", "а потом, само собой разумеется" и т. д. Словом сказать, цельность миросозерцания нарушена, и если б Шешковский не сгнил, он непременно самих Удава и Дыбу заподозрил бы в потрясении основ и заключил бы в кандалы, которые, вероятно, еще где-нибудь в уголку найдутся, если хорошенько поискать.
Тем не менее проповедь Удава и Дыбы все-таки одурманивает. Жестокие и противочеловеческие формы, в которые, от времени до времени, облекается возбужденная страсть, дает охранителям благочиния отличнейший материал, чтобы посевать окрест развращающую панику. Взбудораженная улица охотно соглашается отдать себя на поругание, взамен уступок и посулов, делаемых ее инстинкту самоохранения. Нужды нет, что эти уступки гарантируются ей идеалами благочиния, в основе которых лежат кандалы; нужды нет, что ни Удав, ни Дыба, принявшие это наследие от Шешковского, никаких иных средств охранения не могут изобрести, – паника уживается и с кандалами. Зато ее обнадеживают словами: "временно", "вот погодите", "дайте управиться" и т. д. "Временно" – упраздняется развитие, "временно" – налагается секвестр на мысль, "временно" – общество погружается в беспросветную агонию...
Я знаю и сам, что это маразм действительно только временный, и не потому временный, что так удостоверяют Удав и Дыба, а потому, что улица самая бесшабашная очнется, поняв, что бессрочный маразм может принести только смерть. Но ведь и временно сознавать себя заключенным в съезжий дом – ужасно оскорбительно. И, право, я недоумеваю, как могут люди не понимать, что съезжий дом, ни бессрочно, ни на срок, не только не представляет искомого идеала, но даже самою зачаточною формою общежития назван быть не может. Ибо съезжие дома предназначаются совсем не для граждан и даже не для обывателей, а для колодников. Что съезжие мысли, съезжие речи могут пользоваться в обществе правом гражданственности – в этом я, конечно, никогда и ни на минуту не сомневался, но в меру, милая тетенька, а главное, чтоб все в своем месте и в свое время было. Когда съезжие мысли мыслят околоточные и городовые, я совершенно понимаю, что иначе оно и не должно быть. Но когда эти же мысли порабощают себе общество, закабаляют партикулярных людей, отравляют общественные отношения и отнимают у жизни всякий внеполицейский интерес – это я уже перестаю понимать.
Вот это-то обязательное порабощение идеалам благочиния и заставляет меня не раз говорить: да, трудно жить современному человеку! Непозволительно обходиться без благородных мыслей, неприлично отожествлять общество с съезжим домом; невозможно не только "временно", но даже на минуту устранить процесс обновления, который, собственно говоря, один и оберегает общество от одичания. Подумайте! ведь общество, упразднившее в себе потребность благородных мыслей и чувств, не может послужить деятельным фактором даже в смысле идеалов тишины и благочиния. Оно бессильно, дрябло, инертно; оно постепенно разлагающийся труп – и ничего больше.
Примеры этой трупной немощи изобилуют; примеры наглядные, для всех вразумительные. Приведу здесь один, наиболее нам близкий: так называемую потребность "содействия". Слово это у всех на языке и повторяется на все лады, так что, казалось бы, только явись это желанное "содействие", мы в ту же минуту сели бы и поехали. Но именно "содействие"-то и не является, а не является оно... как вы, однако ж, думаете, почему оно не является?
Спрашивается: прав ли я был, утверждая, что при подобных условиях, при этом всеобщем господстве серых тонов, жизнь становится не только трудною, но и прямо постылою?
А между тем не дальше как на днях и именно по поводу этого утверждения я подвергался поруганию. Один из Иванов Непомнящих, которых так много развелось нынче в литературе, взойдя на кафедру и обращаясь к сонмищу благородных слушательниц, восклицал: "Нам говорят, что, при современных условиях, нельзя жить – однако ж мы живем и, право, живем недурно!" Ах, мой любезный! да разве я когда-нибудь говорил, что всем нельзя жить, а в том числе и Иванам Непомнящим? – Нет, я говорил только, что вообще жизнь, обнаженная от благородных мыслей и побуждений, постыла и невозможна, так как эта обнаженность уничтожает самый существенный ее признак: способность развиваться и совершенствоваться. Но, в частности, для тех или других особей, я никогда возможности «жить да поживать» не отрицал. Напротив, я вполне убежден, что, например, золотари не только живут, но и едят при исполнении обязанностей... Но, право же, незавидная это жизнь!
Поэтому, милая тетенька, убеждаю вас: не увлекайтесь идеалами благочиния и не соблазняйтесь тем, что они сулят вам тихое и безмятежное житие! Памятуйте, что это тихое житие равносильно позорному гниению, и не завидуйте гниющим потому только, что они гниют без помехи! Сохраняйте в целости вкус к благородным мыслям и возвышенным чувствам, который завещан нам лучшими преданиями литературы и жизни! Пускай называют людей, хранящих эти предания, "разбойниками печати" – не пугайтесь этой клички, ибо есть разбойники, о которых сама церковь во всеуслышание гласит: "но, яко разбойник, исповедую тя", равно как есть благонамеренные предатели, о которых та же церковь возглашает "ни лобзания ти дам, яко Иуда"... Расплывайтесь, но не коченейте! взмывайте крылами в пространство, но не погрязайте в болотной тине! И ежели к вам, от времени до времени, заходит на чашку чая урядник, то и ему говорите, что доблестнее и для самого охранительного дела выгоднее расплываться, нежели погрязать. А я, с своей стороны, буду о том же твердить подчаскам и дворникам.