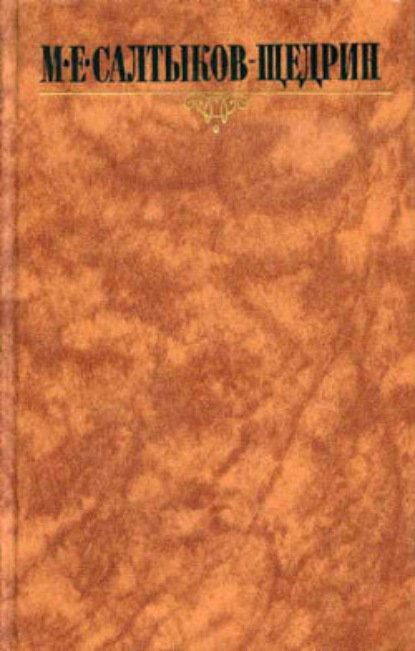По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В больнице для умалишенных
Жанр
Серия
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Затем он взял из рук почтенного еврея лист вексельной бумаги и совершенно отчетливо написал: «Я, нижеподписавшийся, обязуюсь уплатить христопродавцу Брошке, или кому он прикажет, пятьдесят тысяч рублей, сроком от нижеписанного числа, когда мне то заблагорассудится. Fait a St.-Petersbourg, ce 19 Janvier Составлено в С.-Петербурге, 19 января., в год от разорения Иерусалима 50001. К сему заемному письму Aliene chronique Jean de Potzeloueff Хронический сумасшедший Иван Поцелуев. руку приложил».
– Ce n'est pas plus long que ca! Вот и все! – сказал он мне, показывая вексель.
– Ну, а теперь, Брошка, – брысь! Бери вексель в зубы, и чтоб духу твоего не пахло! Ainsi, vous connaissez le secret de mes operations financieres, mon oncle! Теперь вы знаете секрет моих финансовых операций, дядюшка! – продолжал он, когда еврей вышел, – que voulez vous! Nous tous, tant que nous sommes, nous ne faisons pas autrement! что поделаешь! Мы все, сколько нас ни есть, только так и поступаем! Не дают, подлецы, на других условиях! Да ведь и я тоже не промах. Да-с, любезный Брошка, тут еще будет судоговорение! Вы заметили, mon oncle, какую я штуку выкинул! «Обязуюсь заплатить, когда мне то заблагорассудится!» Ха-ха! Когда заблагорассудится! Да-с, тут еще будет… су-до-го-во-ре-ние! – И он так блаженно улыбался, говоря это, что мне невольно пришло на мысль: Ваня! о, если б ты всегда был помешан!
– Однако мне уж время проездку делать! надеюсь, mon oncle, что вы не откажетесь присутствовать при этом?
Мы прошли в большую залу, где была устроена гимнастика. Больные отчасти прогуливались в саду, а отчасти разбрелись по нумерам, и потому зала была пуста. Только один субъект, в куртке, в рейтузах, в кавалерийской фуражке без козырька и в грязновато-белых замшевых перчатках на руках, прохаживался взад и вперед по комнате, заложивши одну руку за спину. Это был меланхолик, юнкер Потапенко, добровольно принявший на себя роль ординарца при Ване. Он ожидал нас и при нашем появлении вытянулся и сделал рукою под козырек.
– Тесноват немного у нас манеж, – сказал мне Ваня, указывая на залу, серьезная проездка просто немыслима, а между тем требуют, чтоб солдат исполнял почти все то, что исполняется в цирке. Оттого-то все и идет у нас так себе, clopin-clopant кое-как… Благих намерений пропасть, а исполнение – швах. Просто жалость смотреть на лошадей, как они путаются. On ne veut pas comprendre que la bete doit avoir de l'espace devant elle! Не хотят понять, что лошадям нужно пространство! Грустно. Людей у нас нет, mon oncle! таких людей, которые могли бы понять! А впрочем, что же тут толковать! ведь мы с вами людей не сделаем! Позвольте-ка мне лучше рекомендовать моего коня жеребец Исполнительный! А-с? каков круп?!
Он указал рукой на деревянную, обшитую кожей и утвержденную на двух треножниках кобылу, служившую для каких-то гимнастических целей. Но он очень серьезно принимал ее за настоящего коня, потому что потрепал ее рукою и даже слазил посмотреть, что у нее под брюхом.
– У лошади, mon oncle, голова должна быть сухая, нога как стальная, круп круглый, широкий, как печь, c'est l'essentiel! это самое главное! Лошадь, которая имеет круп остроконечный…
Но вдруг речь его порвалась, и лицо, дышавшее приветливостью, потемнело. Он молча поманил указательным пальцем несчастного Потапенко, который ни жив ни мертв, словно неслышный зефир, подлетел к нему – и замер на месте, держа руки по швам.
– Это видишь? – с неизреченной непреклонностью во взоре и голосе спросил Ваня, указывая на какую-то неизмеримо малую величину, темневшуюся в виде пятнышка под воображаемым хвостом, – опять хвост не подмыт?
Потапенко, не переменяя положения, скосил глаза в указываемую сторону и проговорил:
– Виноват, ваше превосходительство! Вчера выпивши был!
– Пятнадцать! – твердо произнес Ваня, отпуская манием руки Потапенку, который, сделав направо кругом, зашагал к окошку и там опять замер руки по швам. – Ну вот хоть бы это! – продолжал Ваня, обращаясь ко мне, – телесные наказания уничтожены – mais au nom de Dieu! est-ce que cela a le sens commun! но ради бога! есть ли в этом здравый смысл! Где гарантии, спрашиваю я вас! Могу ли я отвечать за красоту фронта, если я не вооружен достаточными для того средствами! Исполнима ли подобная реформа! – нет, не исполнима! И вот почему никто и не исполняет ее! Это все равно что вот с новыми судами: исполнимы ли решения новых судов? – Нет, не исполнимы, а потому никто и не исполняет их! Суд там себе как хочешь оправдывай, но если нельзя этого выполнить – в результате все-таки… фюить! Or, je vous demande un peu Так скажите на милость., для чего же писать законы, коль скоро их не исполнять?!
Ваня проговорил все это так резонно, что мне просто казалось, что он рассказывает сущность передовой статьи, только что вычитанной им в одной из современных либеральных русских газет.
С последним словом он молодцом вскочил на деревянную кобылу, стегнул ее хлыстом и разом осадил. В продолжение получаса он проделывал передо мной на этом подобии лошади все, что, в нормальном состоянии, мог бы проделать на настоящей, живой лошади. Подбоченившись одной рукой, он делал вид, что другою держит поводья, и затем привскакивал на галопе, слегка трясся на рысях, наклонно и как бы устремляясь всем корпусом вперед, держал себя на марш-марше и проч., так что в конце концов совсем измучился и вспотел. Но это не мешало ему ни на минуту не прекращать бессвязной болтовни, из которой я узнал его предположения об устройстве международного цирка, насчет чего меня, впрочем, уже предупреждал доктор.
– Вы знаете, mon oncle, – говорил он, – что мне разрешено устроить здесь в Петербурге международный цирк. После международного статистического конгресса это будет второй опыт в том же роде. Ca sera grandiose et fantastique en meme temps Это будет грандиозно и вместе с тем фантастично., все мое сердобское имение пойдет туда. Ah! nous allons joliment festoyer, je vous en reponds! Ах! мы прекрасно отпразднуем, ручаюсь за это! Представьте себе громаднейшее здание в длину и ширину всего царицынского луга – вот мой цирк. Над зданием, вместо потолка, хрустальный свод; по бокам и углам, в виде приделов, теряющихся в неизмеримости пространства, найдут себе место частные цирки всех возможных национальностей; посередине будет расположена главная, интернациональная арена. Все, что можно найти в целом мире en fait de chiens et de chevaux по части собак и лошадей., – всем этим мы будем обладать. Но, главное, мы будем иметь и то, чего совсем нет нигде, – c'est la le point essentiel вот что существенно… При главной арене будет существовать целая комиссия скрещиваний (comme qui dirait, un ministere du progres как бы сказать, министерство прогресса.), которая именно будет иметь предметом выработку совершенно новых лошадиных и собачьих пород и мастей. Nous aurons des chevaux-leopards, des chevaux-hippopotames, des chevaux-rhinoceros. Et si la science arrive a creer des chevaux-aigles ou des chevaux-requins – nous en aurons les premiers echantillons У нас будут лошади-леопарды, лошади-гиппопотамы, лошади-носороги. И если наука дойдет до создания лошадей-орлов и лошадей-акул, – у нас будут их первые образцы… У нас будет свой главный доктор и свой адвокат. Против главного цирка, где теперь павловские казармы, мы поместим главное управление, которое будет заведовать всеми цирками и во главе которого я полагаю поставить Эмму Чинизелли с Эммой Браатц в должности товарища. Я думал было сделать главноуправляющим генерала Дитятина, но сообразил, что он не знает даже, что значит подмыть у лошади хвост. Во всякой губернии будет открыто один или два цирка – ca sera toute une reforme! это будет целый переворот! Разумеется, цирки будут открываться не вдруг, а постепенно, по мере средств, которыми будет располагать наше казначейство. Как быть! судьба всех реформ такова, и сибирским губерниям, быть может, совсем придется остаться без цирков! Посещение цирков будет обязательное, mais aussi nos cirques fonctionneront jour et nuit но в то же время наши цирки будут работать день и ночь… Мы обязываемся иметь лучших гимнастов, лучших жонглеров, лучших канатных плясунов и, как conditio sine qua non обязательное условие., летающего человека. Переход через Ниагару на слабо натянутом канате будет происходить каждый день. По вечерам будет даваться экстраординарное представление для избранных, в заключение которого имеет быть представлена борьба слона с носорогом. Cela coutera un argent fou Это будет стоить бешеных денег., но я надеюсь иметь субсидию. Que diable, l'etat peut bien se deranger pour une entreprise aussi grandiose! Кой черт, может же государство немного раскошелиться ради такого грандиозного предприятия! Все открытия и усовершенствования в мире лошадей и собак будут усвоены нами немедленно. Mon oncle! вы не поверите, если вам перечислить все, что сделано в последнее время в этой сфере! Нынче лошадь уже сидит на задних ногах, но кто может поручиться, что через год или два она не будет ходить на голове – tout comme un homme! совершенно как человек! Вот что мы вправе ожидать от лошади – от одной только лошади! Et les cochons de lait donc! Ну а поросята! Я уверен, что даже теперь между ними уж скрывается какой-нибудь газетный фельетонист! Подумайте, какие перспективы! Теперь вы видите какую-нибудь гусарскую кадриль: c'est triste, c'est mesquin, ca n'a ni verve, ni entrain! это бедно, жалко, в этом нет ни жара, ни увлечения! Тогда – вы увидите целые массы, целые сражения! Какая школа! сколько примеров доблести! Гусарские кадрили – parlez-moi de ca! Nous vous servirons des amazones! mille, dix mille, cent mille paires de hanches a la fois! – quel coup d'oeil! Et nous aurons des cabinets particuliers, s'il vous plait. Mon oncle! vous qui etes un vieux libertin да что толковать! Мы угостим вас амазонками! тысячу, десять тысяч, сто тысяч пар ляжек разом! – какое зрелище! А у нас будут и отдельные кабинеты, если вам угодно. Вы ведь старый распутник, дядюшка! (не говорите! знаю я, как вы в Проплеванной Название деревни (см. «Дневник провинциала в Петербурге»). (Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.) целые полки амазонок формировали!) – вы знаете, что в этом отношении Петербург находится, так сказать, в младенчестве. Мы все это разом двинем. Tout s'enchaine et se lie dans mon systeme, voyez-vous Как видите, в моей системе все пригнано друг к другу… За особенную плату я покажу Венеру, выходящую из морской пены, – на днях я даже подписываю по этому случаю с Корой Пирль контракт. Ah bah! Je suis patriote, mon oncle! Да-с! Я патриот, дядюшка! Я сказал себе: мы ездим в Париж, мы тратим там деньги – для чего! Не лучше ли будет, если мы устроим все это у себя и будем тратить наши деньги дома?! Mais n'est-ce pas, mon oncle?
Выпустивши этот поток речей, он ловко соскочил с лошади, сплюнул в сторону, как подобает усталому кавалеристу, и с благосклоннейшею улыбкой продолжал:
– Я в этом отношении даже дальше иду. Я так думаю, что если б у нас были охотники до парламентов, то вместо того чтоб заставлять ездить смотреть на них за границу, я бы дома завел свой собственный парламент: нате! смотрите! Вы подумайте только, mon oncle, каких одна Пензенская губерния корнетов в этот парламент вышлет! хоть сейчас на выводку… parole d'honneur! Не правда ли, дядюшка? 8 честное слово!
Признаюсь, заслышав слово «парламент», я несколько струсил и хотел замять разговор; но когда Ваня тут же примешал пензенских корнетов, то идея эта мне самому так понравилась, что я невольно воскликнул:
– Ну да… ежели собрать пензенских корнетов в одну кучу… a la bonne heure! в добрый час! В этом смысле… то есть в смысле выводки… парламент… Это был бы даже очень и очень важный шаг в истории нашего коннозаводства!
– А какая перспектива для цирка! Предположите хоть по одному корнету с уезда – ведь это был бы одновременный наплыв более семисот корнетов… подумайте-ка, mon oncle, сколько тут дел можно сделать!
Быть может, он развил бы свою мысль и далее, если б в эту минуту не влетел в зал бледный молодой человек, в фантастическом сюртуке военного покроя, который, с необыкновенно озабоченным видом, доложил, что судьи уже собрались и ожидают только Ваню, чтоб открыть заседание.
– Ну-с, делать нечего, сегодня нам к Одинцову ехать уж не приходится. Но завтра я вас угощаю, mon oncle, – это решено. J'ai un credit illimite! У меня неограниченный кредит! Правда, что я за каждый десяток устриц пишу вексель в восемь тысяч рублей, но так как я принял за правило вообще по векселям не платить, то выходит, что завтрак, во всяком случае, обходится мне несравненно дешевле, нежели какому-нибудь pekin штрафирке., который платит за свой десяток полтора рубля и притом рискует, что ему кто-нибудь вымажет селедкой лицо.
– Неужели это случается? Не может быть!
– Не только может быть, но не может не быть. Самому мне еще не приходилось никому обмазать рожу селедкой, но ежели я не делал этого, то, признаюсь, потому только, что раз, знаете, усядешься – лень встать. Но как хотите, а иногда просто гадко смотреть на него, mon oncle! Мы, например: мы приходим, садимся и едим – rien de plus simple! чего проще! Придет pekin и, во-первых, раз десять заглянет в прейскурант, во-вторых, начинает потирать себе руки и с каким-то идиотским наслаждением взвешивает, одной ли селедки ему спросить или побаловаться и кусочком сыру. Je vous demande un peu, si ce n'est pas revoltant! Скажите на милость, разве не возмутительно ли это! Ну, многие и не выдерживают, а вследствие этого, конечно, возникают печальные недоразумения. Но вы сами сейчас все это увидите, потому что одно из подобных недоразумений мы будем сейчас судить.
Нельзя себе представить ничего оригинальнее, как суд сумасшедших. Я не скажу, чтоб это был суд навыворот, или чтоб в приговорах его ощущались перерывы логики, но самое свойство поводов, из которых возникают судные дела, таково, что они нигде в другом месте не могут обнаружиться в такой конкретной, обнаженной форме, кроме сумасшедшего дома. Это будет, впрочем, совершенно понятно, если мы признаем, что сумасшествие само по себе есть, по преимуществу, обнажение тех идеалов человека, которые он, в нормальном состоянии, не решается выказать, иногда вследствие их детской незрелости, а иногда и вследствие того, что идеалы эти слишком явно идут вразрез с понятиями, имеющими ход на рынке. Здорового человека одинаково обуздывает и стыдливость, и боязнь прослыть опасным мечтателем. Ваня, например, даже лучшему приятелю ни за что не решился бы высказать, что мечты о марфорйевской карьере составляют всю основу его существования; теперь – он свободно раскрывал эти мечты всем и каждому не только не стыдясь, но даже с некоторым пафосом. Точно так же, в здоровом состоянии, Ваня, хотя в душе, разумеется, вполне оправдывал уместность и даже необходимость обмазывания селедкой лиц скромно завтракающих pekins, но в то же время он едва ли решился бы высказать это во всеуслышание. Теперь – он высказывал эту теорию без всякого смущения, и даже изумился бы, если б кому-нибудь вздумалось ее не признавать.
Суд кончен Содержание судоговорения будет предметом особенной статьи, имеющей войти в настоящий «Дневник». (Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.). Бьет около четырех часов; сумасшедшие устремляются в столовую.
– Теперь, mon oncle, я совершенно свободен, – говорит мне Ваня. Сначала мы обедаем у Дюссо, потом отправляемся в цирк, а затем…
Он наклоняется к моему уху и шепчет мне несколько слов, которых я не могу расслышать, но которые его самого приводят в неистовый восторг.
– Вы только вообразите себе: с усами! – взвизгивает он в заключение.
Само собою разумеется, все предположенные экскурсии мы сделали тут же, в стенах заведения. Но это было ясно только для одного меня: Ваня был убежден, что он выполняет тот самый круг, который выполнялся им и на свободе. Обед, поданный нам (мы обедали в его нумере), был обыкновенный больничный, но он, поглощая жиденький «протоньер», был совершенно уверен, что это soupe a la reine, который нигде так не приготовляется, как у Дюссо. За обедом он выпил целую бутылку отвратительного ревенного настоя, наивно убеждая меня, что это самый лучший коньяк, подобного которому, по маслянистости и концентрированности, нет в целом Петербурге.
– Я, по совету докторов, нынче только коньяк пью, – сказал он мне, шампанское и даже хереса – все предоставил детям. Бутылка коньяку за обедом – вот мой урок и затем, до вечера, n-i-ni, c'est fini ни-ни, кончено… Замечено из опыта, что шампанское бьет преимущественно в голову, et vous savez, при наших занятиях, c'est la derniere des choses si la tete n'est pas en ordre последнее дело, если голова не в порядке… Напротив того, коньяк прямо ударяет в ноги, и таким образом голова всегда остается свежа.
– Но мне кажется, что целая бутылка коньяку…
– C'est trop, vous trouvez! Вы находите, что это чересчур! Но поверите ли, мне этого почти недостаточно. Я пробовал, впрочем, доходить до двух бутылок, но тут встретился с чрезвычайно любопытным явлением. Что для меня одной бутылки мало – это факт, но важно то, что когда я приступаю к второй бутылке, то никогда не могу определить ту рюмку, при которой я делаюсь пьян или, лучше сказать, тот совпадающий известной рюмке момент, когда коньяк ударяет прямо в язык. Что-то среднее между двенадцатой и двадцатой рюмкой. Поэтому я принял себе за правило, до поры до времени, держаться одной бутылки, которую я, во всяком случае, могу выпить с уверенностью.
– А знаешь ли, многие в этом случае предпочитают водку…
– Знаю, mon oncle, и даже не раз думал об этом. Au fond В сущности., тут нет ничего удивительного, потому что водка имеет за себя многие и очень-очень веские преимущества. Во-первых, на меня лично она производит то действие, что у меня только уши потеют. Во-вторых, водка гонит мокроту, тогда как коньяк ее сосредоточивает. В-третьих – et c'est l'essentiel и это главное., – ее всякий может выпить втрое более, нежели коньяку, и, следовательно, всякий получает возможность и втрое больше убить времени. Mon oncle! notre plus grande ennemie – c'est cette sacree journee qui n'en finit pas! Дядюшка! наш величайший враг – это проклятый день, которому нет конца! A потому водка в этом смысле неоцененна. Но водка имеет один громадный недостаток: ее не принято пить столько, чтоб сделать из этого постоянное времяпрепровождение. Ну, а я, mon oncle, все-таки понимаю, что сзади меня стоят десятки поколений корнетов, которые и из глубины могил кричат: noblesse oblige! звание дворянина обязывает! И вот почему я пью коньяк.
– Vous etes un noble enfant, Jean! touchez la! Вы благородное дитя, Жан! вашу руку!
Мы обнялись и поцеловались. Я очень обрадовался, что наш разговор от водки незаметно перешел на политическую почву, потому что, признаюсь, мне было очень любопытно посондировать политические убеждения Вани. Что он консерватор – в этом я, конечно, не сомневался, но знает ли он сам, что он консерватор, и откуда пришло к нему его консерваторство, то есть сидело ли оно в нем от создания веков или просто пришло, как говорится, с печки – вот что особенно сильно интересовало меня и как родственника и как человека, лично заинтересованного в успехах русского консерватизма.
– Я очень рад, мой друг, встретить в тебе это благородство чувств, сказал я ему, – оно доказывает, что ты консерватор по убеждению. Не так ли?
– Mon oncle! – отвечал он мне, – je vous demande bien pardon прошу прощения., но мне кажется, что ваш вопрос прежде всего вопрос праздный. Я гонвед – и ничего больше. Если завтра потребуется, чтоб я был зуавом или янычаром, – я ничего против этого не имею. C'est la plus profonde de mes convictions! Это глубочайшее из моих убеждений. Затем, я пью коньяк c'est encore une conviction это опять-таки убеждение… Сверх того, если мне скажут: разорви! – я разорву. Si ce n'est pas la une conviction, je vous en felicite! Mon oncle! tel que vous me voyez Если это не убеждение, то что же это такое? Дядюшка! не кто иной, как я… – я уже сделал однажды гишпанскую революцию. И ежели графу Бейсту, или князю Бисмарку, или даже Садык-Паше угодно будет, чтоб я сделал гишпанскую революцию дважды, – я сделаю ее дважды. Все зависит от того, своевременно ли будут выданы мне прогонные деньги. Но ежели Садык-Паша скажет: treve de revolution! прекратить революцию! и на этот предмет тоже выдаст прогонные деньги – я пойду и прекращу! Потому что и делать революции, и прекращать их – a mon avis, c'est tout un! Voila! по моему мнению, одно и то же! Так-то!
– Но ведь это-то и есть истинный консерватизм, душа моя. Ты консерватор, ты глубочайший из консерваторов, только не отдаешь себе в этом отчета. Ты, по выражению Фета, никогда не знаешь, что будешь петь, но не знаешь именно потому, что твоя песня всегда созрела. Ты не рассуждаешь, потому что чувствуешь, что рассуждение и консерватизм – это, как бы тебе сказать…
– Конечно, если консерватизм состоит в том, чтоб не рассуждать, то я консерватор. Je suis toujours pour la bonne cause… Я всегда на стороне правого дела. понимаете ли вы меня? Ну, как бы вам это растолковать?.. Ну просто я всегда на той стороне, где начальство!
– Да, но вот ты указал разом три различных начальства: Бейст, Бисмарк и Садык-Паша. Неужели же для тебя безразлично быть по очереди консерватором в пользу каждого из них?
– Совершенно безразлично, mon oncle!
– Хорошо. Я знаю, что и такого рода консерватизм существует. Это консерватизм «de la bonne cause». Переезжают из страны в страну, в одной Дон-Карлосу услуги предлагают, в другой – Франческо, в третьей какому-нибудь Амураду. Но не чувствуешь ли ты, что таким образом ты впадаешь в опасный космополитизм и ставишь себя в ряды странствующих консерваторов, ни в чем не уступающих странствующим революционерам?
Ваня посмотрел на меня такими изумленными глазами, как будто хотел сказать: «Космополитизм! это еще что за зверь такой!»
– Космополитами, мой друг, – поспешил я растолковать ему, – называются такие люди, которые несколько равнодушно относятся к своему отечеству или, лучше сказать, недостаточно усердно следят за его границами по новейшим географическим учебникам…
– La patrie, mon oncle! mais je ne connais que cela! Et vous m'appelez cosmopolite! Oh! mon oncle! Отечество, дядюшка! я только это и признаю! А вы называете меня космополитом! О! дядюшка!
– Не огорчайся, душа моя, я не называю тебя космополитом, я только опасаюсь, чтоб «la bonne cause» не увлекла тебя дальше, чем нужно. Космополиты – это самые ужасные люди, мой друг! Их девиз: ubi bene ibi patria где хорошо, там и отечество., или, по-нашему: bene там, где больше дают подъемных и прогонных денег.
– Mais c'est encore tres joli, ca! Но это опять-таки очень хорошо!
– Ce n'est pas plus long que ca! Вот и все! – сказал он мне, показывая вексель.
– Ну, а теперь, Брошка, – брысь! Бери вексель в зубы, и чтоб духу твоего не пахло! Ainsi, vous connaissez le secret de mes operations financieres, mon oncle! Теперь вы знаете секрет моих финансовых операций, дядюшка! – продолжал он, когда еврей вышел, – que voulez vous! Nous tous, tant que nous sommes, nous ne faisons pas autrement! что поделаешь! Мы все, сколько нас ни есть, только так и поступаем! Не дают, подлецы, на других условиях! Да ведь и я тоже не промах. Да-с, любезный Брошка, тут еще будет судоговорение! Вы заметили, mon oncle, какую я штуку выкинул! «Обязуюсь заплатить, когда мне то заблагорассудится!» Ха-ха! Когда заблагорассудится! Да-с, тут еще будет… су-до-го-во-ре-ние! – И он так блаженно улыбался, говоря это, что мне невольно пришло на мысль: Ваня! о, если б ты всегда был помешан!
– Однако мне уж время проездку делать! надеюсь, mon oncle, что вы не откажетесь присутствовать при этом?
Мы прошли в большую залу, где была устроена гимнастика. Больные отчасти прогуливались в саду, а отчасти разбрелись по нумерам, и потому зала была пуста. Только один субъект, в куртке, в рейтузах, в кавалерийской фуражке без козырька и в грязновато-белых замшевых перчатках на руках, прохаживался взад и вперед по комнате, заложивши одну руку за спину. Это был меланхолик, юнкер Потапенко, добровольно принявший на себя роль ординарца при Ване. Он ожидал нас и при нашем появлении вытянулся и сделал рукою под козырек.
– Тесноват немного у нас манеж, – сказал мне Ваня, указывая на залу, серьезная проездка просто немыслима, а между тем требуют, чтоб солдат исполнял почти все то, что исполняется в цирке. Оттого-то все и идет у нас так себе, clopin-clopant кое-как… Благих намерений пропасть, а исполнение – швах. Просто жалость смотреть на лошадей, как они путаются. On ne veut pas comprendre que la bete doit avoir de l'espace devant elle! Не хотят понять, что лошадям нужно пространство! Грустно. Людей у нас нет, mon oncle! таких людей, которые могли бы понять! А впрочем, что же тут толковать! ведь мы с вами людей не сделаем! Позвольте-ка мне лучше рекомендовать моего коня жеребец Исполнительный! А-с? каков круп?!
Он указал рукой на деревянную, обшитую кожей и утвержденную на двух треножниках кобылу, служившую для каких-то гимнастических целей. Но он очень серьезно принимал ее за настоящего коня, потому что потрепал ее рукою и даже слазил посмотреть, что у нее под брюхом.
– У лошади, mon oncle, голова должна быть сухая, нога как стальная, круп круглый, широкий, как печь, c'est l'essentiel! это самое главное! Лошадь, которая имеет круп остроконечный…
Но вдруг речь его порвалась, и лицо, дышавшее приветливостью, потемнело. Он молча поманил указательным пальцем несчастного Потапенко, который ни жив ни мертв, словно неслышный зефир, подлетел к нему – и замер на месте, держа руки по швам.
– Это видишь? – с неизреченной непреклонностью во взоре и голосе спросил Ваня, указывая на какую-то неизмеримо малую величину, темневшуюся в виде пятнышка под воображаемым хвостом, – опять хвост не подмыт?
Потапенко, не переменяя положения, скосил глаза в указываемую сторону и проговорил:
– Виноват, ваше превосходительство! Вчера выпивши был!
– Пятнадцать! – твердо произнес Ваня, отпуская манием руки Потапенку, который, сделав направо кругом, зашагал к окошку и там опять замер руки по швам. – Ну вот хоть бы это! – продолжал Ваня, обращаясь ко мне, – телесные наказания уничтожены – mais au nom de Dieu! est-ce que cela a le sens commun! но ради бога! есть ли в этом здравый смысл! Где гарантии, спрашиваю я вас! Могу ли я отвечать за красоту фронта, если я не вооружен достаточными для того средствами! Исполнима ли подобная реформа! – нет, не исполнима! И вот почему никто и не исполняет ее! Это все равно что вот с новыми судами: исполнимы ли решения новых судов? – Нет, не исполнимы, а потому никто и не исполняет их! Суд там себе как хочешь оправдывай, но если нельзя этого выполнить – в результате все-таки… фюить! Or, je vous demande un peu Так скажите на милость., для чего же писать законы, коль скоро их не исполнять?!
Ваня проговорил все это так резонно, что мне просто казалось, что он рассказывает сущность передовой статьи, только что вычитанной им в одной из современных либеральных русских газет.
С последним словом он молодцом вскочил на деревянную кобылу, стегнул ее хлыстом и разом осадил. В продолжение получаса он проделывал передо мной на этом подобии лошади все, что, в нормальном состоянии, мог бы проделать на настоящей, живой лошади. Подбоченившись одной рукой, он делал вид, что другою держит поводья, и затем привскакивал на галопе, слегка трясся на рысях, наклонно и как бы устремляясь всем корпусом вперед, держал себя на марш-марше и проч., так что в конце концов совсем измучился и вспотел. Но это не мешало ему ни на минуту не прекращать бессвязной болтовни, из которой я узнал его предположения об устройстве международного цирка, насчет чего меня, впрочем, уже предупреждал доктор.
– Вы знаете, mon oncle, – говорил он, – что мне разрешено устроить здесь в Петербурге международный цирк. После международного статистического конгресса это будет второй опыт в том же роде. Ca sera grandiose et fantastique en meme temps Это будет грандиозно и вместе с тем фантастично., все мое сердобское имение пойдет туда. Ah! nous allons joliment festoyer, je vous en reponds! Ах! мы прекрасно отпразднуем, ручаюсь за это! Представьте себе громаднейшее здание в длину и ширину всего царицынского луга – вот мой цирк. Над зданием, вместо потолка, хрустальный свод; по бокам и углам, в виде приделов, теряющихся в неизмеримости пространства, найдут себе место частные цирки всех возможных национальностей; посередине будет расположена главная, интернациональная арена. Все, что можно найти в целом мире en fait de chiens et de chevaux по части собак и лошадей., – всем этим мы будем обладать. Но, главное, мы будем иметь и то, чего совсем нет нигде, – c'est la le point essentiel вот что существенно… При главной арене будет существовать целая комиссия скрещиваний (comme qui dirait, un ministere du progres как бы сказать, министерство прогресса.), которая именно будет иметь предметом выработку совершенно новых лошадиных и собачьих пород и мастей. Nous aurons des chevaux-leopards, des chevaux-hippopotames, des chevaux-rhinoceros. Et si la science arrive a creer des chevaux-aigles ou des chevaux-requins – nous en aurons les premiers echantillons У нас будут лошади-леопарды, лошади-гиппопотамы, лошади-носороги. И если наука дойдет до создания лошадей-орлов и лошадей-акул, – у нас будут их первые образцы… У нас будет свой главный доктор и свой адвокат. Против главного цирка, где теперь павловские казармы, мы поместим главное управление, которое будет заведовать всеми цирками и во главе которого я полагаю поставить Эмму Чинизелли с Эммой Браатц в должности товарища. Я думал было сделать главноуправляющим генерала Дитятина, но сообразил, что он не знает даже, что значит подмыть у лошади хвост. Во всякой губернии будет открыто один или два цирка – ca sera toute une reforme! это будет целый переворот! Разумеется, цирки будут открываться не вдруг, а постепенно, по мере средств, которыми будет располагать наше казначейство. Как быть! судьба всех реформ такова, и сибирским губерниям, быть может, совсем придется остаться без цирков! Посещение цирков будет обязательное, mais aussi nos cirques fonctionneront jour et nuit но в то же время наши цирки будут работать день и ночь… Мы обязываемся иметь лучших гимнастов, лучших жонглеров, лучших канатных плясунов и, как conditio sine qua non обязательное условие., летающего человека. Переход через Ниагару на слабо натянутом канате будет происходить каждый день. По вечерам будет даваться экстраординарное представление для избранных, в заключение которого имеет быть представлена борьба слона с носорогом. Cela coutera un argent fou Это будет стоить бешеных денег., но я надеюсь иметь субсидию. Que diable, l'etat peut bien se deranger pour une entreprise aussi grandiose! Кой черт, может же государство немного раскошелиться ради такого грандиозного предприятия! Все открытия и усовершенствования в мире лошадей и собак будут усвоены нами немедленно. Mon oncle! вы не поверите, если вам перечислить все, что сделано в последнее время в этой сфере! Нынче лошадь уже сидит на задних ногах, но кто может поручиться, что через год или два она не будет ходить на голове – tout comme un homme! совершенно как человек! Вот что мы вправе ожидать от лошади – от одной только лошади! Et les cochons de lait donc! Ну а поросята! Я уверен, что даже теперь между ними уж скрывается какой-нибудь газетный фельетонист! Подумайте, какие перспективы! Теперь вы видите какую-нибудь гусарскую кадриль: c'est triste, c'est mesquin, ca n'a ni verve, ni entrain! это бедно, жалко, в этом нет ни жара, ни увлечения! Тогда – вы увидите целые массы, целые сражения! Какая школа! сколько примеров доблести! Гусарские кадрили – parlez-moi de ca! Nous vous servirons des amazones! mille, dix mille, cent mille paires de hanches a la fois! – quel coup d'oeil! Et nous aurons des cabinets particuliers, s'il vous plait. Mon oncle! vous qui etes un vieux libertin да что толковать! Мы угостим вас амазонками! тысячу, десять тысяч, сто тысяч пар ляжек разом! – какое зрелище! А у нас будут и отдельные кабинеты, если вам угодно. Вы ведь старый распутник, дядюшка! (не говорите! знаю я, как вы в Проплеванной Название деревни (см. «Дневник провинциала в Петербурге»). (Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.) целые полки амазонок формировали!) – вы знаете, что в этом отношении Петербург находится, так сказать, в младенчестве. Мы все это разом двинем. Tout s'enchaine et se lie dans mon systeme, voyez-vous Как видите, в моей системе все пригнано друг к другу… За особенную плату я покажу Венеру, выходящую из морской пены, – на днях я даже подписываю по этому случаю с Корой Пирль контракт. Ah bah! Je suis patriote, mon oncle! Да-с! Я патриот, дядюшка! Я сказал себе: мы ездим в Париж, мы тратим там деньги – для чего! Не лучше ли будет, если мы устроим все это у себя и будем тратить наши деньги дома?! Mais n'est-ce pas, mon oncle?
Выпустивши этот поток речей, он ловко соскочил с лошади, сплюнул в сторону, как подобает усталому кавалеристу, и с благосклоннейшею улыбкой продолжал:
– Я в этом отношении даже дальше иду. Я так думаю, что если б у нас были охотники до парламентов, то вместо того чтоб заставлять ездить смотреть на них за границу, я бы дома завел свой собственный парламент: нате! смотрите! Вы подумайте только, mon oncle, каких одна Пензенская губерния корнетов в этот парламент вышлет! хоть сейчас на выводку… parole d'honneur! Не правда ли, дядюшка? 8 честное слово!
Признаюсь, заслышав слово «парламент», я несколько струсил и хотел замять разговор; но когда Ваня тут же примешал пензенских корнетов, то идея эта мне самому так понравилась, что я невольно воскликнул:
– Ну да… ежели собрать пензенских корнетов в одну кучу… a la bonne heure! в добрый час! В этом смысле… то есть в смысле выводки… парламент… Это был бы даже очень и очень важный шаг в истории нашего коннозаводства!
– А какая перспектива для цирка! Предположите хоть по одному корнету с уезда – ведь это был бы одновременный наплыв более семисот корнетов… подумайте-ка, mon oncle, сколько тут дел можно сделать!
Быть может, он развил бы свою мысль и далее, если б в эту минуту не влетел в зал бледный молодой человек, в фантастическом сюртуке военного покроя, который, с необыкновенно озабоченным видом, доложил, что судьи уже собрались и ожидают только Ваню, чтоб открыть заседание.
– Ну-с, делать нечего, сегодня нам к Одинцову ехать уж не приходится. Но завтра я вас угощаю, mon oncle, – это решено. J'ai un credit illimite! У меня неограниченный кредит! Правда, что я за каждый десяток устриц пишу вексель в восемь тысяч рублей, но так как я принял за правило вообще по векселям не платить, то выходит, что завтрак, во всяком случае, обходится мне несравненно дешевле, нежели какому-нибудь pekin штрафирке., который платит за свой десяток полтора рубля и притом рискует, что ему кто-нибудь вымажет селедкой лицо.
– Неужели это случается? Не может быть!
– Не только может быть, но не может не быть. Самому мне еще не приходилось никому обмазать рожу селедкой, но ежели я не делал этого, то, признаюсь, потому только, что раз, знаете, усядешься – лень встать. Но как хотите, а иногда просто гадко смотреть на него, mon oncle! Мы, например: мы приходим, садимся и едим – rien de plus simple! чего проще! Придет pekin и, во-первых, раз десять заглянет в прейскурант, во-вторых, начинает потирать себе руки и с каким-то идиотским наслаждением взвешивает, одной ли селедки ему спросить или побаловаться и кусочком сыру. Je vous demande un peu, si ce n'est pas revoltant! Скажите на милость, разве не возмутительно ли это! Ну, многие и не выдерживают, а вследствие этого, конечно, возникают печальные недоразумения. Но вы сами сейчас все это увидите, потому что одно из подобных недоразумений мы будем сейчас судить.
Нельзя себе представить ничего оригинальнее, как суд сумасшедших. Я не скажу, чтоб это был суд навыворот, или чтоб в приговорах его ощущались перерывы логики, но самое свойство поводов, из которых возникают судные дела, таково, что они нигде в другом месте не могут обнаружиться в такой конкретной, обнаженной форме, кроме сумасшедшего дома. Это будет, впрочем, совершенно понятно, если мы признаем, что сумасшествие само по себе есть, по преимуществу, обнажение тех идеалов человека, которые он, в нормальном состоянии, не решается выказать, иногда вследствие их детской незрелости, а иногда и вследствие того, что идеалы эти слишком явно идут вразрез с понятиями, имеющими ход на рынке. Здорового человека одинаково обуздывает и стыдливость, и боязнь прослыть опасным мечтателем. Ваня, например, даже лучшему приятелю ни за что не решился бы высказать, что мечты о марфорйевской карьере составляют всю основу его существования; теперь – он свободно раскрывал эти мечты всем и каждому не только не стыдясь, но даже с некоторым пафосом. Точно так же, в здоровом состоянии, Ваня, хотя в душе, разумеется, вполне оправдывал уместность и даже необходимость обмазывания селедкой лиц скромно завтракающих pekins, но в то же время он едва ли решился бы высказать это во всеуслышание. Теперь – он высказывал эту теорию без всякого смущения, и даже изумился бы, если б кому-нибудь вздумалось ее не признавать.
Суд кончен Содержание судоговорения будет предметом особенной статьи, имеющей войти в настоящий «Дневник». (Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.). Бьет около четырех часов; сумасшедшие устремляются в столовую.
– Теперь, mon oncle, я совершенно свободен, – говорит мне Ваня. Сначала мы обедаем у Дюссо, потом отправляемся в цирк, а затем…
Он наклоняется к моему уху и шепчет мне несколько слов, которых я не могу расслышать, но которые его самого приводят в неистовый восторг.
– Вы только вообразите себе: с усами! – взвизгивает он в заключение.
Само собою разумеется, все предположенные экскурсии мы сделали тут же, в стенах заведения. Но это было ясно только для одного меня: Ваня был убежден, что он выполняет тот самый круг, который выполнялся им и на свободе. Обед, поданный нам (мы обедали в его нумере), был обыкновенный больничный, но он, поглощая жиденький «протоньер», был совершенно уверен, что это soupe a la reine, который нигде так не приготовляется, как у Дюссо. За обедом он выпил целую бутылку отвратительного ревенного настоя, наивно убеждая меня, что это самый лучший коньяк, подобного которому, по маслянистости и концентрированности, нет в целом Петербурге.
– Я, по совету докторов, нынче только коньяк пью, – сказал он мне, шампанское и даже хереса – все предоставил детям. Бутылка коньяку за обедом – вот мой урок и затем, до вечера, n-i-ni, c'est fini ни-ни, кончено… Замечено из опыта, что шампанское бьет преимущественно в голову, et vous savez, при наших занятиях, c'est la derniere des choses si la tete n'est pas en ordre последнее дело, если голова не в порядке… Напротив того, коньяк прямо ударяет в ноги, и таким образом голова всегда остается свежа.
– Но мне кажется, что целая бутылка коньяку…
– C'est trop, vous trouvez! Вы находите, что это чересчур! Но поверите ли, мне этого почти недостаточно. Я пробовал, впрочем, доходить до двух бутылок, но тут встретился с чрезвычайно любопытным явлением. Что для меня одной бутылки мало – это факт, но важно то, что когда я приступаю к второй бутылке, то никогда не могу определить ту рюмку, при которой я делаюсь пьян или, лучше сказать, тот совпадающий известной рюмке момент, когда коньяк ударяет прямо в язык. Что-то среднее между двенадцатой и двадцатой рюмкой. Поэтому я принял себе за правило, до поры до времени, держаться одной бутылки, которую я, во всяком случае, могу выпить с уверенностью.
– А знаешь ли, многие в этом случае предпочитают водку…
– Знаю, mon oncle, и даже не раз думал об этом. Au fond В сущности., тут нет ничего удивительного, потому что водка имеет за себя многие и очень-очень веские преимущества. Во-первых, на меня лично она производит то действие, что у меня только уши потеют. Во-вторых, водка гонит мокроту, тогда как коньяк ее сосредоточивает. В-третьих – et c'est l'essentiel и это главное., – ее всякий может выпить втрое более, нежели коньяку, и, следовательно, всякий получает возможность и втрое больше убить времени. Mon oncle! notre plus grande ennemie – c'est cette sacree journee qui n'en finit pas! Дядюшка! наш величайший враг – это проклятый день, которому нет конца! A потому водка в этом смысле неоцененна. Но водка имеет один громадный недостаток: ее не принято пить столько, чтоб сделать из этого постоянное времяпрепровождение. Ну, а я, mon oncle, все-таки понимаю, что сзади меня стоят десятки поколений корнетов, которые и из глубины могил кричат: noblesse oblige! звание дворянина обязывает! И вот почему я пью коньяк.
– Vous etes un noble enfant, Jean! touchez la! Вы благородное дитя, Жан! вашу руку!
Мы обнялись и поцеловались. Я очень обрадовался, что наш разговор от водки незаметно перешел на политическую почву, потому что, признаюсь, мне было очень любопытно посондировать политические убеждения Вани. Что он консерватор – в этом я, конечно, не сомневался, но знает ли он сам, что он консерватор, и откуда пришло к нему его консерваторство, то есть сидело ли оно в нем от создания веков или просто пришло, как говорится, с печки – вот что особенно сильно интересовало меня и как родственника и как человека, лично заинтересованного в успехах русского консерватизма.
– Я очень рад, мой друг, встретить в тебе это благородство чувств, сказал я ему, – оно доказывает, что ты консерватор по убеждению. Не так ли?
– Mon oncle! – отвечал он мне, – je vous demande bien pardon прошу прощения., но мне кажется, что ваш вопрос прежде всего вопрос праздный. Я гонвед – и ничего больше. Если завтра потребуется, чтоб я был зуавом или янычаром, – я ничего против этого не имею. C'est la plus profonde de mes convictions! Это глубочайшее из моих убеждений. Затем, я пью коньяк c'est encore une conviction это опять-таки убеждение… Сверх того, если мне скажут: разорви! – я разорву. Si ce n'est pas la une conviction, je vous en felicite! Mon oncle! tel que vous me voyez Если это не убеждение, то что же это такое? Дядюшка! не кто иной, как я… – я уже сделал однажды гишпанскую революцию. И ежели графу Бейсту, или князю Бисмарку, или даже Садык-Паше угодно будет, чтоб я сделал гишпанскую революцию дважды, – я сделаю ее дважды. Все зависит от того, своевременно ли будут выданы мне прогонные деньги. Но ежели Садык-Паша скажет: treve de revolution! прекратить революцию! и на этот предмет тоже выдаст прогонные деньги – я пойду и прекращу! Потому что и делать революции, и прекращать их – a mon avis, c'est tout un! Voila! по моему мнению, одно и то же! Так-то!
– Но ведь это-то и есть истинный консерватизм, душа моя. Ты консерватор, ты глубочайший из консерваторов, только не отдаешь себе в этом отчета. Ты, по выражению Фета, никогда не знаешь, что будешь петь, но не знаешь именно потому, что твоя песня всегда созрела. Ты не рассуждаешь, потому что чувствуешь, что рассуждение и консерватизм – это, как бы тебе сказать…
– Конечно, если консерватизм состоит в том, чтоб не рассуждать, то я консерватор. Je suis toujours pour la bonne cause… Я всегда на стороне правого дела. понимаете ли вы меня? Ну, как бы вам это растолковать?.. Ну просто я всегда на той стороне, где начальство!
– Да, но вот ты указал разом три различных начальства: Бейст, Бисмарк и Садык-Паша. Неужели же для тебя безразлично быть по очереди консерватором в пользу каждого из них?
– Совершенно безразлично, mon oncle!
– Хорошо. Я знаю, что и такого рода консерватизм существует. Это консерватизм «de la bonne cause». Переезжают из страны в страну, в одной Дон-Карлосу услуги предлагают, в другой – Франческо, в третьей какому-нибудь Амураду. Но не чувствуешь ли ты, что таким образом ты впадаешь в опасный космополитизм и ставишь себя в ряды странствующих консерваторов, ни в чем не уступающих странствующим революционерам?
Ваня посмотрел на меня такими изумленными глазами, как будто хотел сказать: «Космополитизм! это еще что за зверь такой!»
– Космополитами, мой друг, – поспешил я растолковать ему, – называются такие люди, которые несколько равнодушно относятся к своему отечеству или, лучше сказать, недостаточно усердно следят за его границами по новейшим географическим учебникам…
– La patrie, mon oncle! mais je ne connais que cela! Et vous m'appelez cosmopolite! Oh! mon oncle! Отечество, дядюшка! я только это и признаю! А вы называете меня космополитом! О! дядюшка!
– Не огорчайся, душа моя, я не называю тебя космополитом, я только опасаюсь, чтоб «la bonne cause» не увлекла тебя дальше, чем нужно. Космополиты – это самые ужасные люди, мой друг! Их девиз: ubi bene ibi patria где хорошо, там и отечество., или, по-нашему: bene там, где больше дают подъемных и прогонных денег.
– Mais c'est encore tres joli, ca! Но это опять-таки очень хорошо!